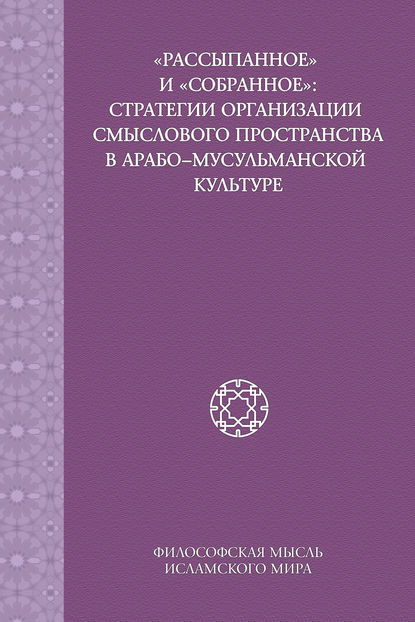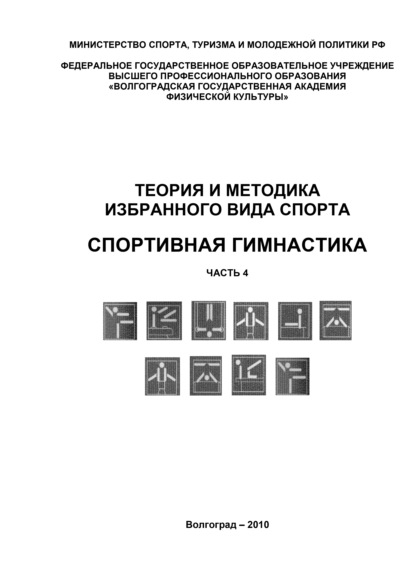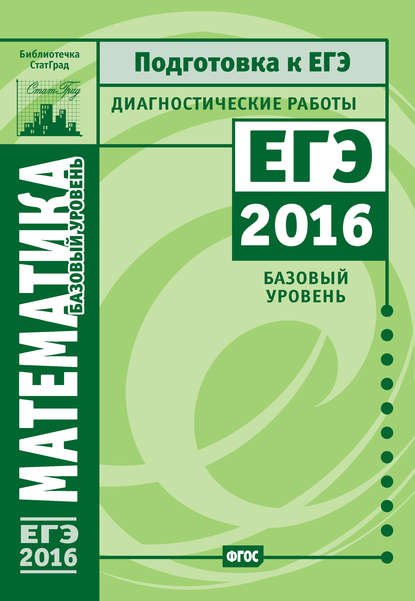Полная версия:
Коллектив авторов Руководство для государственного обвинителя
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

О. Н. Коршунова
Руководство для государственного обвинителя. Учебное пособие
© Коллектив авторов, 2011
© ООО «Юридический центр-Пресс», 2011
Введение
Современное законодательство и тенденции его развития, определяющие новое соотношение функций суда и прокурора в судебном разбирательстве, диктуют необходимость иного подхода к вопросам, связанным с поддержанием государственного обвинения, и разработки рекомендаций по использованию достижений криминалистики в судебном процессе.
С момента зарождения криминалистика является наукой, обеспечивающей достижение целей уголовного судопроизводства. Традиционно сложилось так, что криминалистика была ориентирована, прежде всего, на решение задач, возникающих на досудебных стадиях, т. е. при раскрытии и расследовании преступлений. Это обусловлено рядом причин, в том числе и существовавшими подходами к определению содержания деятельности тех государственных органов и лиц, которые должны выявлять, расследовать преступления, принимать предусмотренные законом меры к привлечению виновных в их совершении лиц к уголовной ответственности.
Вместе с тем на протяжении уже нескольких десятилетий предпринимаются весьма удачные попытки использования криминалистических знаний и рекомендаций, разработанных криминалистикой методов и средств в деятельности, осуществляемой участниками уголовного преследования в судебных стадиях. В настоящее время все чаще деятельность правоохранительных органов в различных стадиях уголовного процесса рассматривается в едином контексте. Наличие общих целей и задач позволяет рассматривать уголовное преследование как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных действий.
Уголовное преследование в соответствии с Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Это одно из направлений деятельности, которые прокуратура Российской Федерации осуществляет в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Важной составной частью уголовного преследования является поддержание государственного обвинения в суде первой инстанции.
Роль государственного обвинения в противодействии преступности сегодня приобретает особое значение и определяется Генеральной прокуратурой как одно из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры.[1]
Поддерживая в суде государственное обвинение, прокурор представляет одну из сторон процесса и одновременно несет ответственность за соблюдение законности в судебном разбирательстве.
В современных условиях, характеризуемых реализацией принципов независимости суда, состязательности и равенства сторон, государственный обвинитель не может зависеть от тех материалов, которые предоставлены в его распоряжение предварительным расследованием. Его поведение должно носить наступательный характер, он обязан не просто присутствовать при рассмотрении дела, а активно участвовать в исследовании доказательств, в установлении всех обстоятельств дела, в формировании у суда правильной позиции, в конечном итоге способствовать вынесению законного и обоснованного решения по делу.
На решение этих задач должны быть нацелены его профессиональные знания, умения и навыки.
Часть I
Общетеоретические и тактические аспекты участия государственного обвинителя в судебном разбирательстве в суде первой инстанции
Глава 1
Государственный обвинитель как субъект уголовного преследования и участник познавательного процесса
§ 1. Уголовное преследование, осуществляемое государственным обвинителем: понятие, виды и классификации
В Законе РФ «О прокуратуре Российской Федерации» закреплено положение, согласно которому государственный обвинитель, участвуя в судебном разбирательстве по уголовным делам, осуществляет уголовное преследование. При этом он должен руководствоваться правилами и принципами уголовно-процессуального законодательства. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ государственный обвинитель – это поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а поддержание государственного обвинения в суде, в свою очередь, – лишь составная часть уголовного преследования, осуществляемого от имени государства в предусмотренных законом случаях. Поэтому представляется необходимым рассмотрение основных вопросов, связанных с организацией деятельности государственного обвинителя, предварить кратким исследованием общих вопросов уголовного преследования в целом: его понятия, сущности, видов, принципов, субъектов, методов организации.
Понятие уголовного преследования не является новым для российского законодательства. Тем не менее на протяжении многих лет существовавшее как теоретическая конструкция либо определенная практическая деятельность уголовное преследование привлекает внимание ученых, вызывая серьезные размышления и дискуссии.
Основное внимание учеными уделялось и уделяется процессуальному аспекту проблемы, в меньшей степени исследованной представляется гносеологическая сущность уголовного преследования. Выступая в качестве формы и содержания, они тесно взаимосвязаны. Их значение трудно переоценить. Форма предопределяет содержание деятельности, в свою очередь, результаты исследования деятельности могут не только выступить в качестве основы для выработки наиболее эффективных средств, способов и методов ее осуществления, но и стимулировать совершенствование формы.
Поскольку наиболее полное представление об объекте познания можно получить только с учетом результатов изучения исторического аспекта проблемы, то исследование уголовного преследования как уголовно-процессуальной категории ряд ученых начинают с определения того момента в истории государства и права, с которым связано появление уголовного преследования в России. Следует отметить, что в литературе нет единого мнения о моменте начала использования данного понятия в российской юридической технике. Впервые собственно понятие уголовного преследования (точнее, судебного преследования) законодатель использовал в Уставе уголовного судопроизводства (20 ноября 1864 г.) (далее – Устав).
Однако отдельные авторы считают возможным в связи с исследуемым понятием упоминать более ранний законодательный акт – «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» (март 1715 г.)[2] (далее – «Краткое изображение»).
Существенные изменения в систему и полномочия органов, связанных в той или иной степени с уголовным преследованием, внесла судебная реформа 1864 г. Первым из законодательных актов реформы было «Учреждение судебных установлений» (20 ноября 1864 г.).
Этот акт не только ввел новую систему судов в России, но и закрепил ее принципиальное отличие от дореформенной системы – всесословность[3]. Он также содержал нормы, достаточно подробно, в отличие от предыдущих актов, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры. Этим вопросам был посвящен самостоятельный раздел третий «О лицах прокурорского надзора». В указанном разделе были закреплены строгая иерархическая дисциплина, единоначалие и независимость прокуроров от каких бы то ни было местных, административных и судебных органов (ст. 129).
Задачи прокуратуры в соответствии с «Учреждением судебных установлений» охватывали надзор за единообразным соблюдением законов, возбуждение уголовного преследования, участие в уголовном и гражданском судопроизводствах.[4]
Данные положения получили свое развитие в Уставе уголовного судопроизводства (20 ноября 1864 г.), после принятия которого на смену инквизиционному процессу приходит состязательный. Именно в ст. 1 Общих положений впервые появился термин «уголовное преследование» («судебное преследование»). Закреплены были и такие важные процессуальные положения, как возможность возбуждать судебное преследование как должностными, так и частными лицами (ст. 2), право поддерживать частное обвинение в мировых судах потерпевшими (ст. 3), обязанность прокуроров и их товарищей поддерживать обвинение по уголовным делам, подведомственным общим судебным установлениям (ст. 4) и др.[5]
Прокурор в соответствии с Уставом не производил расследования, а давал «предложения судебному следователю» и постоянно наблюдал «за производством сих следствий» (ст. 278). По производству же дознания полицейские чины состояли в непосредственной зависимости от прокуроров и их товарищей (ст. 279).
Таким образом, многие и ныне действующие положения, связанные с осуществлением уголовного преследования и лицами, которые его осуществляют, их полномочиями и взаимоотношениями, были установлены еще в ходе судебной реформы 1864 г.
В послеоктябрьский период Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. также использовал понятие «уголовное преследование». Но в УПК РСФСР 1961 г. этот термин уже отсутствовал и вновь появился в уголовно-процессуальном законодательстве в начале XXI в. с введением Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Существенные изменения законодательства не могли не вызывать интереса ученых к исследованию проблем, связанных с уголовным преследованием. Эти проблемы рассматривали в своих работах такие видные отечественные ученые, как С.И. Викторский, Д.Т. Тальберт, И.Я. Фойницкий.[6] Разработкой теории уголовного преследования активно занимались М.С. Строгович, М.А. Чельцов-Бебутов, Н.Н. Полянский, Ф.Н. Фаткуллин, П.С. Элькинд, А.М. Ларин и др.[7] Сегодня вопросы уголовного преследования рассматривают А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, С.П. Щерба, А.Г. Халиуллин, Н.А. Якубович, А.П. Лобанов, О.Я. Баев и др.[8]
Помимо исторического аспекта проблемы наиболее существенные споры связаны с определением содержания указанного понятия.
В зависимости от подхода к определению процессуального понятия уголовного преследования существующие в литературе точки зрения прежде всего можно объединить в две группы.
Достаточно распространенной в начале XX в. и сохранившей актуальность позже является точка зрения, в соответствии с которой понятия «уголовное преследование» и «обвинение» тождественны. В разные годы такую позицию высказывали в своих работах А.Я. Фойницкий[9], М.С. Строгович[10], А.М. Ларин[11].
Другая группа ученых в той или иной мере обосновывала тезис, согласно которому понятие «уголовное преследование» шире, чем понятие «обвинение», т. е. рассматриваемые понятия соотносятся как общее и частное. К этой группе следует отнести Н.Н. Полянского[12], П.С. Элькинд[13], Д.С. Карева[14], Н.А. Якубович[15], А.Б. Соловьева, М.Е. Токареву, А.Г. Халиуллина[16] и других ученых[17]. Указанная позиция представляется более приемлемой на данном этапе развития теории уголовного преследования по нескольким причинам.
Прежде всего следует учитывать, что отождествление уголовного преследования с обвинением неизбежно приводит к выводу о том, что основным содержанием уголовного преследования являются предъявление и поддержание обвинения конкретного лица. На самом деле представляется, что основным содержанием уголовного преследования является такой процесс изучения обстоятельств преступления, который приводит к законному и обоснованному выводу о совершении этого преступления определенным лицом (лицами). Этот вывод на различных этапах уголовного процесса формулируется в постановлениях о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительном заключении и обвинительном приговоре. Сложность и многофакторность процесса исследования обстоятельств преступления объективно на том или ином этапе могут привести к ошибочному выводу о виновности лица. Объем доказательств, достаточный для предъявления обвинения на одном этапе уголовного преследования, может оказаться совсем недостаточным для передачи уголовного дела в суд и тем более для вынесения обвинительного приговора. Отказ от обвинения конкретного лица, ранее привлеченного в качестве обвиняемого, не означает безусловного прекращения уголовного преследования с целью отыскания того, кто фактически совершил преступление.
Справедливым представляется мнение о том, что обвинение – неотъемлемый и существенный элемент уголовного преследования, но не его синоним[18].
Принимая во внимание, что деятельность по осуществлению уголовного преследования, в том числе и деятельность государственного обвинителя, многопланова и многоаспектна, целесообразно согласиться с необходимостью различать процессуальную и познавательную составляющие указанной деятельности. Содержание деятельности государственного обвинителя в суде первой инстанции во многом определяется его процессуальным положением. Используемые им методы, приемы и способы осуществления такой деятельности также должны отвечать требованиям закона. Очевидно, что полномочия государственного обвинителя в суде первой инстанции определены процессуальным законодательством. Основные положения, определяющие порядок его участия в судебном разбирательстве, также законодательно закреплены. Вместе с тем процессуальные нормы не предусматривают и не должны предусматривать всех вариантов, всех особенностей познавательной деятельности государственного обвинителя.
На современном этапе разработки указанного комплекса вопросов подавляющее большинство авторов рассматривают уголовное преследование исключительно как уголовно-процессуальную функцию и ограничиваются рамками уголовного процесса как специфической деятельности. Соглашаясь с необходимостью глубокого исследования процессуального аспекта проблемы, полагаем справедливой точку зрения, в соответствии с которой уголовное преследование – явление более широкое и не ограничивается рамками только уголовно-процессуальной деятельности[19].
Уголовное преследование необходимо рассматривать как познавательный процесс.
Ранее при исследовании и обсуждении проблем, связанных с деятельностью по осуществлению уголовного преследования, как нам представляется, авторы исходили из необходимости разграничения стадий уголовного судопроизводства для определения целей и задач, стоящих перед участниками уголовного процесса. Самостоятельно исследовались проблемы применительно к досудебным стадиям, определенное внимание уделялось и изучению проблем поддержания государственного обвинения в суде.
С развитием принципа состязательности ситуация изменилась: на первый план выдвинулись иные вопросы, иные подходы к определению ролей и функций участников уголовного судопроизводства. Это требует переосмысления существовавших ранее подходов к определению понятия «уголовное преследование», его принципов и тех составляющих, которые были сформулированы и сложились в соответствии с ранее действовавшим законодательством, а также были предложены в его развитие учеными. Требуют переосмысления и подходы к определению содержания процесса познания, осуществляемого государственным обвинителем. В настоящее время представляется возможным сосредоточить внимание на криминалистических проблемах, которые возникают в связи с организацией и осуществлением его деятельности.
Исследование этих проблем имеет большое теоретическое и практическое значение. Прежде всего должна быть создана теоретическая база для разработки новых и совершенствования уже имеющихся методов и методик организации и осуществления деятельности государственного обвинителя.
Несомненно, существуют некоторые общие закономерности, которые определяют характер и направления такой деятельности независимо от особенностей события преступления того или иного вида, группы, категории. Анализ таких закономерностей в логической взаимосвязи с закономерностями более частного характера должен привести к созданию такой теоретической базы, на основе которой будет сформирована система научно обоснованных методов и методик. При этом в качестве частных рассматриваются закономерности, отражающие специфику деятельности государственного обвинителя в зависимости от того, в рассмотрении уголовного дела о преступлении какого вида, группы, категории ему предстоит участвовать.
Только посредством системного подхода можно уяснить криминалистическую сущность осуществляемого государственным обвинителем уголовного преследования как познавательного процесса, сформулировать его основные принципы и правила, разработать максимально эффективные методы осуществления деятельности рассматриваемого вида.
С другой стороны, прочная теоретическая и методологическая основа обеспечивает возможность и целесообразность использования разработанных методов и методик в практической деятельности государственного обвинителя.
Еще в «Учреждении судебных установлений» 1864 г. было закреплено правило, согласно которому «лица прокурорского надзора действуют единственно на основании своего убеждения и существующих законов» (ст. 130)[20].
Обсуждение сложных вопросов организации криминалистической деятельности по обеспечению целей и задач уголовного преследования невозможно без решения ряда проблем общего характера. Поэтому прежде всего следует определить криминалистическое содержание понятия «уголовное преследование», то, как оно соотносится с понятием «уголовное судопроизводство», и т. п. При этом криминалистическое значение рассматриваемого понятия не противопоставляется и не может противопоставляться его процессуальному значению. Речь идет лишь о том, чтобы определить содержание этого понятия, исходя из криминалистических подходов к исследованию события преступления, к организации деятельности государственного обвинителя по осуществлению уголовного преследования лиц, совершивших преступление.
По нашему мнению, следует различать понятие «уголовное преследование», употребляемое в узком и широком смыслах.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет уголовное судопроизводство как совокупность двух составляющих: досудебного и судебного производства. В свою очередь судебное разбирательство определяется как судебные заседания судов первой, второй и надзорной инстанций (п. 9, 51, 56 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).
Под уголовным преследованием в узком (процессуальном) смысле следует понимать деятельность, осуществляемую стороной обвинения (прокурором, следователем, дознавателем, частным обвинителем, потерпевшим, его законным представителем и (или) представителем, гражданским истцом и его представителем) в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 47,55 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).
Поскольку сторонами являются только те участники уголовного судопроизводства, которые выполняют на основе состязательности функцию либо обвинения, либо защиты от обвинения, то, соответственно, можно сказать, что сторону обвинения представляют те участники уголовного судопроизводства, которые выдвигают и обосновывают утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (п. 22 ч. 1 ст. 5 УПК РФ). Таким образом, деятельность государственного обвинителя в суде первой инстанции является составляющей уголовного преследования в узком (процессуальном) смысле.
Понятия «государственное обвинение в суде» и «уголовное судопроизводство» соотносятся как частное и общее. Однако такое соотношение не позволяет определить содержание деятельности государственного обвинителя в полном объеме.
В зависимости от избираемых приемов и методов осуществления уголовного преследования следует различать деятельность государственного обвинителя правомерную либо неправомерную. Правомерной она будет в том случае, если государственный обвинитель реализует свои полномочия и организует деятельность в соответствии с теми требованиями и правилами, которые определены уголовно-процессуальным законодательством. Неправомерной либо противоправной такая деятельность будет при условии, если государственный обвинитель существенно нарушит указанные правила, отступит от них по той или иной причине.
Причем независимо от целей, преследуемых им, результаты неправомерно осуществляемого уголовного преследования не только не могут служить основой для принятия законного решения, но могут дать право другим субъектам на осуществление уголовного преследования по факту совершения нового преступления.
Правомерное уголовное преследование осуществляется с использованием процессуальных возможностей по оценке собранных в досудебных стадиях уголовного преследования доказательств, а также возможностей участия в исследовании их судом первой инстанции. Неправомерной такая деятельность будет в случае осуществления ее как с фрагментарными нарушениями или отступлениями от требований закона (например, использование методов и средств, противоречащих букве и духу закона, и т. п.), так и полностью противоправно (например, поддержание государственного обвинения ненадлежащим субъектом).
Государственный обвинитель получает право осуществлять уголовное преследование с момента решения вопроса о поручении ему исполнения соответствующей функции. С этого же времени у него возникает обязанность осуществлять уголовное преследование при отсутствии обстоятельств, исключающих такую возможность.
С момента получения государственным обвинителем соответствующего поручения у него возникают право и обязанность начать деятельность, направленную на изучение материалов уголовного дела, которые содержат информацию о:
– собранных по делу доказательствах, подтверждающих факт обнаружения события преступления, а также факт совершения его лицами, привлеченными к уголовной ответственности;
– ходе и результатах собирания, исследования и оценки указанных доказательств в досудебных стадиях уголовного преследования;
– принятых по делу процессуальных и иных решениях.
Эта деятельность имеет большое криминалистическое значение, поскольку именно на данном этапе может и должна быть собрана первая криминалистически значимая информация, исходя из которой будут решаться не только процессуальные, но и тактико-методические вопросы (о выдвижении версий, определении направлений деятельности, выборе технических, тактических и методических средств, приемов и методов и т. п.). Она предшествует осуществлению государственным обвинителем уголовного преследования в узкопроцессуальном смысле, однако, по нашему мнению, представляет собой неотъемлемую часть его познавательного процесса, обеспечивая возможность, успешность и эффективность этого процесса с информационной точки зрения. Поэтому такая деятельность должна осуществляться правомерными способами, основываться на результатах познания тех общих закономерностей, которые отражают сущность рассматриваемого вида деятельности.
Вместе с тем важно определить не только момент начала этой деятельности, но и момент ее окончания. Представляется, что она не заканчивается и не может заканчиваться прекращением уголовного преследования. Традиционными для криминалистической науки задачами являются выработка методов, приемов и средств не только выявления, изобличения и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступления, но и выявления причин и условий, которые способствовали совершению этих преступлений, для организации профилактики и предупреждения их совершения в будущем.
Приемы, способы и средства, призванные способствовать повышению эффективности познавательной деятельности государственного обвинителя, составляют ее сущность, одновременно расширяя рассмотренное выше процессуальное понятие.
Таким образом, необходимо и целесообразно рассматривать понятие государственного обвинения в более широком, чем собственно процессуальный, смысле. Поскольку содержание этого понятия предполагается определять, исходя из криминалистических целей и задач, то и предлагаемое более широкое понятие будет криминалистическим.
В любом случае возможно существование нескольких разновидностей познавательной деятельности, выделение которых необходимо для уяснения сущности деятельности государственного обвинителя по осуществлению уголовного преследования и разработке более детальных рекомендаций по осуществлению этой деятельности в целом и каждого ее вида в отдельности. При этом классификации могут быть проведены по различным основаниям. Остановимся на нескольких, представляющихся наиболее значимыми.
Содержание деятельности по осуществлению уголовного преследования, в том числе и деятельности государственного обвинителя, во многом определяется тем, какое преступление совершено. В связи с этим классификацию видов уголовного преследования, осуществляемого в суде первой инстанции, следует проводить в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления. Действующее уголовно-процессуальное законодательство закрепило существование трех видов процессуального уголовного преследования: осуществляемого в публичном, частно-публичном и частном порядке (ст. 20 УПК РФ).