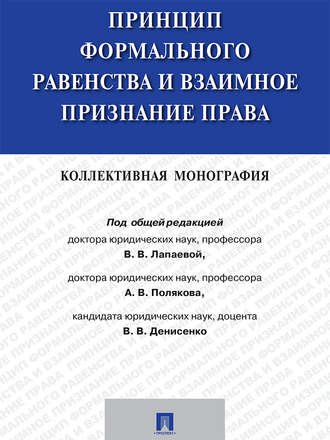
Коллектив авторов
Принцип формального равенства и взаимное признание права. Коллективная монография
Принцип формального равенства и взаимное признание права
Коллективная монография
Под общей редакцией
доктора юридических наук, профессора
В. В. Лапаевой,
доктора юридических наук, профессора
А. В. Полякова,
кандидата юридических наук, доцента
В. В. Денисенко

ebooks@prospekt.org
Информация о книге
УДК 34
ББК 65.27
П75
Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора В. В. Лапаевой, доктора юридических наук, профессора А. В. Полякова, кандидата юридических наук, доцента В. В. Денисенко.
Рецензенты:
Луковская Д. И. – доктор юридических наук, заведующая кафедрой теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета;
Малиновский А. А. – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) (Москва);
Малахов В. П. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.
Коллективная монография включает главы, посвященные взаимосвязи взаимного признания и принципа формального равенства в современном праве. Данная проблематика рассматривается авторами с формально-догматической, социологической, исторической, политической и философской сторон.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Для исследователей, аспирантов и студентов социальных и гуманитарных специальностей.
УДК 34
ББК 65.27
© Коллектив авторов, 2016
© ООО «Проспект», 2016
Предисловие к коллективной монографии
М. А. Беляев, В. В. Денисенко
Вниманию читателя предлагается коллективный труд, посвященный таким принципам правового общения, как формальное равенство, взаимное признание и легитимность.
Понятие легитимности традиционно использовалось в политическом дискурсе применительно к власти. Политический строй (порядок управления) можно считать легитимным, если институты власти в нем пользуются поддержкой населения, отдельных больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) и т. п. Известный американский социолог М. С. Липсет предлагает различать эффективность политической системы и ее легитимность по следующим основаниям:
1) эффективность показывает, насколько удачно решаются в системе политические проблемы, а легитимность – насколько актуальны и крепки в обществе убеждения, что существующие политические институты являются наилучшими;
2) эффективность имеет инструментальное измерение, а легитимность – аффективное, оценочное. Последнее, кроме очевидной неопределенности любого обособленного критерия легитимности, предполагает следующее: некая группа воспринимает данную политическую систему как легитимную тогда и только тогда, когда ценности, провозглашаемые системой, совпадают с множеством ценностей, разделяемых данной группой. Поэтому легитимным может быть абсолютно любой режим, в том числе и деспотический1.
Суммируя сказанное выше, легитимность можно рассматривать как признание, объяснение и оправдание социального порядка, действия соответствующего субъекта или события. В таком случае легитимность как юридическая категория указывает на положительное отношение жителей страны, общественного мнения к действующим в государстве законам, правовым институтам, признание их правомерности, уместности, существование «спроса на право».
Задачей правовой теории является определение необходимых и достаточных условий легитимности правопорядка. Первым таким условием следует считать моральное содержание суждений субъектов о действующем праве. Иными словами, правовая система может быть достаточно устойчивой и достаточно рациональной, если межсубъектные взаимодействия помимо «технического» компонента (отражающегося в правоотношениях, например, в виде оптимизации трансакционных издержек и пр.) включают ценностную (или идеологическую) составляющую. Ценность права в свою очередь может быть понята двояко: как результат взаимного признания субъектов и как форма такого признания.
Дискус о легитимности права вызван к жизни не только чисто научной потребностью переосмысления отдельных понятий правовой теории, но и самой жизнью, одной из характерных черт которой выступает чрезмерное нормативное регулирование, создающее значительные трудности как для правоприменителей, так и для иных субъектов. Возрастающее количество правовых норм ставит под сомнение их эффективность и разумность. Если верно, как это утверждают сторонники критической теории общества, что приемлемость правила поведения обусловлена приемлемостью процедуры обсуждения данного правила, то такое обсуждение невозможно без участия гражданского общества в виде различных его институтов. Следовательно, взаимное признание является необходимым условием юридической легитимности.
Взаимное признание в сфере права предполагает моральное знание субъекта о том, что у него есть правовое обязательство по отношению к другим автономным личностям. При этом правовая система лишь тогда может быть легитимной, когда это знание развито и воплощено институционально и концептуально (идеологически).
Принцип формального равенства, которому посвящено большинство глав данной книги, как раз и выступает концептуальным обоснованием того предельного результата, который только и может быть достигнут правовой системой, если она развивается на рациональных началах.
В отечественной науке приоритет в полноценной мировоззренческой проблематизации принципа формального равенства принадлежит В. С. Нерсесянцу. Разработанная им либертарная концепция права недвусмысленно определяет формальное равенство как конституирующий признак права. При этом формальное правовое равенство трактуется В. С. Нерсесянцем как триединство таких внутренне взаимосвязанных и предполагающих друг друга компонентов, как равная мера, свобода и справедливость.
Формальный характер правового равенства – не фактическое положение дел, что видно уже из названия. Никакие явления социальной жизни не могут быть тождественны чему-то, кроме себя (да и этот вариант в действительности есть идеализация, отстраняющаяся от факта движения во времени, то есть развития). Ни право, ни иная нормативная система не могут уравнять между собой двух субъектов, ибо их несхожесть конституирована самостоятельно по отношению к нормативной регуляции (и во времени складывается до нее). Следовательно, речь может идти об абстракции, при этом абстракция имеет не техническое, а идеологическое содержание.
Как верно замечает В. В. Лапаева, «только когда мы максимально абстрагируемся от внешних характеристик человека и рассматриваем человека в его наиболее абстрактном, сущностном выражении, то есть как существо, наделенное (в силу своей разумности) свободной волей, сфера равенства между людьми приобретает всеобщий характер, а отношения между ними становятся общезначимыми. Форму отношений между людьми как абстрактными лицами мы называем правом, сами эти отношения – правовыми отношениями, а людей, выступающих в своих наиболее абстрактных проявлениях, лишенных каких-либо фактических социобиологических особенностей, называем формально равными друг другу субъектами права, то есть лицами, обладающими равной правоспособностью»2.
Правовой порядок, таким образом, конституирован процессами взаимного признания субъектов, «поверхность взаимодействия» которых организована по принципу формального равенства возможностей. За этим стоит антропологическая презумпция свободной воли индивида и его способности артикулировать собственные интересы наиболее выгодным с точки зрения социальной коммуникации образом. Функционирующая на этой основе правовая система существенно отличается от любой другой нормативной системы, поскольку ее центром, ядром выступают подвижные, динамичные объекты, в сущности – процессы правовой коммуникации, легитимирующие или делегитимирующие определенный порядок. Правовая система – это прежде всего рациональные и иррациональные практики, а не структурно оформленные прескрипции. Дискурсы в публичной сфере гарантируют ее автономность по отношению как к государству, так и к экономическим структурам, не позволяя административным механизмам отчуждать право от субъекта, а субъекта – от его собственных возможностей.
Таким образом, вывод о неразрывной связи взаимного признания и формального равенства очевиден. Но он становится возможным только в контексте коммуникативной рациональности – социокультурной модели модернизации, гуманизации и интеграции общества, в основе которой лежит идея человеческих действий, осуществляемых посредством символического обмена на основе критически осмысленных (отрефлексированных) ценностных установок. Поэтому взаимное признание обнаруживает себя в сочетании с формальным равенством как сущностью права, а с другой стороны – с делиберативной демократией как желательной моделью коммуникации власти и общества.
Завершая предисловие, мы хотели бы отметить, что ни одна стратегия устойчивого социального развития не может быть эффективно реализована, а ни одна проблемная ситуация – решена одним лишь уплотнением нормативной регуляции. Без и вне отрефлексированной позиции субъекта по отношению к другому субъекту их взаимодействие обречено на механицизм. В политической сфере это влечет тотализацию бюрократического подхода к постановке и решению общезначимых проблем. Противостоять этому может лишь разумное дискурсивное сообщество, подвергающее осмыслению и интерпретации правила собственного существования. Применительно к правовой системе таким правилом является принцип формального равенства, а условием его действенности – механизм взаимного признания носителей субъективных прав. Исследованию данной проблематики и посвящена настоящая монография – первое комплексное исследование подобного рода в отечественной правовой науке. Мы абсолютно уверены в том, что оно, кроме того, и не последнее.
Глава 1
Принцип формального равенства как сущностный принцип права
В. В. Лапаева
Положение о формальном равенстве как о сущностном признаке права составляет квинтэссенцию либертарно-юридической теории3, разработанной академиком РАН В. С. Нерсесянцем (1938–2005), и лежит в основе либертарно-юридического типа правопонимания как самостоятельного направления философско-правовой мысли, трактующего право как правовой закон – то есть как источник позитивного права, соответствующий принципу формального равенства. Внутренняя взаимосвязь между понятием права и принципом равенства людей в их социальном взаимодействии с той или иной мерой последовательности признается во всех концепциях правопонимания, однако лишь в либертарно-юридической теории правовой принцип равенства трактуется как отличительный признак права, присущий любому правовому явлению и отсутствующий в любом явлении неправового характера4. Формальное равенство, согласно трактовке автора, выражается через «единство трех подразумевающих друг друга сущностных свойств (характеристик) права – всеобщей равной меры регуляции, свободы и справедливости»5, а само право определяется как «соответствующая требованиям формального равенства система норм, установленных или санкционированных государством и снабженная мерами государственного принуждения»6 [здесь и далее в цитатах курсив наш – В. Л.].
Когда мы говорим о равенстве без каких-либо оговорок, то речь идет о чисто абстрактном математическом или логическом равенстве как тождестве. В реальном же мире нет ничего равного: ни один объект не может быть равен даже самому себе, если его рассматривать в меняющемся времени и пространстве. В этом смысле все еще популярное в отечественной юриспруденции понятие «фактическое равенство»7, доставшееся ей как социалистическое наследство, является, как писал В. С. Нерсесянц, противоречием в понятии8. Поэтому если пользоваться понятийным, а не обыденным словарем, то речь может идти только о формальном равенстве (формальном в том смысле, в каком И. Кант определял форму в качестве принципа упорядочивания чувственно данного многообразия реальности9).
Для уяснения содержания и научно-практического потенциала либертарно-юридической теории ее следует рассматривать в контексте исторической тенденции, связанной с рационализацией процессов осмысления права, – тенденции, которая, как отмечал В. С. Нерсесянц, отчетливо проявляется уже в I тыс. до н. э. во всех культурных центрах тогдашнего мира в форме «постепенной десакрализации и рационализации исходных мифических представлений об общественной жизни, политике, государстве и праве и возникновения зачатков теоретических воззрений в разных областях социально-политического знания у разных народов»10. Существенное ускорение этот процесс получает в Западной Европе в эпоху Нового времени, когда религиозные догматы, выполнявшие роль критерия правовых начал, постепенно оттесняются конвенциональными морально-нравственными нормами справедливости и авторитет священного «замещается авторитетом достигнутого консенсуса»11. В наши дни суть процесса рационализации правопонимания заключается в том, что от представлений, согласно которым право должно соответствовать неким внешним по отношению к нему морально-нравственным критериям справедливости, теория права движется к тому, что справедливость – это имманентная характеристика самого права, непосредственно связанная с принципом равенства.
Можно, по-видимому, сказать, что теория права на новом витке познания возвращается к истокам античной рациональности12, в основе которой лежала идея внутренней взаимосвязанности права и политической справедливости, определяемой через равенство. Это проявляется, в частности, в стремлении уйти от метафизической трактовки справедливости как некоего, говоря словами О. Холмса, «всеприсутствия, нависающего с небес»13, и как-то соединить право и справедливость в плоскости эмпирически верифицируемых политико-правовых отношений. Если обратиться к таким ключевым фигурам современной философии права, как Ю. Хабермас, Р. Дворкин, Л. Фуллер, Р. Алекси, то все они в вопросах правопонимания движутся, хотя и по-разному, в сторону включения идеи справедливости в реальное политико-правовое пространство14. Общая ориентация философско-правовой мысли на рационализацию правопонимания получила свое дальнейшее логическое развитие в либертарно-юридической теории В. С. Нерсесянца, в рамках которой справедливость – это не просто имманентная, а сущностная характеристика права как формы свободы: справедливость есть результат применения равной меры к фактическому многообразию отношений с целью правового их упорядочивания, обеспечивающего равенство в свободе. В этом смысле право всегда справедливо и «только право и справедливо»15.
Таким образом, право представляет собой нормативное выражение наиболее значимых для человеческого сообщества феноменов – свободы и справедливости. Человек, реализуя свою природу разумного существа, обладающего свободной волей, – стремится к свободе. Свобода может быть гарантирована каждому члену общества лишь в рамках справедливого общественного устройства, базирующегося на принципе равенства, согласно которому человек свободен в своих действиях до тех пор, пока он не нарушает свободу другого человека. С позиций такого подхода свобода предстает как внутренняя потребность индивида, а справедливость – как цель общественного развития, как искомая основа устройства общества свободных индивидов16. Однако при этом не следует игнорировать или недооценивать то обстоятельство, что человеку как существу социальному генетически присуще не только стремление к свободе, но и чувство справедливости, побуждающее его ограничивать свою свободу для реализации как свободы другого человека, так и общего блага, являющегося условием индивидуальной свободы17. В конечном итоге из этого генетического корня, то есть из природы человека как социального существа, обладающего свободной волей, по-видимому, и растет внутреннее единство таких феноменов, как свобода и справедливость.
Имманентная взаимосвязь свободы и справедливости, выражаемая через категорию равенства (когда справедливость предстает как равенство в свободе), является принципиальным моментом либертарно-юридической теории правопонимания. Далее я постараюсь показать природу и содержание взаимосвязи этих составляющих правового принципа формального равенства, а также определю значение такого понимания принципа формального равенства для осмысления правовой истории современной России и перспектив формирования глобального правопорядка.
1. Принцип формального равенства как единство равной меры свободы и справедливости. Краткое освещение этой исключительно сложной философско-правовой проблемы целесообразно, на мой взгляд, представить в форме ответов на ряд взаимосвязанных между собой вопросов:
а) что такое свобода людей в их общественной жизни? В осмыслении свободы, то есть разумной свободной воли, реализуемой людьми в процессе их взаимодействия, выделяются два подхода, согласно которым свобода – это: воля, не связанная давлением произвола со стороны другого индивида, социальной группы, публично-властных структур и т. д., и воля, не связанная также и иными внешними по отношению к ней обстоятельствами, обусловленными социально-биологической слабостью самого индивида.
Во времена Гегеля свободная воля индивида не могла трактоваться иначе как воля, не ограниченная внешним произволом. Подобное понимание свободной воли, не обремененное учетом ограничителей в виде социальной или биологической слабости носителя воли, означало формальное равенство всех перед нормой, которая не дифференцирована по социальным группам таким образом, чтобы учесть незаслуженную слабость одних и силу других. И если бы развитие демократии и права ограничилось только таким пониманием свободы, то надо было бы согласиться с Гегелем, считавшим, что История подходит к своему логическому концу. Что же касается позиции В. С. Нерсесянца, то из его определения свободы человека как «возможности осознанного выбора и реализации того или иного варианта поведения»18 вовсе не следует та ограничительная трактовка, которой придерживаются некоторые сторонники либертарной теории права;
б) что такое справедливость? Со времен античности справедливость в отношениях между людьми определялась через категорию равенства и увязывалась с понятием права. Христианство, с одной стороны, сгладило языческий (основанный на культе силы) характер аристотелевской распределительной справедливости «по достоинству». Но при этом оно исказило логическую чистоту античной рациональности, придав справедливости отчасти нравственно-религиозный смысл, уводящий в сторону от принципа равенства. И сейчас каждый, кто говорит что-то о справедливости в ее соотношении с правом, оказывается в смысловом пространстве, очерченном двумя основными ментальными традициями европейской правовой культуры: античной (основанной на идее внутренней взаимосвязи права и политической справедливости, определяемой через равенство) и библейской (в рамках которой справедливость отождествляется с милосердием). Однако при всех возможных расхождениях позиций в различных типах правопонимания справедливость так или иначе связывается с принципом равенства. Последовательная трактовка справедливости как равенства приводит к признанию формально-правового (а не нравственного) ее характера, в соответствии с которым право одинаково справедливым для всех образом взвешивает на единых весах и оценивает фактическое многообразие общественных отношений «формально равным… правовым мерилом»19;
в) что такое правовое равенство? Как я уже отмечала, когда мы говорим о равенстве, то речь всегда идет о формальном равенстве как результате уравнивания объектов реальности по какому-то одному основанию (аспекту) этой реальности20. Согласно В. С. Нерсесянцу, равенство в социальной жизни, то есть правовое равенство (потому что никакого иного равенства в социальных отношениях нет), – это равенство в свободе. Чтобы понять, почему дело обстоит именно так, следует обратиться к наиболее абстрактному (а потому и наиболее емкому) определению общества, которое предлагает, в частности, Дж. Ролз. Общество, пишет он, представляет собой объединение людей в целях производства и распределения благ, имея в виду под благами все «то, чего хотят люди»21. Соответственно, главное, в чем нуждается любое общество, – это регламентация доступа его членов к указанным благам.
Что касается идеи уравнивания людей в их обладании благами путем обеспечения так называемого фактического равенства в потреблении, то эта теоретически несостоятельная идея уже в полной мере продемонстрировала на практике свой утопический характер. Поэтому и с теоретической, и с практической точки зрения достаточно очевидно, что право может гарантировать лишь равенство возможностей доступа к благам, то есть равенство в свободе как форме доступа к благам. В этом смысле В. С. Нерсесянц характеризовал право как «математику свободы», то есть как науку о равенстве в свободе. При этом, поскольку речь идет о математике свободы, разное смысловое наполнение этого исторически изменчивого понятия каждый раз вносит новый смысл и в понятие права.
Так, в период формирования буржуазного общества, когда на арену общественной жизни, ломая социальные перегородки, вышли представители зарождавшейся буржуазии, правовая демократия, по меткому выражению Бенджамина Франклина, являла собой договор между хорошо вооруженными джентльменами22. Реализация такого договора вела к укреплению позиций наиболее сильных субъектов социального взаимодействия по логике накопляемого преимущества. Однако расширение демократического характера правотворчества, отражающее стремление людей к справедливости, постепенно втягивало в орбиту договоренностей и остальные социальные группы, которые добивались правового признания своих групповых интересов. Таким образом развитие человечества предстает как диалектически противоречивый процесс унификации и дифференциации правового регулирования, связанный, с одной стороны, с расширением сферы действия права, а с другой – со все большей дифференциацией субъектов права по социальным группам с целью выравнивания их правовых возможностей23. Внутри каждой группы при этом реализуется свой принцип равенства в свободе, а дифференциация групп осуществляется на основе принципа компенсаторности, обеспечивающего максимально возможное в данных исторических условиях равенство в свободе для всех субъектов соответствующих правоотношений;
г) что такое принцип компенсаторности в контексте либертарно-юридической трактовки социальной справедливости? Вопрос о соотношении понятий правовой и социальной справедливости в настоящее время является одной центральных проблем современного философско-правового дискурса. Показательно, что именно в подходе к этому вопросу наиболее наглядно проявляются расхождения между сторонниками либертарно-юридической теории24. Хотя В. С. Нерсесянц не рассматривал специально данную проблему, отметив лишь, что так называемая социальная справедливость «может как соответствовать праву, так и отрицать его»25, тем не менее он сформулировал критерий, с позиций которого можно определить, соответствует ли то или иное понимание социальной справедливости праву. Этот критерий можно обозначить как принцип компенсаторности. Для его пояснения нужно обратиться к следующему важному высказыванию автора, на которое обычно обращают мало внимания. «Восходящее к Пифагору, а затем к Платону, Аристотелю и вплоть до наших дней представление о двух видах равенства, – писал он, – является ложным. Такое понимание равенства возникло в условиях неразвитого права. Правовое равенство (в каждое данное время в своем объеме и смысле) всегда одно. Деление же равенства на демократическое и аристократическое, уравнивающее и распределяющее, строгое и пропорциональное и т. п. является формой выхода за рамки правового равенства в сторону привилегий. … Разные характеристики равенства (пропорциональное, распределяющее и т. п.) остаются равенством лишь в тех пределах, в которых они не выходят за рамки правовой компенсаторности»26. Таким образом, принцип компенсации – это и есть правовой принцип, позволяющий отличить государственную или частную благотворительность (которая, по словам И. Канта, «не имеет под собой принципа… но сводится к доброй воле в ее материальном выражении»27), от социальной политики государства, осуществляемой в границах права.
Если сравнить подход В. С. Нерсесянца с трактовкой проблемы справедливости в теориях Дж. Ролза и Ф. Хайека, то можно сказать следующее. Дж. Ролз под принципами справедливости понимает принципы, выработанные путем договора «за занавесом неведения», участники которого мысленно абстрагируются от каких-либо своих качеств (как если бы каждый не знал ни своего социального статуса, ни своих биологических характеристик). Он полагает, что в ситуации «занавеса неведения» люди договорятся о том, что «социальные и экономические неравенства должны быть организованы таким образом, что они одновременно… ведут к наибольшей выгоде наименее преуспевших»28. А Ф. Хайек говорит, что люди согласны «принуждать к единообразному соблюдению тех правил, которые значительно увеличили шансы всех и каждого на удовлетворение своих нужд, но платить за это приходится риском незаслуженной неудачи для отдельных людей и групп»29. Оба автора, по сути, считают, что общество должно делать ставку на сильных, а слабым следует удовлетвориться тем, что успехи сильных улучшат и их положение. При этом Ф. Хайек прямо (в отличие от Дж. Ролза) говорит, что люди готовы идти на риск незаслуженной, то есть не зависящей от их волевых усилий неудачи. С позиций же предлагаемого В. С. Нерсесянцем принципа компенсации в договоре «за занавесом неведения» люди захотели бы иметь право компенсировать свою незаслуженную слабость30, чтобы на равных вступить в социальную конкуренцию. Введение такой компенсации переводит рассматриваемую проблему из сферы морали, где действует принцип милосердия с присущей ему неопределенностью границ, в сферу права, где есть четко обозначенная мера справедливости в распределении социальных благ – принцип формального равенства;
д) почему компенсацию социобиологической слабости индивида следует включать в правовой принцип равенства? Если мы считаем, что именно право должно стать основным и общезначимым социальным регулятором, определяющим границы действия всех иных нормативных регуляторов, это означает, что право должно удовлетворять главные потребности человека как разумного существа31. Мы не можем перекладывать решение этой задачи на нормы нравственности или религии в силу их партикулярного и неформализуемого характера. Но, с другой стороны, жестко формализованное право, «очищенное» от гуманистических эмоций, пугает людей своей инструменталистской рассудочностью. Именно этим, по-видимому, в немалой степени объясняется неоднократное во всемирной истории возрождение идей юснатурализма с его смешением права и морали. Однако подобное отождествление различных нормативных систем опасно тем, что дает слишком большой простор для произвольных интерпретаций и двойных стандартов. Поэтому искомый синтез милосердия и справедливости, в рамках которого «взаимно обогащаются хорошо проверенные формулы римских юристов, рациональные системы греческих философов и страстные заклинания еврейских пророков»32, надо искать в границах правового принципа равенства. Что же касается проблем, связанных с тем, что представители социально уязвимых групп нередко под видом борьбы за права весьма агрессивно отстаивают свои привилегии33, то есть все основания надеяться, что развитие правовой демократии преодолеет эти «трудности роста» и что демократия, как пишет Д. Хэлд в завершении своей фундаментальной работы «Модели демократии», сможет «и впредь сохранить свою актуальность, эффективность и легитимность»34;
е) как определяется равная мера свободы? Мера свободы людей в их общественном взаимодействии определяется путем договора, поскольку в социальном мире уравнивание людей в их свободе может происходить лишь путем договорной по своей природе процедуры взаимосогласования воль по принципу «свобода одного может быть реализована в той мере, в какой она не нарушает свободу другого». Такое согласование может быть обеспечено посредством двустороннего договора между самими участниками, в процессе деятельности представительного органа законодательной власти или в рамках судебной процедуры. Таким образом, право выступает как норма свободы в правовом государстве, как единство нормативной и институциональной форм свободы.
Это означает, что свобода существует лишь там, где люди – не только адресаты действующего права, но одновременно его творцы и защитники35. Очевидно, что в наибольшей степени подобным условиям выработки правового решения адекватен такой институт правовой демократии, как представительный законодательный орган (парламент), который по природе своей призван выражать общую волю, действуя в рамках очерченных этой волей конституционных основ государственной и общественной жизни. А если он ошибается, то его решение может откорректировать суд либо сам народ как суверен – на референдуме или в избирательных процедурах.
Россия, провозгласившая в своей Конституции курс на формирование правовой демократии и парламентаризма, вступила на этот сложный (особенно с учетом социокультурной специфики страны36) путь в период, когда развитые демократии столкнулись с целым рядом системных проблем37. В этой ситуации у противников демократии появились весьма серьезные дополнительные аргументы в пользу той или иной аристократической (можно сказать – меритократической) формы правления. Так, по мнению В. А. Четвернина, позиционирующего себя в качестве сторонника либертарного правопонимания, правовые нормы создаются «вовсе не парламентом, где группа интересов, имеющая по некоторому вопросу большинство, решает его по своему произволу», а профессионалами-юристами, которые, действуя в рамках «культуры правового типа», рассматривают вопросы «с точки зрения права, а не с позиции интересов людей»38. Таким образом, получается, что право у него не является итогом либерально-демократической процедуры правообразования, основанной на принципе формального равенства, а представляет собой нормы, выработанные некими «учителями жизни», чье решение заведомо носит правовой характер. А такой подход по сути дела, тяготеет к той версии юснатурализма, в рамках которой право – конвенционально установленные принципы и нормы, выражающие представления о правах человека, характерные для наиболее развитых в правовом отношении государств как носителей «культуры правового типа».


