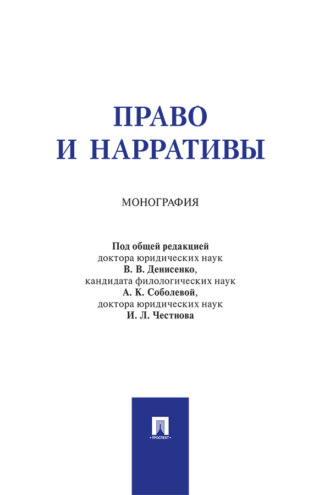
Коллектив авторов
Право и нарративы
Глава 2
Нарративная методология постклассической юриспруденции
И. Л. Честнов42
Нарративизм как направление в постклассической методологии призван показать имманентную роль рассказа (повествования) в конструировании и конституировании социальной (и правовой) реальности. Именно такой подход может быть чрезвычайно перспективным в рамках постклассической методологии права. Однако прежде, чем вести речь о нарративизме как о постклассической методологии права, рассмотрим непростые вопросы о той роли, которую нарратив играет в описании и конструировании социальной реальности.
2.1. Нарратив как элемент социальной реальности и механизм ее конструирования и конституирования
Роль нарратива в описании, конструировании и конституировании социальной (и правовой) реальности состоит в том, что именно нарратив придает форму таким описаниям, тем самым порождая их. Как указывает П. Рикёр, «нарративная структура сочетает два процесса завязывания интриги: процесс действия и процесс персонажа. <…> “Рассказывать” означает “говорить, кто сделал что, почему и как”, располагая во времени связь между этими точками зрения. <…> Сочленение между интригой и персонажем позволяет провести сплошное, виртуально бесконечное расследование в плоскости поиска мотивов, а также, в принципе, конечное расследование в плоскости атрибуции их кому бы то ни было. Два расследования включаются в двойной процесс идентификации интриги и персонажа. Даже наиболее сносная апория приписывания находит соответствие в диалектике персонажа и интриги»43.
В другой работе П. Рикёр утверждает: «…время становится человеческим временем в той мере, в какой оно артикулируется нарративным способом»44. При этом именно нарратив конструирует и формирует структуру идентичности как «диалектики самости и тождественности», «нарративное единство жизни»45.
Один из наиболее оригинальных отечественных философов-лингвистов В. П. Руднев утверждает, что «реальность есть наррация, а изучающая ее дисциплина должна быть названа нарративной онтологией»46. «Согласно перформативной гипотезе Дж. Росса и А. Вежбицкой, – продолжает В. П. Руднев, – любое декларативное высказывание является скрытым перформативом. Любое предложение – скрытым речевым актом. <…> Реальностью, на мой взгляд, было не то, что [было. – И. Ч.]… а мой рассказ об этом»47. Более того, «реальность имеет не просто нарративную природу, но диалогическую, агональную природу. Всегда есть не только тот, кто говорит, но и тот, кто слушает и готов отвечать»48. «Реальность реальности» состоит в ее осмысленности, заявляет В. П. Руднев. Соглашаясь со многими оригинальными идеями известного философа-лингвиста, полагаю, что реальность включает не только нарративы, но и людей, их действия, последствия, предметы (в широком смысле слова), которыми оперируют люди, которые «сопровождаются» (мотивируются, осмысляются, оцениваются и т. д.) нарративами или в нарративах49.
В любом случае нельзя не признать, что нарратив – важнейшее понятие современной лингвистики, которой принадлежит пальма первенства в описании и осмыслении социальной реальности после так называемого лингвистического поворота. Традиция рассказа, характерная для классической гуманитарной науки, по мнению К. Гергена50, включает мистическую, пророческую, мифическую и цивилизованную традиции. К первой, например, относятся дискурсы проповедника и апостола, отличающиеся друг от друга, а текст в ней всегда монологичен и обезличен. Пророческая традиция провозглашает будущее, часто с позиции критики. К такого рода жанру относятся «прозрения» К. Маркса и Ф. Энгельса в «Манифесте коммунистической партии», М. Хоркхаймера и Т. Адорно в «Диалектике просвещения» или Г. Маркузе в «Одномерном человеке». Мифическая традиция выражается в современной западной гуманитарной науке перенесением структуры мифа в сциентистский нарратив: начало истории, последовательность взаимосвязанных действий и событий (фабула) и чувство завершенности, выражающееся в концовке с определенной моралью, на что направлено действие (цель) и из чего возникает способность истории к драме (кульминации). Интерпретации непостижимого, но подразумеваемого происхождения особенно популярны в антропологии, археологии, истории, психологии и социологии. Такие работы, как «Протестантская этика ц дух капитализма» М. Вебера, «Процесс цивилизации» Н. Элиаса, «Оральность и грамотность» У. Дж. Онга, «Любовь как страсть» Н. Лумана и «История сексуальности» М. Фуко, похожи на мифический письменный стиль, и их стоит анализировать таким же образом51. Цивилизованный дискурс как преобладающий сегодня научный стиль не просто притязает на бесстрастную и обыденную ясность, но и проявляет неустанный интерес к доказательствам. Среди главных характеристик цивилизованного дискурса, сохраняющего свои позиции в классической науке, по мнению К. Гергена, были: уважение к собеседнику (как к равному по классу и достойному чести), избегание враждебности или прямого противостояния (это нарушило бы классовое согласие), избегание излишних убеждений (уважение способности другого здраво рассуждать), безличность повествования (уважение личного опыта других), скромность (подчеркивание равенства позиций собеседников). Убедительность автора главным образом основывалась на предположении, что все джентльмены правдиво рассказывали о собственном опыте. Таким образом, многое зависело от доверия к доказательствам, которые получил повествующий при непосредственном наблюдении52.
Однако после дискурсивного поворота формируется новое направление риторики – критический дискурс-анализ, который развенчал претензии классической науки на сциентистскую объективность и аподиктичность научного знания. Новые формы нарратива стимулирует обширная и интенсивная критика в адрес предположения, что научный дискурс несет в себе истину, утверждает лидер постмодернистской психологии. Нет никаких оснований считать язык картиной или картой реальности такой, какой она, реальность, есть, и, как следствие, полагать, что научный дискурс есть копия природы, выражает ее законы. Скорее, в науках мы наследуем разные традиции письма и говорения, дискурсивные жанры, которые выступают необходимыми структурами для постижения и коммуникации. Дискурсивный поворот в гуманитарных науках значительно влияет на практику нарратива. Прежде всего, под сомнение ставится традиционная привилегия авторитета, которым наделяют писателя. В контексте дискурсивной критики становится все труднее соглашаться, что высказывания автора несут в себе истину из мистических миров, предсказывают будущее, рассказывают достоверные истории о происхождении вещей или делятся провидческой, божественной информацией. Скорее, читателя, который получает информацию из этих текстов, побуждают сопротивляться позициям покаяния, благоговения или уважения, т. е. позиции классической науки53.
Сегодня нарратив стал междисциплинарной парадигмой постсовременной гуманитарной науки. По мнению Й. Брокмейера и Р. Харре, «повествовательная форма – и устная, и написанная – составляет фундаментальную психологическую, лингвистическую, культурологическую и философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и условиями существования»54. Именно это представление, получившее признание в 1980-х годах, привело к тому, что «за период… немногим более чем одно десятилетие нарратив стал предметом большого числа новых исследований. Многие из исследователей полагают при этом, что речь идет не просто о новом эмпирическом объекте анализа – рассказах для детей, дискуссиях за обедом в различных социальных кругах, воспоминаниях о болезнях или путешествиях за границу, автобиографиях, обсуждениях научных проблем, – но и о новом теоретическом подходе, о новом жанре в философии науки. Все возрастающий интерес к изучению нарратива означает появление еще одной разновидности стремления к созданию “новой парадигмы” и дальнейшего усовершенствования постпозитивистского метода в философии науки. Это движение обещает, по всей видимости, нечто большее, чем создание новой лингвистической, семиотической иди культурологической модели. Фактически то, что уже получило в психологии и других гуманитарных науках название дискурсивного и нарративного поворота, должно рассматриваться как часть более значительных тектонических сдвигов в культурологической архитектуре знания, сопровождающих кризис модернисткой эпистемы. В большинстве гуманитарных дисциплин позитивистская философия, которая вела к серьезным искажениям в понимании науки, подверглась резкой критике, что открыло новые горизонты для интерпретативных исследований, фокусирующихся на социальных, дискурсивных и культурных формах, противостоящих бесплодным поискам законов человеческого поведения. Осознание этих изменений привлекло особое внимание к формам и жанрам нарратива. <…> Проблема объяснения динамических образцов человеческого поведения представляется более близкой к своему разрешению через исследование нарратива, чем даже посредством таких хорошо известных подходов, как использование функционально-ролевой модели»55. Не случайно Т. Сарбин называет нарратив «организующим принципом человеческого действия»56. Люди всегда стараются приписать структуру течению жизни, структурно упорядочить рассказы о ней. Наши надежды, мечты, страхи, фантазии, планы, воспоминания, любовь, ненависть, ритуалы нашей повседневной жизни (например, совместные ужины с семьей), церемонии и обряды (например, свадьба, крестины, похороны) – все это управляется нарративными сюжетами, и специально организовано так, чтобы сформировать историю людей, вовлеченных в эти действия и события, пишет М. Кроссли57.
Нарратив, как утверждается в современной философии и психологии, конструирует идентичность, будучи имманентным процессу (и его содержанию) социализации. На этом, в частности, настаивал Д. Деннет, утверждая, что наши истории «плетут» нас. Наше человеческое сознание и наша нарративная личность – это продукты наших нарративов, а не их источники. Поэтому личность для американского философа – «центр нарративной гравитации»58. Нарративный подход отличается тем, что личность и ее свойства (рациональность, моральность и др.) не являются «объективной данностью» или качествами, а представляет собой «социальную конструкцию в контексте» (историческом и социокультурном, производящем социализацию личности). В этом проявляется суть социального конструкционизма как постмодернистской психологии, развиваемой К. Гергеном, которая проявляется, в частности, в «денатурализации объекта исследования» для «обуздания претензий на безграничную универсальность, на истину, лежащую за пределами культуры и истории»59.
В то же время, заявляет К. Герген, ключевой вопрос – как человек может усвоить культуральные способы понимания – остается теоретически неразрешенным. Эта проблема, по его мнению, не имеет решения в принципе. Если ментальный процесс отражает социальный, тогда усвоение социального должно происходить без ментальной обработки. Если ментальный процесс необходим, чтобы понять социальное, тогда ментальное должно предшествовать социальному60. Не уверен, что такой пессимизм свойствен всей науке о психике, однако нельзя не признать, что объяснение процессов интериоризации и социализации далеко от парадигмальной аподиктичности. При этом постклассическая философия настаивает, что личность (самость, Я) – это не вещь, а теоретическая конструкция, или, если использовать юридический язык, фикция, полезная для ее описания. Автобиографический нарратив конструирует личность, хотя именно человек рассказывает историю о себе (даже если самому себе). Другое дело, что для конструирования автобиографического нарратива требуются такие принципиальные условия, как знание языка, достаточный уровень социализации, мотивация и др.
Отмечая актуальность нарративной программы в постклассической философии и науке, приходится признать, что определение содержания нарратива не столь простое предприятие, как это, может быть, представляется на первый взгляд. «В классической теории повествования, – пишет В. Шмид, – основным признаком повествовательного произведения является присутствие такого посредника между автором и повествуемым миром. Суть повествования сводилась классической теорией к преломлению повествуемой действительности через призму восприятия нарратора. <…> В структуралистской нарратологии… решающим в повествовании является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак структуры самого повествуемого. Термин “нарративный”, противопоставляемый термину “дескриптивный”, или “описательный”, указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле слова, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой, излагают некое изменение состояния»61. К «уровням нарратива» немецкий славист относит:
1) происшествия как «совершенно аморфную совокупность ситуаций, персонажей и действий, содержащихся так или иначе в повествовательном произведении (т. е. эксплицитно изображаемых, имплицитно указываемых или логически подразумеваемых), поддающуюся бесконечному пространственному расширению, бесконечному временному прослеживанию в прошлое, бесконечному расчленению внутрь и подвергающуюся бесконечной конкретизации»;
2) историю как «результат смыслопорождающего отбора элементов из происшествий, превращающего бесконечность происшествий в ограниченную, значимую формацию»;
3) наррацию как результат композиции, организующей элементы истории в искусственном порядке;
4) презентацию наррации как «нарративный текст, который, в противоположность трем геноуровням, проявляется как феноуровень, т. е. является доступным эмпирическому наблюдению»62.
В общем и целом нарратив – это подвид дискурса, понимаемого как «лингвистический продукт (как процесс, так и результат)», опосредующий человеческое общение63. Таким образом, нарратив – это не сама по себе структура рассказа (повествования), а процесс рассказывания (повествования).
Нарратив организован и запечатлен (объективирован) в памяти человека (и в социальной памяти «третьего мира» К. Поппера) в форме фреймов и скриптов. При этом с позиций постклассической методологии нарратив (и соответствующий фрейм или скрипт) не есть нечто объективно данное. Он – нарратив – существует только если «прочитывается» и используется в «языковых играх», в том числе юридических. В психологии считается доказанным, что поступающая в рабочую (или оперативную) память информация не просто пассивно хранится, но активно обрабатывается. Поэтому нарратив с позиций постклассической методологии – это процесс рассказывания истории, объективируемый в тексте.
На этом – процессуальном, динамическом – моменте акцентирует внимание М. А. Можейко: «Нарратив (лат. narratio – языковой акт, т. е. вербальное, изложение – в отличие от представления) – понятие философии постмодерна, фиксирующее процессуальность самоосуществления как способ бытия повествовательного (или, по Р. Барту, “сообщающего”) текста. Важнейшей атрибутивной характеристикой н. является его самодостаточность, самоценность: как отмечает Р. Барт, процессуальность повествования разворачивается “ради самого рассказа, а не ради воздействия на действительность, т. е. в конечном счете вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой”. <…> ориентация на “повествовательные стратегии” в их плюральности оценивается современными авторами (Д. В. Фоккема, Д. Хеймaн и др.) как основополагающая для современной культуры. В этом проявляется усиление в современной философии истории позиции историцизма, строящего свою методологию на презумпции неповторимой уникальности каждого события, чья самобытность не может быть – без разрушающих искажений – передана посредством всеобщей дедуктивной схемы истории. <…> По оценке Й. Брокмейера и Р. Харре, н. выступает не столько описанием некой онтологически артикулированной реальности, сколько “инструкцией” по конституированию последней. <…> Противопоставляя произведение как феномен классической традиции и “текст” как явление именно постмодернистское, Р. Барт связывает классическое “символическое сознание” с интенцией к поиску глубинных (онтологически заданных и потому жестко определенных) соответствий между означаемым и означающим. Что же касается “парадигматического” и “синтагматического” типов сознания, с которыми Р. Барт соотносит “порог”, с которого начинается современная философия языка, то для них характерна выраженная ориентация на будущее, в рамках которой смысл конституируется как влекомая асимптома. <…> Таким образом, в фундамент постмодернистской концепции рассказа в качестве основополагающей ложится идея привнесенности смысла посредством задания финала. Поскольку текст в постмодернизме не рассматривается с точки зрения презентации в нем исходного объективно наличного смысла (последний конституируется, по Х. Гадамеру, лишь в процессуальности наррации как “сказывания”), постольку он и не предполагает, соответственно, понимания в герменевтическом смысле этого слова (снятие “запрета на ассоциативность” как программное требование постмодернистской философии). По формулировке Джеймисона, нарративная процедура фактически “творит реальность”, одновременно постулируя ее относительность, т. е. свой отказ от какой бы то ни было претензии на адекватность как презентацию некой вненарративной реальности. <…> В рамках подхода Й. Брокмейера и Р. Харре, н. рассматривается в его соотнесении с феноменом дискурсивноcти, а именно н. толкуется как “подвид дискурса”. В этом контексте в поле постмодернистской аналитики втягивается феномен социокультурной ангажированности нарративных процедур и практик: “Хотя нарратив и кажется некой… определенной лингвистической и когнитивной сущностью, его следует рассматривать, скорее, как конденсированный ряд правил, включающих в себя то, что является согласованным и успешно действующим в рамках данной культуры”»64.
Подводя промежуточный итог всему изложенному, стоит присоединиться к утверждению В. Кравица, который со ссылкой на известного философа права-феноменолога Я. Шаппа пишет: «Концептуальная идея философии повествования заключается в том, что доступ к бытию человека и вещам происходит через рассказ о них, в который мы во всякое время вплетены»65. После несколько затянувшегося экскурса в философские аспекты нарратологии пора перейти к рассмотрению идей нарративной философии в постсовременной юриспруденции.


