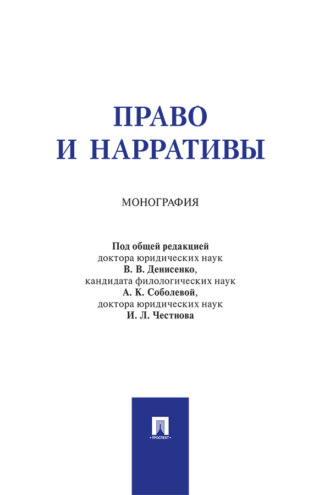
Коллектив авторов
Право и нарративы
1.3. Нарративы в судебном процессе и их роль в правовой аргументации
Независимо от подхода, исследование нарративов в праве чаще всего базируется на анализе конкретных фактов, заключенных в правовой аргументации, и, соответственно, особое внимание уделяется тому, как они повлияли на то или иное судебное решение. В свою очередь, применение методов литературного анализа и критики к праву в большей степени подразумевает интерпретацию правовых текстов с позиции намерений его автора, а также с учетом того, какой смысл читатель вкладывает в них со временем посредством толкования и перетолкования.
В отличие от позитивистского подхода, нарративный подход к праву помогает оценить истории, значение которых преуменьшается при чисто доктринальном подходе к оценке фактов у позитивистов24. Под историями в данном случае понимают выстроенный в единую повествовательную линию набор фактов, относящихся к юридически значимым событиям, которые излагаются с позиции различных участников судебного процесса. Адвокат и прокурор в суде как раз и занимаются выстраиванием таких историй. Задача процессуальных противников состоит в том, чтобы выстроить и рассказать наиболее правдоподобную и убедительную историю, в которую поверит суд или присяжные. История в данном случае должна иметь четкий язык повествования, чтобы противоположной стороне было тяжелее опровергнуть факты. Для этого юристу в процессе убеждения нужно использовать аргументы, не только апеллирующие к нормам права, но также этические и мировоззренческие, ведь «сухая» правовая аргументация не будет вызывать необходимых эмоций у слушателей данной истории, которые играют огромную роль в рамках судебного процесса, в особенности если речь идет о суде присяжных.
Безусловно, юрист должен находиться в четких рамках профессиональной этики и не прибегать к фальсификации фактов, аргументируя позицию своей стороны. У судебного процесса в силу его природы нет объективных критериев истинности правовых сюжетов: любые факты могут быть интерпретированы с разных точек зрения. Любая правовая позиция может преломляться под влиянием мировоззренческих, этических и эмоциональных переживаний25. Этот субъективный аспект любого судебного процесса не должен быть инструментом для выстраивания историй, основанных на фальсификации фактов26. Однако не будем забывать, что работа судебного юриста состоит в том, чтобы осветить факты дела в наиболее выигрышном для своей стороны свете. Кроме того, квалицированный юрист должен быть готов к тому, что спорящая сторона может применять фальсификацию в процессе аргументации своей позиции. Ограничения на вымысел и ложь при изложении фактов накладывает ораторская этика, разработанная классической риторикой, в том числе судебной, а нарративная теория предлагает методику для написания ясной и правдивой истории, работающей на доказывание своей позиции по делу, а также помогает противостоять неэтичной интерпретации фактов, к которой может прибегнуть другая сторона судебного процесса27.
Обобщая сказанное, обратимся к профессору Йельского университета П. Гевиртцу. Он считает, что под осмыслением права с точки зрения нарративного подхода подразумевается ряд различных практик. Среди них он выделяет следующие: анализ взаимосвязи между историями и правовой аргументацией; исследование различий между тем, как стороны судебного процесса, судьи, просто практикующие юристы или стороны правового спора формулируют и используют истории; изучение того, какие типы историй являются наиболее убедительными с позиции суда; анализ риторики судебных речей и решений. Наиболее важным аспектом данного подхода П. Гевиртц считает осмысление права в большей степени с точки зрения фактов, чем с позиции совокупности норм и правил. Это подразумевает изучение не только того, как та или иная норма права была найдена и применена, но и того, каким образом решение было сформулировано и чем оно было продиктовано28, ведь никакое решение нельзя обосновать, как указывает Б. Джексон29, исключительно с точки зрения объективных фактов и норм права, вне контекста судебного разбирательства и его повествовательных рамок. Мотивировка судебного решения всегда формулируется из правовой оценки различных историй, рассказанных сторонами в рамках судебного разбирательства.
1.4. Повествование (prothesis, narratio) как риторическая категория
Задолго до появления нарративистики вопросами построения судебной речи и роли изложения фактов в выгодном для стороны свете занималась классическая риторика. Повествование как значимая часть любого выступления или любой речи подробно рассматривается в главах риторических сочинений о частях ораторской речи. В них же даются практические советы, как следует выстраивать повествование, которое позже стало охватываться термином «нарратив», для того, чтобы убедить аудиторию в правоте своей позиции. В переводах античных сочинений по риторике наряду с термином «повествование» встречаются также термины «изложение» (др. – греч. prothesis) и «рассказ» (лат. narratio).
Аристотель считал изложение и способы убеждения необходимой частью любой речи, в отличие, например, от вступления и заключения30. Он подробно излагает, как нужно строить рассказ и какими свойствами он должен обладать в различных видах ораторских речей: совещательных, показательных и судебных. Он отмечает, что речь слагается из двух частей: части, не зависящей от искусства оратора («потому что оратор к фактам не имеет отношения»), и части, зависящей от его искусства, которая состоит в том, «чтобы показать или что предмет речи факт, если он кажется невероятным, или что он именно таков, или настолько важен, или все это вместе»31.
«Благодаря тому, что повествование удобно для восприятия, аудитория охотно следит за последовательностью и составом события», – пишет Ю. В. Рождественский32, известный русский филолог, создатель своей научной риторической школы, которую продолжает филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Ю. В. Рождественский отмечает, что «всякое повествование заведомо неполно», потому что «события, его составляющие, избираются так, чтобы подвести слушателя к определенным выводам»33. Эта неполнота делает повествование уязвимым для критики, потому что аудитория может привлечь внимание к опущенным событиям, тем самым опровергнув ход и смысловое содержание повествования, а то и речи в целом. «Поэтому, – пишет автор, – при повествовании выбор событий необходимо хорошо обосновать, а не просто опускать невыгодные для говорящего эпизоды (что нередко делают судебные ораторы)»34.
На роль повествования в риторическом убеждении указывает и А. А. Волков: «Поскольку повествование предполагает рассказчика, предметом оценки оказываются не только факты, но и достоверность изложения. Как способ изложения повествование субъективно, так как включает разделенные образы рассказчика и аудитории и основано на использовании глагола»35. Действительно, при построении повествования рассказ ведется в последовательном порядке, а действия передаются глаголами. Отношения между участниками общения (дейксис) передается личными местоимениями «я», «мы», «он», «она», «они» и «вы», которые позволяют разделять аудиторию и рассказчика или противопоставлять действия одной стороны действиям другой. Дейксис и модальность высказывания служат инструментом смысловой организации текста и позволяют построить изложение фактов наиболее эффективно для достижения целей ритора.
Продемонстрируем, как можно использовать модальность в построении изложения в нужном нам направлении. Допустим, прокурор утверждает, что обвиняемый знал, что распространяемые им сведения не соответствуют действительности. Адвокат, когда будет излагать факты дела в жалобе или ходатайстве, изменит модальность высказывания, чтобы подготовить судью к тому, что этот факт будет оспариваться, и напишет примерно так: «22 сентября 2012 года обвиняемый опубликовал в газете “Вечерние новости” сведения, которые якобы не соответствовали действительности». Степень достоверности информации, представленной прокурором, при использовании слова «якобы» снижается. Помимо данного риторического приема, при построении повествования можно сгруппировать факты так, чтобы из повествования следовал определенный вывод. Еще можно добавить убедительности своему повествованию, добавив в речь образность и необходимую патетику там, где это будет уместно. Как бы ни было выстроено повествование, оно все равно подлежит оценке другой стороной и может подвергаться критике, но если сами факты изложены верно, то историю, создаваемую с помощью пафоса и риторических изобразительных средств, опровергнуть будет сложно. Единственное, что можно будет сделать, – это противопоставить ей свое видение фактов, т. е. написать свое повествование, свой нарратив, добавив детали, о которых умолчала другая сторона, или по-иному расставив акценты.
Вот, например, как излагает факты дела об утоплении крестьянки Емельяновой в своей обвинительной речи А. Ф. Кони: «Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, – и тело было предано земле, а дело воле Божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорилась, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем»36.
Далее А. Ф. Кони к сухим фактам добавляет детали, но при этом уже использует фигуры речи, чтобы придать деталям, связанным с образом Аграфены Суриной, особую важность и отвести от нее подозрения в соучастии: «Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой», «Правда, он променял ее, с которой жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз», «Человек, который ее кинул, приходит с повинной головой, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него», «Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в половине ноября, целовался на улице и не таясь с Аграфеной».
Однако далее повествование внезапно переключается на Егора Сурина, и оратор старается «проследить его прошедшую жизнь», отбирая те детали, которые создадут образ человека распутного, работающего банщиком при номерных банях, куда для господ приглашаются дамы из дома терпимости: «У него происходит перед глазами постоянный, систематический разврат», «Он видит постоянно беззастенчивое проявление грубой чувственности», «Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям», «С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек “озорной”, неспокойный, никому спускать не любит», «Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется», «И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться».
Далее повествование опять возвращается к Аграфене, и обвинитель начинает перечислять и анализировать ее показания, данные на допросах, действия и слова, сказанные знакомым женщинам. Отдельно выстраивается история несчастной жертвы – Лукерьи. Три истории пересекаются в момент, когда происходит убийство, и оратор то сводит всех троих в одном месте, то умело разводит, чтобы нарисовать ту картину, которую хочет представить присяжным: обвинение против подсудимого имеет достаточные основания («Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другой женщиной, он завел жену ночью на речку Ждановку и утопил»).
Защитником обвиняемого был известный адвокат В. Д. Спасович, который рассказывал присяжным совсем другую историю: по его версии, Лукерья покончила жизнь самоубийством. Версию Кони Спасович назвал «романом, рассказанным прокурором». Тем не менее присяжные сочли более убедительной именно ту историю события, которую им представил Кони, и подсудимый был признан виновным в убийстве с заранее обдуманным намерением. Кони прекрасно справился со своей задачей: ему удалось так встроить косвенные улики в ткань повествования и так визуализировать сцену убийства, что у присяжных не осталось сомнений в правдивости повествования.
Риторические приемы изложения фактов, казалось бы, позволяют манипулировать аудиторией, но правила риторической этики не допускают лжи и намеренной фальсификации. Л. Е. Владимиров в риторическом пособии для адвокатов Advocatus miles отмечает: «Так называемое извращение перспектив дела, одинаково практикуемое в речах обвинителями и защитниками, есть прием, присущий всякой умственной борьбе интересов и, говоря вообще, состоит в выдвигании на передний план фактов, наиболее благоприятных, с сильным их освещением, при постоянном забвении фактов противоположных, неблагоприятных и отвлечении от них внимания всякими способами. Страстная процессуальная борьба, к сожалению, неразрывно связана со всякими, даже софистическими, приемами в отстаивании односторонней идеи и терпит их, при одном, однако, условии, которое должно быть свято соблюдаемо. Это условие – точное, правдивое, без ухищрений, воспроизведение правдивости»37.
Л. Е. Владимиров, предлагая адвокатам свои советы по подготовке выступления в суде, кладет в их основу положения классической риторики. Анализируя части судебной речи, он уделяет особое внимание повествованию, называя его «рассказом (narratio)» и ссылаясь в своих советах на римского ритора Квинтилиана, написавшего всемирно известный труд «Наставления оратору» (Institutio oratoria): «Квинтилиан определяет narratio так: рассказ есть изложение факта достоверного или выдаваемого за достоверный с целью убедить»38. «Narratio, – продолжает Владимиров излагать взгляды Квинтилиана, – не есть место для разбора доказательств. Здесь сторона излагает события так, как, по ее убеждениям, они имели место в действительности, – она в этом случае предполагает доказанными факты, которые противник может и опровергать, и даже с успехом»39.
Итак, в рассказе (narratio) излагаются события, детали которых неизвестны или оспариваются сторонами. Сторона может предложить свою версию событий, может умолчать о невыгодных фактах или применить фигуры речи, чтобы «выпятить» значимые для ее позиции детали, но не может лгать. Владимиров справедливо замечает, что «лжи Квинтилиан во всяком случае не учит – да и не может учить при своем понимании обязанностей оратора»40.
Примером удачного построения нарратива может служить речь французского адвоката Ше д’Эст-Анжа по делу Бенуа, обвинявшегося в убийстве своей матери и своего товарища Жозефа Формажа. Ше д’Эст-Анж представлял интересы гражданских истцов. При раскатах грозы, громе и молнии он стал рисовать картину убийства: «Посмотрим, что было дальше. Расстались мы с молодыми людьми у дверей комнаты № 8, в гостинице; неужели же мы не осмелимся последовать туда за вами, Фредерик Бенуа, рассказать, как совершено вами преступление? Слушайте же. <…> Все, что произошло, я знаю, и я вам расскажу. <…> Слушайте. Вот дверь, в которую вошли они. На постель, еще измятую и теперь, лег убийца. Против, на диване, лег бедный юноша, и? когда он заснул глубоким сном после утомительной ночи, убийца открывает глаза… прислушивается… встает. Около них все тихо. Он берет орудие смерти. <…> Он подходит к юноше, который во сне подставляет ему под нож горло, и одним мгновенным и смелым движением сильно прижимает его коленом, левой рукой хватает его за горло, а правой наносит глубокую рану, рану смертельную, конечно; но жизнь, полная юных сил, еще не уступает, и жертва начинает биться. Бедный юноша!.. Может быть, в эту самую минуту послышалась под окном веселая песня или шаги новоприезжего раздались в коридоре, – ты хотел позвать на помощь, позвать, чтобы спасли тебя! Напрасные усилия: голос уже не может вылететь из груди, и крик, отчаянный крик, замирает… Но он еще защищается: кидается к двери, через которую они вошли, у этой запертой двери ждет его убийца, и лужа крови на этом месте доказывает, что и здесь борьба продолжалась. Жозеф видит другую дверь – эта, может быть, отворится!.. Он бросается к ней или, скорее, тащится; но сильная рука опять его останавливает… Видите ли?.. Ужас!.. Видите ли на ночном столике, облитом кровью, волосы, отрезанные бритвой? Здесь происходила последняя, отчаянная схватка; здесь несчастному нанесены семнадцать ран вслед за первой раной! Здесь уже он слабеет, жизнь оставляет его; здесь, истекая кровью, без помощи, без защиты, подле двери, которая не отворилась для его спасения, здесь падает его измученное тело; здесь он бьется еще… и умирает…»41 Преступник не выдержал и сознался, в результате был признан виновным в двух инкриминируемых ему убийствах и приговорен к смертной казни.
Посмотрим, за счет чего повествование достигло необходимого эффекта. Прежде всего, это визуализация: адвокат рисует картину убийства так, что слушающий видит происходящее своими глазами, следует по тому пути, по которому ведет его рассказчик. Внимание приковывают фразы «Слушайте!.. Я вам расскажу!.. Выслушайте!.. Слушайте же!..», потом, когда слушатель уже следует по пути вслед за преступником от кровати к двери, внимание поддерживается дважды повторенной фразой: «Видите ли?..» Само действие передается глаголами настоящего времени, что усиливает эффект присутствия: «он подходит», «он берет», «еще лежит бумага», «хватает за горло», «наносит», «приводит в порядок свое платье», «отталкивает ногой от двери тело», «запирает дверь на ключ», «бежит». Используются средства выражения предметного дейксиса – местоимения третьего лица «он»: «он берет орудие смерти», «он подходит к юноше», «он бросается к ней», «он бьется еще и умирает». Вовлеченность говорящего и адресата создается также использованием местоимения «ты» вместо имени жертвы: «ты хотел позвать на помощь, позвать, чтобы спасли тебя», – а далее в повествование вовлекается аудитория: «Вы содрогаетесь, слушатели! Вы, родственники, нынче в первый раз наблюдающие за ним, вы, друзья его, если у такого изверга может еще найтись друг, вы, наконец, которые верили в его невиновность…» Используются риторические восклицания («Ужас!..»), а многоточия указывают на паузы, которые держат слушающего в напряжении: «вот, может быть, сейчас отворится дверь… но сильная рука его останавливает… он бьется еще… и умирает…»
Далее повествование переходит в другую плоскость: Ше д’Эст-Анж возвращает нас в прошлое, к предыдущему убийству, совершенному обвиняемым, – убийству, за которое был невинно осужден другой человек. Здесь повествование обращается то к самому Бенуа, то к присяжным; адвокат ставит вопросы и далее отвечает на них так, чтобы повернуть рассказ в нужное ему русло: «Вы были смущены, Фредерик Бенуа?», «Зачем же, обокрав старуху, входить к ней, если она спокойно спит в своем темном кабинете? Зачем без нужды убивать сонную женщину?», «Как он осмелился идти к ней?», «Что же должно произойти в темном кабинете?», «Как же это сделал убийца?». Вопросы сменяются восклицаниями: «Она, однако, зарезана! Боже мой! Стало быть, не сон, не страшный кошмар давил грудь старой матери! Мать его стонет, а он заботится о себе!» Напряжение по мере развития сюжета нарастает и заканчивается антитезой: «…не убил бы чужой спавшую госпожу Бенуа; без свечи, в темной комнате, чужой не зарезал бы ее таким верным ударом; не чужой человек – вы ее зарезали, Фредерик Бенуа!»
Как мы видим из приведенных примеров, повествование, или нарратив, в судебной речи может по стилистике и риторическим средствам выразительности сближаться с художественным текстом, а создаваемая судебным оратором история – визуализироваться, за счет чего приобретает особую убедительность и оказывает необходимое воздействие на аудиторию.
Заключение
Понимание нарратива как истории, которую рассказывает сторона дела, излагая факты, восходит к риторической категории повествования, или рассказа, которая рассматривалась античными риторами в разделе о построении речи и составляла один из важнейших разделов наряду с введением, доказательством и заключением. В современной практике юриста навык изложения фактов дела приобретает особую значимость не столько в устной, сколько в письменной речи, поскольку требует не столько визуализации, сколько краткости и понятности, что достигается за счет опущения деталей малозначительных и правильного отбора юридически значимых. При обосновании позиций сторон каждая из них представляет свое видение ситуации, стараясь создать поле для дальнейшей аргументации в соответствии с выбранной стратегией. В результате в праве мы обычно имеем дело со столкновением нарративов, что повышает актуальность исследований, направленных на выявление средств, с помощью которых можно повысить их убеждающее воздействие на тех, от кого зависит принятие решения.


