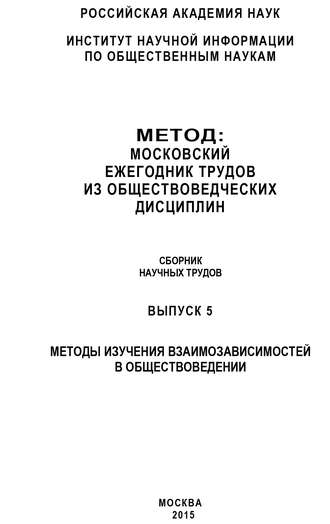
Коллектив авторов
Метод. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Выпуск 5: Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении
Михаил Ильин: Как и всякая метафора «клей» обладает эвристическим потенциалом, но одновременно ограничивает наше мышление и воображение. «Вязкость клея» акцентирует одну сторону дела, но скрывает от нас другую. Мы видим связанность явлений и процессов относительно момента наблюдения, но не видим, например, их динамизма и изменчивости за пределами момента наблюдения. Память о взаимодействиях и ожидания эффектов скрадываются и как будто исчезают.
Пространство связи предстает как «клей», когда темпоральность свертывается к наличному сингулярному моменту, и как «чудо порождения» при развертывании темпоральности.
Иван Фомин: Метафора клея имеет свои плюсы и минусы. Хороша она тем, что помогает нам отойти от привычного представления о том, что причинение происходит как бы линейно и в вакууме: ситуация А → ситуация Б. Такое представление причинности во многом сбивает с толку, поскольку описывает положение вещей, в котором игнорируется тот факт, что пространство, в котором происходит причинение, пронизано бесконечным множеством таких «стрелочек». И в некотором смысле оно оказывается действительно наполнено чем‐то вроде каузального клея, связывающего все со всем.
Но есть у метафоры клея и свои ограничения. Когда мы говорим «клей», это заставляет нас думать о ситуации, в которой существует некто, отбирающий объекты для склеивания и инициирующий их соединение. С клеем причинности все несколько иначе – причинность оперирует не предоставленными ей объектами, а сама бесконечно ищет эти объекты.
Интересно здесь вспомнить триаду типов предзнания по В.М. Сергееву, которые различаются как раз в том, каким образом метафорически концептуализируют отношения, существующие в мире. Номиналисткий тип представляет мир «плоским», существующим как набор атомарных событий с простыми стимул-реактивными связями, не объединенными никакой «теорией». Структурный тип формирует двухуровневую онтологию, в которой за действиями акторов стоят их роли и цели. Холистский (процессуальный) тип тоже производит двухуровневую онтологию, но уже другого вида: в ней механика функционирования реальности представляется непостижимой, на нее нельзя напрямую влиять и о ее состоянии можно судить лишь по косвенным проявлениям.
Думаю, каждый из этих типов представляет один из подходов к вопросу о понимании причинности. Номиналисткий – упрощение каузальных отношений без проблематизации причинности («просто и понятно»). Структурный – представление о сложности каузальных связей, но на фоне гносеологического оптимизма («сложно, но понятно»). Холистский – представление о сложности каузальных связей и об их непознаваемости («сложно и непонятно»).
Николай Розов: Наиболее адекватные представления об опосредующих причинах складываются в результате эмпирического анализа промежуточных процессов между известной или предполагаемой причиной и следствием. Если эти процессы, промежуточные звенья, опосредующие причины скрыты от наблюдения, относятся к прошлому и не воспроизводимы, как, например, причины давно прошедшей крупной войны, то приходится прибегать к воображению – порождению и формулированию гипотез об этих причинах. При этом используются как эмпирические обобщения относительно уже известных причин подобных войн, так и общие теоретические обобщения геополитического, геокультурного, социально-политического, психологического характера. Соответственно этим теориям и производится концептуализация гипотез. Далее предпринимаются попытки их проверки через известную логику вывода и тестирования эмпирических гипотез путем их сопоставления с фактами. Для социального прошлого, в частности, используются этапы и процедуры систематического сравнения специально выделенных исторических случаев, прописанные в методе теоретической истории.
Петр Панов: Мы «воображаем» опосредующие причины, на мой взгляд, точно так же, как и непосредственные. Если понимать познание как процесс мысленного упорядочивания эмпирической действительности, мне представляется, что оно неизбежно связано с «воображением». Под «воображением» в данном случае понимается не любая творческая «фантазия», а интеллектуальное предприятие, которое нацелено на упорядочивание наших представлений о мире с помощью определенных логических процедур (корректность аргументации, методологии и т.п.). Такое упорядочивание предполагает логически выверенные описания и объяснения, а значит – «выявление» различных форм взаимосвязей между явлениями, в том числе причинных.
Насколько оправдана гипотеза о том, что эвентуальной «субстанцией» или «природой» поля, опосредующего причинение, могут быть нечто подобное воображаемости, которой был посвящен выпуск МЕТОДА за 2012 г.?
Владимир Авдонин: Действительно, воображаемость как способность соединять однородное и разнородное и воображение как способность превращать одно в другое связаны с причинностью. Они конструируют новое, порождают причинные цепочки. Эти способности может, накапливаясь, прерывать постепенность, порождая внезапный конструкт, концепт, новую форму, понятие.
Михаил Ильин: Воображение и память можно рассматривать как атрибуты, а точнее, спутники разворачивающейся темпоральности. Собственно память и воображение как раз и создают «чудо порождения». Его можно трактовать и как «игру воображения». Впрочем, и как «игру памяти» тоже. А можно считать воображаемостью. Думаю, что это терминологически лучший вариант.
Иван Фомин: Наш ум неустанно выстраивает имагинативные связи между всевозможными объектами – конструирует отношения означивания, отношения осмысливания, отношения каузальности. И остановить эту интенциональную работу, пожалуй, можно лишь в результате особой внутренней медитативной практики.
Связывающая работа ума отнюдь не всегда рациональна. Бессознательные ассоциации суть тоже результаты такого имагинативного связывания.
Можно ли предположить, что в воображаемости как носителе причинности и заключены как формоообразующие, ограничивающие, упорядочивающие способности и свойства, так и случайные или следовые границы и формы.
Николай Розов: В этой смелой метафизической гипотезе соединяются в едином «бытии» объективное поле опосредующих причин (онтологические сущности) и субъективная воображаемость (гносеологические образы реальности). Такого рода попытки слияния онтологии и гносеологии не новы, они характерны для досократиков (Парменид и Гераклит), Платона и неоплатоников (Прокл, Плотин), буддийской философии (Нагарджуна, Асанга), арабской философии (ал-Газали), средневековой схоластики (Ансельм), мистики (Экхарт), Гегеля и гегельянства (Брэдли), Маха и махизма, Бергсона и Брентано, Гуссерля и всей феноменологической традиции, раннего Витгенштейна, теоретического экзистенциализма Сартра и фундаментальной метафизики Хайдеггера. В философии физики идеи единства реальности и наблюдения относятся к той же линии преемственности. Несмотря на столь солидные имена и авторитетные традиции, на мой взгляд, фундаментальное гносеологическое различение (субъект – объект, наблюдатель – наблюдаемое, образ предмета – предмет) хоть и не является абсолютным, неизменным, но для развития познания, для науки и методологической рефлексии совершенно необходимо. В связи с этим считаю предпочтительным отдельно говорить о поле опосредующих причин (онтология, предмет исследования) и о воображении, воображаемости (гносеология, образы, представления о предмете).
Опосредующие причины и их «поля» предельно разнообразны, сложны, различаются по множеству признаков, в том числе, по характеру и силе воздействия. Воображаемые модели и гипотезы относительно этих причин и полей эффективны в познавательном плане тогда, когда обладают ясностью, отчетливой понятийной конструкцией, что всегда предполагает существенное упрощение реальной сложности.
Петр Панов: Если говорить о «мыслительном поле», думаю – да, гипотеза вполне оправдана. Более того, мне представляется, что воображаемые взаимосвязи между явлениями – это отнюдь не только продукт «ума», который стремится упорядочить эмпирическую реальность. Социальная реальность (по крайней мере, во многом) сама является продуктом такого воображения. Речь идет о том, что Бенедикт Андерсон писал в книге «Нации как воображаемые сообщества». Так или иначе понимая (воображая) социальный мир, люди и ведут себя в соответствии с этим пониманием. Здесь наблюдается сложное переплетение. С одной стороны, социальные представления (воображение) возникают на основе «размышлений» об уже существующей социальной реальности, с другой стороны, социальная реальность – продукт соответствующих социальных представлений, т.е. «воображаемое» оказывается причиной эмпирических явлений. И здесь, кстати, мы снова наблюдаем «бесконечность» в причинных объяснениях. Почему люди ведут себя так или иначе? Потому что они воображают нечто такое, что «порождает» соответствующее поведение. Но это ставит следующий вопрос: а почему они именно это воображают? Почему именно такое воображение (такой образ реальности) получило распространение, признание? И так далее.
При этом, разумеется, никогда не было и, вероятно, не будет какого‐то одного, унифицированного мыслительного образа этой реальности. Напротив, имеет место конкуренция различных представлений, и какие-то из них, овладевая умами, становятся «движущей силой» в социальном конструировании социальной реальности. Вообще говоря, социальные науки должны учитывать эту возможность (и действительность) разнообразия социальной реальности. Потому те теории, которые претендуют на универсальные объяснения, и вызывают некоторое подозрение.
Что можно сказать об этой «природе» воображаемости?
Владимир Авдонин: Можно усмотреть в воображаемости сходство с интеллектуальной интуицией Декарта, самопорождающим и самопознающим духом Гегеля или синтетическим a priori Канта. Впрочем, все три эти версии слишком рационалистичны в духе классического Модерна. Возможно, «воображаемость» ближе к постмодернистскому и постструктуралистскому тренду, к аморфности, нечеткости, слабой структурированности, мозаичности. Если продолжить образные аналогии, ее можно уподобить океану Соляриса, коль скоро она способна порождать как строгие логические конструкты, подобные доказательствам математических теорем, так и фантастические видения «игры воображения».
Михаил Ильин: Воображаемость делает отдельные случайности совокупно неслучайными. Люди пытаются понять и объяснить мир, делая тем самым и его в целом, и отдельные его проявления неслучайными, воображенными, понятыми, объясненными.
Иван Фомин: Воображаемое действительно слабоструктурировано, поскольку существует в состоянии «всевозможности». В нем можно лишь пытаться усмотреть некоторые базовые врожденные (архетипические) или сконструированные (социальная воображаемость) силовые линии. И эти линии не столько предопределяют продукты, производимые из всевозможности воображаемого, сколько тем или иным образом эти продукты систематически искривляют.
Во всевозможности воображаемого берет начало все, что сконструировано. Лишь благодаря воображаемому возможно оперирование знаками, поскольку для их использования необходимо вообразить связь между знаком и смыслом, смыслом и значением. Также благодаря воображению становится возможно и воображение многих других связей, из которых и соткан человеческий мир, – связи между причиной и следствием, субъектом и объектом, завязкой и кульминацией, прошлым и будущим, желаемым и действительным и т.д.
Петр Панов: Рассматривая «природу» воображаемости, я бы, в первую очередь, провел различение между индивидуальной и социальной воображаемостью. Социальное воображаемое, как мне представляется, является для индивида ограничением его свободы. Социализированный индивид мыслит (и тем самым воображает мир) социальными категориями, мифами, стереотипами и т.п. Он по определению не свободен от них. Ключевая загадка, на мой взгляд, в том, как, когда и почему в рамках этих ограничений, т.е. «социальной несвободы», у субъекта возникают новые идеи. Связь воображения и свободы, как мне кажется, проявляется не в любом воображении, а именно в таких творческих актах – воображении нового, такого, что прежде не воображалось. И это в полной мере относится к научному творчеству, когда исследователь обнаруживает новые взаимосвязи между явлениями, предлагает новые объяснения, создает новые теории и т.д.
Если воображаемость – «клей мира», поле, субстанция, «кривизна», пронизывающая пространство, то насколько она все же может быть подчинена строгой форме, структуре, логосу, причинной необходимости, а насколько – свободна, бесформенна, случайна?
Владимир Авдонин: Отвечая на этот вопрос можно отталкиваться от «Логики случая» Кунина. В этом случае постулат бесконечности пространства и времени с логической необходимостью порождает представление о бесконечных случайностях, которые порождают бесконечное число процессов и форм в бесконечном числе вселенных. Скрыта ли в воображаемости логика бесконечных случайностей, а в ее фундаменте релятивистский тезис – «возможно все»?
Николай Розов: Здесь «свобода, бесформенность и случайность» относятся как раз к сложной реальности причин, а «строгая форма, структура, логос» – к описывающим эти причины понятийным и логическим конструкциям. Наиболее продуктивным способом представления причинности показал себя подход К. Поппера и К. Гемпеля, когда причинная необходимость (предмет, онтология) представляется как логическая дедуктивная необходимость в формулировках гипотез и теоретических положений (образ, описание предмета, гносеология). Можно вспомнить классическую статью К. Гемпеля «Функция общих законов в истории».
Петр Панов: Мне кажется, любая творческая воображаемость возникает все же в некоем социальном контексте. Гипотетически можно вообразить все что угодно и как угодно, но чтобы «это» вышло за рамки индивидуального сознания, оно должно быть воспринято, понято и (потенциально) принято другими людьми. То есть и творческая воображаемость не абсолютно свободна. По форме, структуре и т.д. продукт творческого воображения должен соответствовать принятым нормам, образцам. Если, например, говорить о современном научном творчестве, новые («открываемые») взаимосвязи, теории должны выдерживать проверку принятыми в данной парадигме принципам. Разумеется, парадигмы трансформируются и сменяются, но и это происходит не по мановению палочки, а представляет собой результат социальных взаимодействий.
Существуют ли в пластичном и изменчивом пространстве воображаемости пределы и границы причин и причинности? Как соотносятся пределы причинности с упорядоченностью мира форм?
Николай Розов: Это «пространство воображаемости», если вообще существует, не только «пластично и изменчиво», но также крайне зыбко и расплывчато, так что вряд ли обладает какими-либо четкими границами.
Пределы, или границы, причинности в «пространстве воображаемости», как сказано выше, не существуют. А вот в реальности такое словосочетание вполне может быть осмыслено: предел причинности некоторого явления (процесса, фактора) находится там, где сила причинного воздействия становится малой до неразличимости.
«Мир форм» как идея, видимо, происходит от платоновских эйдосов, аристотелевских форм, схоластических универсалий, лейбницевских монад, кантовского ноуменального мира, маховских элементов, шпенглеровских архетипов и гуссерлевских феноменов сознания. Если таковой и существует, то каждой форме приписаны и пределы причинности (например, Творцом). Весь этот платонизм с его последующими аватарами, мягко говоря, сомнителен, хоть и перманентно соблазнителен (о чем свидетельствует постановка вопроса).
А что же есть вместо него? Прежде всего, существует окружающий нас материальный мир, данный нам прямо через органы чувств, или через посредство приборов, или через надежную, проверяемую теоретическую интерпретацию данных, получаемых этими приборами (микрочастицы, далекие звезды, планеты, галактики), а также социальный и культурный миры, скрытые сущности и процессы которых открываются нам через специальные методики наблюдения, обобщения, анализа, реконструкции (методики в социальных и исторических науках – аналоги приборов в естествознании). В этих мирах происходят разные процессы, в том числе, однотипные, подчиняющиеся сходным законам: физическим, химическим, биологическим, социальным, культурным. Поэтому возникают и сходные формы: окружности, эллипсы, прямые отрезки, концентрические круги, спирали, волны, шары, капли, древесные, сетевые структуры, циклы, подъемы и падения и т.п. Обобщение морфологического сходства таких феноменов вполне может приводить и приводит к идее «мира вечных форм». Однако приписывать этим формам причины и «пределы причинности» не следует. Причинность характеризует сами процессы (от физических до социальных и культурных), а не сходства порождаемых этими процессами форм.
Владимир Авдонин: Можно представить такую динамику: по мере углубления познания и приближения его к границам, отделяющим конечное от бесконечного, влияние на него бесконечного и случайного возрастает. Растет ли на этих «краях» роль релятивного, случайного в воображаемости? Если воображаемость и подчиняется строгим формам, то на границах познания можно предположить, бесформенное, свободное и случайное, находящееся в ее фундаменте, проявляет себя активнее и ярче. Не исключено, что на этих границах падает и роль строгой причинности.
Напрашивается предположение, что познание воображаемости может быть осуществлено через деконструкции форм. Однако далеко не очевидно, что сами по себе деконструкции, «разборка», «демонтаж» позволят обнаружить тот зыбкий «клей» и бесформенное и свободное основание, на котором покоятся формы. Числа, знаки, случаи, морфологические формы – элементарные представители форм, они относятся к формальной стороне действительности, к ее граничным, конечным, оформляющим основаниям, они «оформляют бесформенную материю» (Аристотель), связывая форму с содержанием. Но связывают ли они это с помощью поля (клея) воображения? Тут возникает целый ряд вопросов. Можем ли мы в анализе «вычесть» бесформенное в воображении и заниматься чистыми формами или «вычесть» формы и заниматься чисто хаотическим воображением? Возможен ли этот раздельный анализ? И значит ли, что в элементарных формах воображаемость «подчиняется» форме и форма все-таки «управляет» этой связью, этим полем?
Власть природы
Наука без границ
А.Ю. Ретеюм
Вводные замечания
В Греции, ставшей колыбелью европейской и мировой науки, говоря о природе и народе, издревле использовали одно слово – κόσμος. В китайском языке иероглиф 体 (ти) отражает понятия о явлениях как материального, так и нематериального происхождения (телах, организациях, моделях, этиках и т.д.). На санскрите  (jagat) может обозначать и землю, и людей с животными. Этот перечень терминологических неразрывностей можно было бы продолжить. Единство мира в представлениях традиционного общества закреплялось мифами о генетической связи человека с вещественными стихиями.
(jagat) может обозначать и землю, и людей с животными. Этот перечень терминологических неразрывностей можно было бы продолжить. Единство мира в представлениях традиционного общества закреплялось мифами о генетической связи человека с вещественными стихиями.
Развитие познавательной деятельности привело к аналитической специализации, а последствием специализации стало отчуждение субъекта от рассматриваемого объекта и отчуждение исследователей, изучающих разные части целого. Как будет показано ниже, путь к решению проблемы необходимого синтеза лежит через восстановление системообразующей роли космоса.
Рассказывает Анатоль Франс: «Находясь несколько лет тому назад в одном большом европейском городе, которого не буду называть, я пошел осматривать музей естествознания; один из хранителей его чрезвычайно любезно давал мне объяснения о животных окаменелостях. Он сообщил мне множество сведений, кончая эпохой плиоцена. Но как только мы дошли до первых следов человека, отвернулся, объявив, в ответ на мой вопрос, что это – не его витрина. Я понял свою бестактность. Никогда не надо спрашивать ученого о тайнах мироздания, которые не в его витрине. Они его не интересуют».
Уже с первых лет обучения нас приучают думать, что все окружающее поделено на предметы, соответствующие предметам школьной программы, и эта установка (как сказал бы Д.Н. Узнадзе) затем пожизненно закрепляется университетской специализацией. Причина утверждения фрагментарной картины мира в головах людей заключается не только в требованиях индустриальной цивилизации. Таковы особенности нашей психики, в поисках порядка мы склонны ассоциировать явления по признакам подобия. «Мне кажется, – размышлял Ж.Л.Л. де Бюффон более 200 лет назад, – что единственным средством создать инструктивную и естественную систему является собирание вместе предметов похожих и разделение тех, которые отличаются друг от друга». Однако часто это путь к серьезным заблуждениям. В истории науки известен случай ошибочного объединения организмов на уровне царств, когда животные коралловые полипы причислялись к растениям. Развитие точных методов раскрывает все более глубокую индивидуальность вещей при их внешней близости. Особых успехов в этом направлении добилась генетика человека, показавшая обособленность древних этносов – бушменов, готтентотов, саамов и др.
Наука повсеместно организована по отраслевому принципу, и пересечение междисциплинарных границ в конкретных исследованиях случается сравнительно редко. Однако именно нетрадиционный подход, как хорошо известно, обеспечивает наибольший прирост нового знания. Само обращение к нему воспринимается как открытие. Характерно признание известного эколога: «…привыкнув к пониманию фитоценоза как совокупности взаимодействующих растений», он «вдруг уяснил, что эти взаимодействия между высшими, слагающими сообщества растениями не являются прямыми и органически необходимыми отношениями… Что, напротив, прямыми органическими отношениями эти растения связаны с животными (хищниками, паразитами, вредителями) и многими низшими гетеротрофными растениями, например с микоризообразующими грибами. Здесь отношения неизмеримо более тесные, скрепленные функциональными и обратными связями… Более важны и более остры не взаимоотношения пары стоящих рядом сосен, а взаимодействия между ними и микоризообразующим масленком, между ними и питающейся их семенами белкой. Сопоставив пару деревьев и их очень сложные консорции, можно понять, что сообщество следует рассматривать шире и глубже» [Быков, 1973]. Аналогично мог бы думать и социолог.
В свое время большие надежды возлагались на системное движение как средство выхода за пределы изолированных аналитических ниш. К сожалению, реальные результаты оказались достаточно скромными. Не наблюдается значительного прогресса в изучении самой актуальной темы – связей между разнородными явлениями. Как представляется, причина замедленного развития синтеза состоит в том, что в качестве систем обычно рассматриваются объекты, которые были выделены старым априорным способом по признакам сходства.
Адекватные методы познания целого должны быть логичным продолжением процесса формирования новой картины мира, ориентирующей на взаимопроникновение наук. Есть основания полагать, что необходимым конструктивным потенциалом обладает эмпирическое обобщение о нуклеарных системах хорионов, созданных сгустками энергии [Ретеюм, 1988].
Практически важная часть спектра этих систем находится в диапазоне между Галактикой и атомами. Человеческие группы вместе с продуктами их материальной и духовной культуры образуют самостоятельный тип систем, включающих измененную и преобразованную природу. Общественно значимыми системообразующими началами служат и отдельные личности – лидеры, пассионарии (по Л.Н. Гумилёву), а также высокоактивные очаги головного мозга некоторых людей (доминанты А.А. Ухтомского).
Какие же гносеологические средства подходят для реальных систем? К ответу на вопрос попытаемся подготовить почву, отдавая предпочтение областям, близким к Terra incognita.
Пространственное и временное сканирование
Для изучения нуклеарных систем предлагаются методы сканирования. План мысленного эксперимента строится как проверка гипотезы тесного взаимодействия ядра и оболочек, причем состав избранного объекта заранее не известен и на него не накладывается никаких ограничений. Структура выявляется с помощью ряда профилей, на которых мы прослеживаем изменения в пространстве-времени определенных чувствительных и важных для нас показателей от центра к периферии. Для временного сканирования лучше всего отработан метод наложенных эпох, предложенный Ч. Кри. Увеличением числа индикаторов и точности их фиксации достигается все более полное отражение свойств системы, при этом границы ее постоянно расширяются. Упрощенная оценка парных связей также может дать достаточную информацию.
Рассмотрим два примера предварительной диагностики. Первый пример показывает демографическую роль Москвы на областном и государственном уровнях (см. приложение: рис. 1 и 2).
Состояние человеческих популяций, как установил А.Л. Чижевский, во многом зависит от колебаний солнечной активности. Накопленная к настоящему времени информация позволяет сделать еще один шаг в исследовании социально-экономического значения возмущений окружающей среды, вызванных космическими силами. Речь идет о неизвестных последствиях воздействия на биосферу планет Солнечной системы, способных модулировать галактические космические лучи, а также ускорять и замедлять вращение Земли, тем самым меняя климат и условия жизни людей. Второй пример сканирования иллюстрирует один из эффектов орбитального движения Юпитера, реальность существования которого доказывается осреднением за длительное время (см. приложение: рис. 3).
Метод сканирования приближает нас к решению фундаментальной проблемы происхождения человека.
В 1950 г. О.Г. Шиндевольф в своем курсе палеонтологии выдвинул предположение, что проникающее излучение сверхновых звезд и порожденные им радиоактивные элементы могли быть причинами катастрофических вымираний животных и последующей смены биот. В пользу гипотезы импульсно-энергетического мутагенеза свидетельствуют аномалии изотопного состава морских отложений и обновления фаун. В последнее время обнаружены признаки генетических преобразований и повышения уровня организации у рода Homo на ранних стадиях его развития, приходящиеся на момент вспышек сверхновых. Пионерная работа по действию галактических излучений на интеллект принадлежит Е.С. Виноградову [Виноградов, 1989], обнаружившему увеличение рождаемости выдающихся личностей после самой яркой из известных вспышек сверхновых, произошедшей в 1006 г.
Для уверенного суждения о мутагенном влиянии космоса на человеческий организм необходимы данные синхронных наблюдений по сериям событий. Нужную информацию можно получить, если сопоставлять показатели рождаемости при низкой и высокой солнечной активности. Интенсивность галактических космических лучей резко возрастает благодаря ослаблению солнечного ветра, когда Солнце спокойно, так что при наличии месячной демографической статистики есть вероятность обнаружения эффекта. Сканирование уникального с точки зрения длительности и разрешения полуторавекового ряда по Исландии приводит к выводу, что повышение уровня космического излучения влечет за собой сравнительно небольшое, но устойчивое (проявляющееся уже при осреднении за три года) увеличение рождаемости (см. приложение: рис. 4).
Итак, имеются некоторые предпосылки для детального изучения феномена космической обусловленности генетических процессов. Последний долговременный подъем интенсивности галактических лучей относится к эпохе Дальтоновского минимума солнечной активности. Логично предположить, что начало XIX в. должно быть отмечено значительным ростом числа родившихся выдающихся людей. Результаты обработки материалов за 70 лет безусловно говорят в пользу этой гипотезы (см. приложение: рис. 5).
В последние годы выяснилось, что Солнце реагирует на движение планет. Гигантский звездоподобный Юпитер оказывает негативное влияние на солнечную активность, когда он близок к точке перигелия. Этот факт подводит к мысли о проведении следующего мысленного эксперимента с целью определения космических условий появления на свет поэтов, которые наделены даром острой отзывчивости, ощущая и «неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы прозябанье». Поэты, наиболее полно выражающие дух своего народа, чаще всего рождаются в годы после сближения Юпитера с Солнцем при аномально высоком уровне галактического космического излучения (см. приложение: рис. 6).
Таким образом, человек – главный предмет внимания науки – входит в состав и земных, и космических нуклеарных систем.
Метод ПОЭ
В обществоведении и естествознании, в обстановке отраслевой специализации ныне абсолютно господствуют методы анализа простых парных связей. Чаще это связи «на предмет» и значительно реже – связи «от предмета». Совершенно очевидно, что тем самым мы как бы расчленяем мир, чтобы затем уже не собрать воедино полученные фрагменты. Явная недостаточность такого подхода породила представления о цепных реакциях в природе и обществе подобных тем, что в свое время изучали М. Боденштейн и Н.Н. Семенов на уровне молекул. Однако они не получили развития, достаточного для разработки метода. Исключений всего два: метод трофических пирамид в экологии, предназначенный для описания потоков энергии и химических элементов в сообществах организмов (включая человека), и метод межотраслевого баланса в экономике, регистрирующий товары при их движении от производителей к потребителям. Показательно, что оба средства нельзя использовать для выявления внешних связей, и они до сих не объединены (что казалось бы естественным с позиций теории природопользования).
Метод прослеживания однопричинных эффектов (ПОЭ), сводящийся к анализу и синтезу разветвленно-цепных связей, помогает понять устройство нуклеарных систем. При отсутствии междисциплинарного коллектива использование его затруднено. Принципиальное значение имеет выбор объекта, работа с которым должна обеспечивать однозначность заключения о влиянии рассматриваемого ядра системы.
Ситуации мысленного эксперимента в данном случае лучше всего подходят стихийные явления. Метод ПОЭ и сам выбор темы требует сбора преимущественно количественной информации, но, к сожалению, статистическая база ограничивает поле зрения лишь частями отдельных цепочек. Тем не менее и первое приближение может принести пользу, прежде всего, установлением причин, масштабов последствий и прогностическим выводом.


