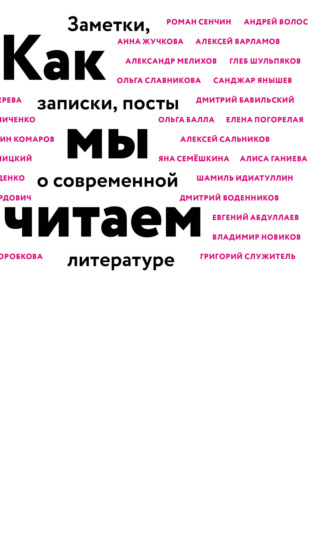
Коллектив авторов
Как мы читаем. Заметки, записки, посты о современной литературе
О прозе
Евгения Коробкова
О причинах народной любви к Татьяне Толстой
Татьяна Никитична Толстая взялась за старое. После некоторой паузы в выступлениях – снова начала выходить на публику и рассказывать людям интересное. Про дачи, про матерную лексику, про то, можно ли научить писать прозу или поэзию. И про то, как плохо жилось в Советском Союзе, само собой. Тема эта – фирменный конек Никитичны. Как она сама однажды сказала, рожденным в СССР ничего не страшно. Можно ослепнуть, перебирать струны гуслей и петь про ужасы советского детства, как Боян бо вещий.
В чем секрет ее популярности, почему столько тысяч лет она собирает на свои рассказы людей и те готовы платить деньги (и немалые) за билет? Кто-то предположил однажды, что наш народ, которому все божья роса, полагает, будто Никитична – и есть вдова Льва Николаевича Толстого.
Но, думается, причина популярности и вечнозеленого интереса – не только в этом.
Толстая, Черниговская и Александр Васильев – это три сестры, суть одного явления, и работают они по одному принципу. С виду – обычные такие грубые советские тетки с рынка. Но при этом одна тетка – великий писатель, другая – великий ученый, третий – великий модник (одетый как турецкий диван, – пошутил Максим Галкин). Но эти грубые с виду граждане умеют творить маленькие, но чудеса.
Бывают такие циркачи, которые умеют зубами двигать паровозы. Эффект трюка построен на том, что перед нами оказывается предмет, который не может двигаться. А дядька берет его, и раз! – катит. Может быть, катит и не очень быстро, и недалеко. Но это движение вызывает восхищение. То же вызывает балет толстушек. Когда заплывшие тетеньки вдруг проявляют чудеса гибкости, показывая то, что худым и трепетным ланям не снилось.
В этом эффект Толстой. Казалось бы, она состоит целиком из грубой, подчеркнуто низменной материи, неспособной парить, – и вдруг по щелчку пальцев писательница легко и грациозно вспархивает практически на вершину той сикоморы, где, как сказал бы Гумилев, с Христом отдыхала Мария.
Зная этот фокус, Никитична тем и занимается, что всеми силами подчеркивает свою неписательскую сущность. «Я простая мещанка родом из СССР, и у меня такие же мещанские интересы», – декларирует она ртом и «Фейсбуком».
Выступления Толстой на публике – это смесь советской поваренной книги (как приготовить блюда из майонеза и субпродуктов), задорновщины (американцы тупые) и поучений рабанит тети Хаи – как вести хозяйство так, чтобы соседи скончались от зависти.
Она активно интересуется тем, чем писатель постеснялся бы интересоваться. А именно: как урвать чего подешевле. Как приготовить еду из чего-нибудь поотвратительнее, типа из требухи, свиных ножек, рубца, бычьих яиц и т. д. Как бы кого-нибудь неприлично высмеять при всех и самой грубо хохотать при этом, матерясь и употребляя слова «опа» и «фуй». Как бы получить побольше денег и поменьше при этом чего-нибудь делать. Такая тетя, не постесняясь, по трупам пройдет, о чем Никитична с удовольствием сообщает. Однажды она даже рассказывала в лекции, как нашла хорошую квартиру в центре Москвы, но в ней жил старичок. И как она села ждать старичковой смерти, и когда он наконец помер – издала победное «ура».
В общем, писательница наша ничем не отличается от очень простых теток и этим своим опрощением очень льстит им. Вот поди-ка, такая хабалка, а еще аристократка, голубая кость.
Но фокус в том, что такая подчеркнутая материальность очень неожиданно, по щелчку, сменяется истинно писательской эфемерностью. Только что автор говорила о том, как бы преподавать этим тупым американцам по методу «Станиславского и хлестаковщины», – и вот уже спустя мгновение она проливает слезу над аутичным подростком, которого больше не увидит и у которого некому будет спросить, чем пахнет клеенка.
И что удивительно, слеза эта будет не менее искренна, чем жадность и желание сэкономить тысячу рублей на съеме квартиры.
На этом потрясающем перепаде между многопудовым телесным и абсолютно бестелесным и работает ее проза. И оттого эффект на разнице потенциалов – огромный.
Ну и последнее. Несколько лет назад у Толстой в «Эксмо» выходила книга, над оформлением которой я сильно потешалась. Потому что там были в столбик и одинаковым шрифтом написаны фамилия автора и название книги.
Татьяна
Толстая
Невидимая дева
В общем, получалось абсурдное: «Толстая невидимая дева».
Кажется, редактор книги тогда посмеялась вместе со мной. Но на самом деле – «толстая и невидимая» – это очень про Никитичну. Очень.
Андрей Пермяков
О том, как собутыльник обманул Романа Сенчина[13]
Осенью 2009 года сидели мы за столом в одном из маленьких райцентров одной из маленьких республик Поволжья.
Дама из библиотеки спросила:
– Андрей, а вы книжку «Елтышевы» читали? Ее Роман Сенчин написал.
Я скривился очень снобистски.
– Ну, – говорю, – читал. А чего там хорошего?
– Как это? Там же все-все про нашу жизнь прямо!
– Почему «про вашу жизнь»? Там про мента. Его с работы выгнали, он уехал в деревню, жену с детьми увез. Ну, и плохо все закончилось. Это у Мамина-Сибиряка было: «так и сгинула вся семья».
– Да! И у нас всегда так. Все время. Хоть с кем так может быть!
Стал переубеждать. Дескать, поселок ваш небогат, а смотрите: вот стол накрыт от души, вот любой почти дом отремонтирован или под ремонтом. Крыши кроют, то-другое. В ДК за три копейки можно выпить-закусить. Нет. Уперлась, как морковка, и обиделась немного.
Той же осенью я еще ругал Сенчина за общее уныние на обсуждении его книги, устроенном Евгенией Вежлян. И еще как-то ругал. Придирался к унылой манере и тусклому взгляду.
А потом все переменилось. Я прочел его весьма документальную книжку «Тува». Это когда собирался именно в Туву. Отличная книжка. Совсем другой язык. Очень совпадающий с излагаемым. И еще несколько книжек Сенчина прочел.
Словом, «Елтышевы» – не черный-пречерный взгляд на черный-пречерный мир. «Елтышевы» – про неумение жить в мире, когда этот мир дает тебе возможность. Уточню: бывает, когда человек добровольно отвергает мир, это другое. Бывает, хоть и нечасто, когда мир отвергает человека. А тут надулся человек на этот самый мир, ждет от него зла. То и получает. А язык такой специально. Творческий маргинал станет мыслить витиевато, несложный человек, обретший гармонию, – иронично, а Елтышевы – вот так.
Нет, провалы у Сенчина тоже бывают, безусловно. Скажем, исходный момент в рассказе «Жить, жить…» вполне правдив. В сгинувшей рюмочной «Второе дыхание» вполне мог подойти к автору джентльмен и наплести про уральскую тайгу весной. Мол, заблудился он там, кожу свою резал и варил. Вот и шрамчики посмотри, на.
Рассказать он это мог, но зачем такое в прозу тащить? Дело даже не в болевом шоке, а в энергетической невозможности. Есть такой закон сохранения. Организм не сможет залатать раны, поедая взятую с них кожу. Термодинамика возражает. И вообще – имея спички и котелок, в уральской тайге даже весной выживешь без экстремизма. Грибы ж сморчки уже поспели, например. Ежики, опять-таки, съедобны, как мы знаем из книги Бориса Полевого о настоящем человеке. На севере Урала ежей немного, но если уж очень захочется «жить, жить…» – и они найдутся.
Словом, обманул собутыльник писателя. Но это ничего. Мы писателей за другое любим. Да и собутыльников, поставляющих сюжеты, тож.
Станислав Секретов
О «тык-дыках»
«В некотором царстве, в некотором государстве сел Иван-царевич на коня и поскакал: тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык тык-дык…» А дальше – еще 160 страниц этих «тык-дыков». Между прочим, вполне реальная книжица Евгении Голубевой «Тык-дык» (2011).
Прикол приколом, но в прозе современных авторов, в том числе и увенчанных премиями, тык-дыков хватает. Некоторые по-толстовски мыслят даже не страницами, а десятками авторских листов. Да только до замка графа Толстого путь неблизкий. Тык-дык тык-дык тык-дык… На выходе – семисотстраничные «кирпичи». Если не девятисотстраничные. Звезданешь таким обидчику по башке – книге хоть бы хны, а вот башка обидчика треснет. И еще критики отдельные масла в огонь подливают: мол, роман объемом в шесть авторских листов – это и не роман вовсе. Повестушечка. Фигня. Даешь двенадцать! Восемнадцать! Двадцать четыре! Только сами потом шушукаются в кулуарах. Одни тихонечко признаются, что данилкинского «Ленина» полностью не осилили – десятки страниц пролистали, почти не глядя. Другие никак не могут оценить романы Сергея Самсонова – шибко длинные, зараза! Вот и назвали в итоге его «Железную кость» производственным романом про завод. Видать, решили, что там после трехсотой-четырехсотой страницы и дальше про завод будет, и читать бросили. А Шамиль Идиатуллин с «Городом Брежневым»? Столько нового про пионерское детство рассказал! Тык-дык тык-дык тык-дык… Возьмем примеры посвежее. Гришковца, например, с его «Театром отчаяния». 912 страниц. Некоторые книжные обозреватели, величающие себя литературными критиками, пытались было подступиться к фолианту, но не сдюжили – это ж сколько читать надо! В итоге наполнили свои обзоры тык-дыками.
Посоветовать, что ли, редакторам беспощадно резать по живому, не жалея чувств авторов? Так авторы ногами топать принимаются, аки дети малые: «Как смел ты, червь, мой тык-дык убрать?!» Думают, что редакторы им зла желают, ампутируя тык-дыки без наркоза. Ведь каждый тык-дык важен. Каждый – уникален! Тык-дык тык-дык тык-дык… Поколение писателей, годящихся мне в деды, раз за разом пересказывает день похорон Сталина. Тык-дыки почти везде. Хотя надо признать, Евтушенко один запоминающийся образ нашел. Остальные же… Тык-дык тык-дык тык-дык… Поколение писателей, годящихся мне в отцы, раз за разом пересказывает день похорон Высоцкого. Тык-дык тык-дык тык-дык… Что будут пересказывать ровесники?
До нужного объема заметка недотягивает, поэтому отсыплю-ка я вам на дорожку тык-дыков щедрою рукой. А заодно каких-нибудь умных словечек разом накидаю, без которых, поговаривают, критику ай-ай-ай как нельзя.
Дискретность, эксплицитный, дискурс, инклюзивный, апофатический… Тык-дык тык-дык тык-дык…
Елена Погорелая
Об «исторической фантасмагории» как новом жанре[14]
«Историческая фантасмагория» – термин, оброненный критиком и историком Сергеем Беляковым в разговоре о романах из букеровского короткого списка-2017 и способный многое прояснить в современной литературе. Действительно, то, что в романах 2010-х окрашено в краски истории, к историческому реализму часто имеет весьма отдаленное отношение, а вот к историческому театру, к кровавому карнавалу эпох – это да. Историческая фантасмагория – определенно новый жанр начала XXI века; а может ли он применяться в детской литературе?
Юлия Яковлева уверена, что может. В 2015 году она задумывает пятикнижие, обращенное к современным подросткам и рассказывающее о сталинском времени на понятном им языке. Рассказ этот – страшный, фантасмагорический, вуалирующий привычные нам документальные факты и подселяющий их в детскую сказку, которая с готовностью подставляет свою «морфологию». Тут вам и волшебные помощники – говорящие птицы и крысы, все знающие о царстве Ворона («Дети ворона», 2015), и страшная Баба-яга, в блокадном Ленинграде ставящая на огонь кастрюлю, чтобы полакомиться детским мясом («Краденый город», 2016), и превращения, и путешествие за тридевять земель – так, обернувшаяся кошкой Таня спешит в Ленинград, чтобы там воевать против крыс («Жуки не плачут», 2017) … Расхожие метафоры вроде «у стен есть глаза и уши» прорастают у Яковлевой жутким видением: «В сером лунном свете Шурка увидел, что из стены торчат два овальных листка, похожие на листки фикуса. Уши… Уши прянули, повернулись на шум». Спрессовываются друг с другом узнаваемые реалии и плотные литературные реминисценции. От сцены переименования маленьких ЧСИРов, членов семей изменников Родины (Аня становится Тракториной, а Митя Коммунием) веет антиутопией. От сцены борьбы детей в блокадном Ленинграде с мебелью, которая не хочет быть пущена на дрова, – Гоголем или Хармсом. От привязанности маленького Бобки к плюшевому медвежонку – добром и любовью, непобедимыми даже в эти отчаянные годы.
К сожалению, в последней книге фантасмагория настолько явно вытеснила историю, что «Жуки не плачут» вряд ли могут рассчитывать на успех у подростков. Кровавый карнавал, могущий привлечь детей, падких на острые ощущения («Шапка! А ты людей ел?»), уступает место многоступенчатой онтологической теории автора – что-то о переселении душ и ловце младенческих снов. Но как оценить это маленькому читателю, если в сложной метафорике «Жуков…» путается даже взрослый? Впрочем, еще две яковлевские книги, посвященные «мрачному восьмилетию», только обещаны, и, возможно, в них вся эта изломанная, напряженная логика прояснится.
Анна Жучкова
О повороте литературы от идеологии к личности[15]
Последние года два можно наблюдать разворот литературы от идеологических обобщений к частной жизни. В ноябре 2017-го на книжной ярмарке в Красноярске я наблюдала, как у стенда «Редакции Елены Шубиной» покупатель, уныло листая «Тайный год» Михаила Гиголашвили, спрашивает:
– Опять про историю?
– Нет, что вы, – горячо откликается Алексей Портнов, – про человека!
Однако вираж от идеологии к личности оказался с заносом. И почему-то необычайно актуальной стала тема психических отклонений. Анна Козлова получает «Нацбест» за роман о шизофрении «F20», Александра Николаенко премию «Русский Букер» за стилизованный под поток сознания дебила роман «Убить Бобрыкина». О травме детства, перешедшей в серьезное отклонение, «Принц инкогнито» Антона Понизовского. Алексей Слаповский в «Неизвестности» подводит итог столетию образом героя-аутиста. Актуальность литературы состоит сегодня в отражении способов восприятия реальности разными людьми.
Поэтому все более востребованной становится форма романа-мифа (И. Богатырева, «Кадын», «Формула свободы»; В. Медведев, «Заххок»; О. Славникова, «Прыжок в длину» и др.). Совмещение реального и фольклорно-мифологического, обращение к этническим и магическим мотивам привносит новую энергию, что доказывает неизменный успех романов Алексея Иванова. Отважнее всех к новому дискурсу устремилась Дарья Бобылева, заменив героя как центр коллизии фольклорной стихией в романе «Вьюрки».
Но отказ от психологической детерминированности героя обусловливает то, что все большей смысловой нагрузкой наделяется личность автора, незримо присутствующая в произведении. Автор-творец, транслирующий через художественный мир свой способ бытия, становится не менее важным объектом исследования, чем структура или язык произведения. Искренность «личности автора», его готовность делиться своей жизненной философией и витальностью «вытаскивают» даже неумело сконструированные произведения, такие как «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной или «Заххок» Медведева. Но может быть и обратное, как случилось с романом Дмитрия Новикова «Голомяное пламя», в котором есть и этнический колорит, и особый язык, и национальная проблематика, но нет главного – правды. О мелких и средних «неправдах» этого романа пишет Галина Акбулатова в статье «Технология успеха и технология романа» («Урал», 2017, № 12). А крупная неправда прозы Новикова в отсутствии авторского «я». Бахтинский диалог у него – иллюзия. На другом конце никого нет. Автору-«творцу» стыдно показаться публике? Король гол?
А вот Александре Николаенко было не стыдно, а жизненно важно писать Бобрыкина изнутри себя, открываясь миру. И потому «Русский Букер» получила она, а не Дмитрий Новиков.
Ольга Балла
О судьбе русского романа как способа высказывания, или о «жанре-реципиенте» и «жанре-доноре»
В этой летучей заметке хочу я собрать для предстоящего обдумывания некоторые соображения, связанные с судьбами романа как способа высказывания и формы собирания жизни: о размывании в последнее время русским романом своих берегов за счет освоения признаков и приемов, свойственных другим жанрам, о взаимодействии этих приемов и признаков с традиционными приметами романа, служащих к его обогащению и трансформации. В связи с этим введем понятия «жанр-реципиент» и «жанр-донор» (как легко понять, первый вращивает в себя отдельные элементы второго).
Жанром-донором для романа-реципиента прежде и чаще всего оказывается эссе – прямая, поверхсюжетная речь, превосходящая сюжет, иногда и перерастающая его. (Соображения о донорстве других жанров наметим и разовьем в следующий раз – как, впрочем, стоило бы впредь развить и все, что будет сказано ниже.)
Срастание с эссе вплоть до перерастания в него происходит в заявленном как роман в тексте Кирилла Кобрина «Поднебесный экспресс» (2019). На самом деле этот текст всего лишь использует романные признаки – да еще и из самых броских: фантастическое допущение, детективная интрига, – чтобы затем оставить их в небрежении и выговорить важные для автора мысли, которым, с одной стороны, удобно в направляющих рамках романа, с другой – чем дальше, тем все более тесно в них.
Александр Иличевский в «Чертеже Ньютона» (2019), полном разрастающихся внутренних пространств, делает нечто отчасти сопоставимое – но, пожалуй, более объемное в смысле направлений разрастания. Текст, на самом деле, очень интересный во многих отношениях, но, кажется, едва ли не против воли автора сопротивляющийся тому, чтобы быть именно романом (по крайней мере, в традиционном его понимании). Сюжетная конструкция «Чертежа…» настолько переполнена вмещаемыми в нее громадами массивов, по существу, внесюжетного, самоценного материала, что кажется необязательной, и читатель, завороженный уже самим этим обилием, не говоря уже о чуткой, тонкой и точной выделке словесного и смыслового вещества, чуть ли не забывает о ней (а то и вправду вовсе забывает – и резко выдергивается из этого забвения возвращением повествования в сюжетное русло). Некоторые же фрагменты романа прекрасно смотрелись бы как отдельные эссе, скажем, в вышедшем одновременно с «Чертежом» эссеистическом сборнике того же автора «Воображение мира» (меня и по сию минуту не покидает чувство, что это две части одного высказывания). Придуманная Иличевским история, удерживающая всю конструкцию в целости, оборачивается лишь поводом к тому, чтобы выговорить огромное количество всего: от впечатлений от разных стран и пространств (здесь роман активно перенимает черты травелога) до соображений о взаимоотношениях научного и религиозного мировосприятия (и тут он уже активно вращивает в себя черты метафизического трактата).
Большое эссе (и одновременно небольшой травелог – по парижскому пригороду) представляют собой, в сущности, и «Предместья мысли» Алексея Макушинского (2020). Весь сюжет «философической прогулки» объемом в пять сотен страниц в том, что повествователь (совершенно, кажется, совпадающий с автором) идет по парижскому пригороду Кламару к бывшему дому Бердяева, припоминая по ходу этого движения все, что связано с Бердяевым и другом его Жаком Маритеном, жившим в соседнем пригороде – Медоне. Ни выдуманного сюжета, ни выдуманных героев: это одновременно и дневниковая запись, и небольшой травелог (иногда – почти путеводитель с точной топографией; с этой книгой в руке можно уверенно добраться до места), и история философской и религиозной мысли первой половины XX века, и биография людей, в эту историю вовлеченных, и анализ – во внутреннем диалоге с ними – собственного духовного опыта и мироотношения вообще («мне слишком нравятся надорванные фантики, подробности бытия, чтобы я мог быть философом»), а все вместе – да, роман.
Роман Сенчин
О двух главных качествах в литературе на примере одной книги
Недавно в Питере мне подарили книгу. Петр Разумов, «Срок – сорок» (2019).
Об авторе, прошу меня извинить, я ничего не знал, и до сих пор не заглядываю в Интернет, поэтому не знаю, вымысел его книга или нет. Но ощущение предельной автобиографичности, достоверности очень стойкое.
По сути, это ощущение и есть самое важное в прозе. Фантазировать – полезнейшее свойство для литератора. Правда, большинство фантазирует так, что читатели сразу понимают: такого не было и не могло быть. Касается это не столько фантастикци и фэнтези, сколько так называемой реалистической прозы. Реализм ведь тоже бывает недостоверным, и еще как бывает.
У нас тут не место для рецензий, и я не буду писать рецензию. Хочу обратить внимание на автобиографическую, документальную прозу. Когда критики характеризуют героя той или иной вещи словами: «Автор писал его с себя… Персонаж почти стопроцентно похож на автора», – мне хочется спросить их, критиков: «А откуда вы так хорошо знаете автора?»
Ощущение достоверности зачастую подменяет документальную точность. И это неплохо, это плюс.
Повторяю, что не знаком с биографией Петра Разумова. Может быть, он все – или почти все – придумал. А может, описал со всей возможной точностью свою жизнь. Впрочем, в любом случае не один в один. Он сам в этом признается: «К сожалению, я не могу рассказать ВСЕ. Во-первых, потому что боюсь обидеть людей, которые могут прочитать эту книгу. Во-вторых, есть вещи, уместные только в постели или туалете, которые можно рассказать аналитику, да и то бледнея и стесняясь. Вещество, из которого состоит большая литература, часто не давится. Это даже хорошо, потому что у меня в данный момент нет литературных амбиций. Я просто рассказываю свою жизнь подходящими словами, пусть просто, зато честно».
Да, в беллетристике (я отношусь к ней с уважением) можно многое написать глубже, рассмотреть то или иное явление внимательнее. Но редко когда беллетристическое произведение порождает у нас чувство достоверности. Редко мы по-настоящему сочувствуем героям. Герою же так называемой автобиографической, документальной прозы сочувствуем гораздо чаще.
Жизнь автора, вернее, героя «Срок – сорок», в общем-то, не изобилует удивительными событиями. Она не уникальна. И в то же время уникальна, как любая жизнь.
Я довольно часто вспоминаю слова Александра Герцена из предисловия к журнальной публикации «Былого и дум»: «Для того чтоб писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, – для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказать. Всякая жизнь интересна; не личность – так среда, страна занимают, жизнь занимает. Человек любит заступать в другое существование, любит касаться тончайших волокон чужого сердца и прислушиваться к его биению… Он сравнивает, он сверяет, он ищет себе подтверждений, сочувствия, оправдания».
«Былое и думы» – это, конечно, никакие не воспоминания, не мемуары. Это настоящая автобиографическая, документальная проза. Настоящая эпопея.
У Герцена немало произведений беллетристического характера. Почти все они забыты, а «Былое и думы» читаются и перечитываются. Хотя, строго говоря, в них нет ничего необыкновенного. Довольно типическая судьба мыслящего, пытающегося что-то полезное сделать для родины человека середины позапрошлого века, встречающего на своем пути других подобных людей, переезжающего из города в город, из страны в страну, то по своей охоте, то нет.
Но как интересно и полезно читать.
Да, именно эти два качества – «интересно и полезно» – для меня главные в литературе. Беллетристика часто бывает интересна, но бесполезна, а хорошая документальная книга, созданная автором на основе своей жизни или же мастерски имитирующая это, почти всегда полезна.
Правда, книг таких становится все меньше. Документальная проза чаще всего обращается в прошлое, в историю, автобиографию заменяют биографии. Представители нового реализма, лет пятнадцать назад пришедшие со своими человеческими документами и наделавшие немало шуму в литературном мирке, заставившие читателя, разуверившегося найти честное и близкое в современной прозе, вернуться к ней, нынче почти поголовно стали авторами серии «Жизнь замечательных людей». Словно их собственные жизни закончились.


