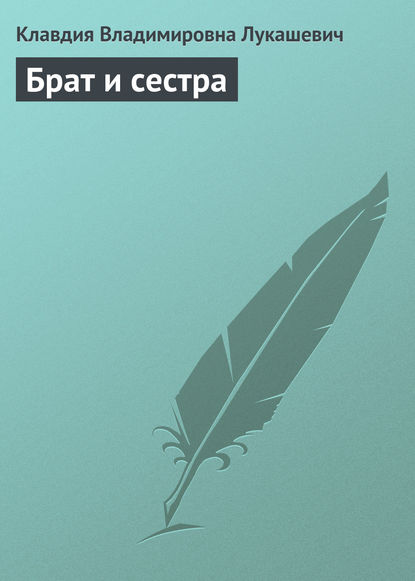Полная версия
Полная версия- Рейтинг Литрес:5
- Рейтинг Livelib:3.3
Полная версия:
Клавдия Владимировна Лукашевич Босоногая команда
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Клавдия Владимировна Лукашевич
Босоногая команда
Пасхальная ночь
Лет тридцать тому назад, на окраинах Петербурга люди жили гораздо проще, скромнее и даже веселее, чем теперь.
На Васильевском острове, в 15-ой линии, за Малым проспектом были выстроены только небольшие деревянные дома, большею частью одноэтажные, с наружными ставнями у окон. Жили там люди небогатые: мелкие чиновники, неважные купцы, ремесленники, торговцы да фабричные, так как кругом было немало фабрик.
По воскресным и праздничным дням обитатели маленьких домов высыпали на улицу: по мосткам гуляли девицы, обняв друг друга за талии; в иных местах молодежь играла в горелки, в пятнашки; босоногие ребятишки сражались в лапту, в городки, в бабки, а пожилые люди сидели у ворот на скамейках и вели долгие беседы. Всюду было просто и оживленно.
Улицы в то время на Васильевском острове были не такие, как теперь: на них не было каменной мостовой, не было асфальтовых тротуаров, трава пробивалась всюду, где только ей не мешали, а посреди улиц тянулись высокие деревянные мостки.
В том году, о котором я теперь вспоминаю, Пасха была очень поздняя. Стоял конец апреля, и в природе давно уже повеяло ранней весной: все оживало, все пробуждалось от зимнего сна, чаще сияло и дольше оставалось на небе солнце; из-под таявшего снега бежали быстрые ручейки; около заборов там и сям между желтой прошлогодней травой пробивалась молодая, свежая травка; деревья покрывались почками, которые быстро развертывались в маленькие, липкие, ярко-зеленые листочки; прилетевшие птицы звонко чирикали, приветствуя приход весны.
* * *Наступила пасхальная ночь. Только раз в году и бывает такая ночь: чудесная, торжественная! Никто не спит в эту святую ночь: всюду движение, сборы, и сердце самого обиженного горемычного человека невольно наполняется тихой надеждой и радостью.
По улицам зажигались плошки; народ по всем направлениям шел и шел беспрерывно; окна домов были освещены; православные собирались к Светлой Христовой заутрене…
* * *В одном из подвальных этажей небольшого дома, по 15 линии Васильевского острова, сырая, темная, низкая квартира отдавалась по углам. И там, где очевидно не красно жилось людям, в наступившую пасхальную ночь все выглядело чище, спокойнее и радостнее. Во всех углах копошились жильцы, одеваясь в свое лучшее платье.
В первой комнате, за старой рваной ширмой только один из всех жильцов подвала никуда не собирался и лежал чуть ли не на голых досках, подложив себе под голову вместо подушки какое-то старое тряпье. Это был еще не старый мужчина, исхудалый, бледный, со впалыми глазами, очевидно, больной. Он печально смотрел на мальчика, присевшего боком около него и опустившего голову.
– Надо бы, Гришута, сходить к заутрене, – тихо сказал больной.
Мальчик встрепенулся и встал. На вид ему было лет десять. Волосы у него торчали, будто у ежа, глаза были круглые-прекруглые, а довольно большой вздернутый нос придавал лицу и отвагу и задор. Но при всем том смотрел он прямо, и лицо его выражало доброту и ласку. Да и стоял-то мальчуган особенно, заложив руки за спину, выставив одну ногу вперед и немного откинув набок голову.
– Не во что одеться тебе, Гриша!.. Да и сапог нет!..
– Не беда, батюшка… Можно и без сапог, нынче не холодно. Одену матушки-покойницы кофту черную.
– Ведь и шапки-то нет у тебя, сынок.
– Я, пожалуй, и платком повяжусь.
Отец тяжело вздохнул.
– Нет, это не ладно… Точно девчонка… Одень опять мою старую, все же лучше… Велика только, – вся твоя голова в ней пропадет…
– Ништо… Так ладно будет.
– Эх, горе мое! Сгубила нас с тобой, сынок, эта болезнь моя. Поди, помолись… Детская-то молитва скорее до Бога дойдет.
– Пойду… Только как же ты-то останешься?
– Мне легче теперь…
Гриша достал из-под кровати корзинку, стал в ней шарить и одеваться.
– Какая сегодня служба-то великая идет, – говорил сам с собой больной. – В храмах Божиих какие стихи поют, какие псалмы читают! А потом все люди, забыв зло и вражду, обнимут друг друга, скажут: «Христос воскресе!»
– Батюшка, а батюшка!
Гриша посмотрел на отца и подумал: «Уж не заговаривается ли он?»
– У меня и трех копеек нет тебе на свечу, – глухо сказал отец.
– Ништо… У меня есть огарышек. От 12 Евангелиев остался… «Советник» дал. Увидел, что я стою без свечи, хлопнул легонько по плечу и свечку сунул… Я ее берег… Вот она…
Он встал с пола и вырос перед отцом в порыжелой женской кофте, с головой, ушедшей в старую барашковую шапку, которую он все сдвигал назад. Как он был смешон! Но отец даже не улыбнулся. А уморительный человечек в этой шапке и кофте вдруг схватил больного за шею, припал к нему на грудь головой и замер… Детская ласка везде одинаково мила – и в богатых домах, и в темном сыром углу. Больной ласкал и прижимал к себе дорогую ему голову в большой шапке и глотал подступившие к горлу слезы.
– Нам и разговеться нечем… Нет и яичка красненького для тебя, Гриша.
– Не тужи, батюшка… Ништо… Я скорехонько и дома.
Мальчик скрылся за дверью.
* * *В другом углу того же подвала жила прачка-поденщица. За темной ситцевой занавеской, она снаряжала своих детей к заутрене. Дети оделись в старенькие, заплатанные платья. На простом белом столе стояли очень маленькая пасха, небольшой покупной кулич. И здесь жили бедно… Вдова-мать работала без отдыха, но ведь труд поденщицы оплачивается плохо. Ей едва хватало, чтобы платить за сына в школу, чтобы есть каждый день, и то не досыта, да жить здесь в углу, в подвале.
– Мама, а разговеемся-то мы когда? – спросил подросток-мальчик в чистой ситцевой рубашке, бледный и высокий, с задумчивыми серыми глазами.
– Уж и ты, Степушка, словно маленький, – не дождешься. Придем из церкви и разговеемся.
– Тогда и яичко красненькое дашь? – спросила девочка лет семи, как две капли воды, похожая на брата.
– Одним мы разговеемся, а те завтра остальные дам.
– Вкусно! Так слюнки и текут! – проговорила улыбаясь девочка и тронула пасху пальцем.
– Не трогай! Что ты?! Ведь грешно, – остановила ее мать и поспешно завязала пасху в чистый платок.
Не мудрено, что здесь так нетерпеливо ждали разговенья: весь длинный пост они строго постились, ели впроголодь.
* * *Семья лавочника, лавка которого красовалась на углу Малого проспекта и 15 линии, тоже собиралась в церковь. Пятеро краснощеких детей и сама хозяйка разрядились пестро и пышно. В чистую скатерть завернули огромный разукрашенный кулич, большую пасху с розовым бумажным цветком.
Хозяйка зачем-то пошла в сени. Поторопилась и в дверях столкнулась с входившим мальчиком.
– А, чтоб тебе!!! Не смотришь… Вечно налетишь…! Кажись, все платье оборвал. Так бы тебя, кажется…
И она изо всей силы двинула мальчика, тот отлетел в сторону.
– В церковь идешь, к заутрене, а все лаешься, – произнес где-то в темных сенях мрачный детский голос.
– Хозяин! Иван Никитич! Поди-кось сюда. Послушай, как Андрюшка мне опять грубит… Зазнался! Покою от него нет! – кричала в сенях толстая хозяйка.
– Ужо я его… Сейчас иду… Позабыл мою науку, малец? Ужо я доберусь! – послышался в комнате звучный бас хозяина.
Андрюшка не так был прост, чтобы дожидаться расправы: он шмыгнул из сеней и живо очутился за воротами. Это был некрасивый, рыжий, косоглазый мальчик, круглый сирота и жил из милости у разбогатевшего лавочника, дальнего родственника. Не видел он ничего хорошего в скупой, думавшей только о наживе семье.
В наступающий Светлый праздник Андрюшка знал, что ни от кого не услышит ласкового слова: нет у него; родной души, никому нет до него дела, он совершенно одинок.
* * *В том же доме, где помещалась лавка, в мезонине в одной тесной комнате жил столяр, жена его, Марья Ивановна, была портниха.
В их комнатке все дышало чистотой; перед большой божницей ярко горела лампада.
Марья Ивановна принарядила свою единственную дочь Марфушу, посмотрела на нее и подмигнула мужу: тот с нежностью остановил на ней взор. Темная коса девочки была гладко причесана и заплетена розовой ленточкой; румяное миловидное личико склонилось над тарелкой с яйцами; она что-то про себя шептала, указывая поочередно на каждое яйцо.
– Что ты там шепчешь? – ласково спросила мать.
– Мамашенька, одного яичка не хватает. Как хотите… Посчитайте сами…
– Что ты, Марфуша, да ведь там целый десяток.
– Вам и папашеньке, бабиньке с дедушкой, тете Ане, слепой Маврушке, дяде Антону, Грише, Степе и Анюте… А «советнику»-то?
– Ишь ты как всех наградила! Откуда ж я тебе возьму? У меня больше нет.
– Ну, мне не надо. Пусть ее дает, коли ей любо, – сказал, улыбаясь, отец.
– Уж ты у нас, отец, баловник! Избалуешь дочку.
Марфуша бросилась отцу на шею и звонко его поцеловала.
На улице в это время раздался первый пушечный выстрел.
* * *Из калитки маленького деревянного старого дома с зелеными ставнями, выглядевшего чище других по 15-той линии, вышел высокий, несколько сгорбленный, но еще бодрый старик в широкой шинели, в картузе с кокардой и с узелком в руках: там были кулич и пасха. Вместе со стариком вышла девушка, уже не первой молодости, высокая, худая, с длинным носом, в кринолине, в маленькой круглой шапочке и суконной кофте.
Из отворенной калитки выглядывала старушка с седыми локонами и с накинутой шалью. Яркое пламя вспыхнувших около дома плошек осветило милое доброе лицо старушки с голубыми глазами, и гордую, серьезную девушку, и старика. Высокие, туго накрахмаленные воротники заставляли его держать голову прямо, как будто бы важно. Из-под седых бровей смотрели веселые черные глаза, молодые по выражению, которые совсем не подходили ни к седым волосам, ни к сгорбленной фигуре.
– Идите с Богом! За меня помолитесь. Я уж тут, дома… – тихо сказала старушка.
– Уходи, уходи, Темирочка, еще простудишься. Закрывай калитку, – заботливо посоветовал муж.
– Я думаю, к двум часам и домой вернетесь. Ну, Господь с вами! – и старушка скрылась за калиткой.
А в это самое время мимо старика с его дочерью прошмыгнули два мальчугана, один в кофте и в большой шапке, а другой – высокий, худой.
– Опять эти мальчишки! – с ужасом и негодованием воскликнула девушка. – Никогда от вас покою нет. Кажется, видите – папенька к заутрене идет… Понимаете?!
– Оставь, полно, Агнесочка… Они ведь ничего… Пускай идут вместе.
– Нет, папаша, увольте от этой милой компании. Дайте хоть в праздник вздохнуть свободно. Ваши мальчишки мне надоели до невозможности.
Старик замолчал. Мальчуганы перебежали на другую сторону. Там их поджидала целая компания маленьких оборванцев в стоптанных сапогах, а то и вовсе без сапог и в заплатанных пальто.
– «Советник» с «принцессой» в церковь пошли, – объявил один из мальчуганов.
– Он сказал что-нибудь? – пропищал тоненький голосок.
– Что он скажет?! Глупая! – Просто пошел к заутрене.
– Пойдемте, ребята, в церковь!
Вся ватага двинулась вдоль улицы. Не одна пара детских глаз провожала с затаенным любопытством, с немой надеждой, многие – с лаской, шедшего по 15-ой линии старика в картузе. От времени до времени он приподымал фуражку и приветливо кланялся ребятишкам.
– «Советник» к заутрене пошел! – передавалось из одних детских уст в другие.
– С кем? – допытывались не видевшие.
– С «принцессой на горошенке».
– А «седая богиня»?
– Дома осталась. Только за калитку проводила.
– Он ничего не говорил?
– Что же он скажет?.. «Принцесса» рассердилась, зачем мы его ждали… Прикрикнула… Он ей что-то пошептал.
В это время раздался первый удар колокола в соборной церкви, его благостный призыв загудел, расстилаясь по воздуху… Еще удар… Потом в другой церкви… Снова где-то дальше. И пошел гулкий звон во всех церквах.
Ярче запылали плошки около церквей и домов… Усилилось движение на улицах. В церквах началась Светлая заутреня.
Много бедно одетых ребят, обитателей подвалов, конур и мезонинов, пробралось в ту церковь, куда прошел «советник» с дочерью.
Дети протискивались вперед, охотно ставили к образам свечи, когда им передавали, гасили огарки и посматривали по сторонам.
Дивно хороша пасхальная служба! Тысячи зажженных свечей… Крестный ход, возвращающийся в церковь с Радостным пением «Христос воскресе!» Светлое облачение духовенства… Торжественное, ликующее пение – все это оставляет неизгладимое впечатление, смиряет душу и заставляет позабыть и вражду, и злобу, и горе.
Рыжий Андрей стоял тоже в церкви, недалеко от Гриши. Оба они во все глаза смотрели на батюшку, когда он в конце заутрени вышел с крестом и, благословляя народ, три раза воскликнул: «Христос воскресе!»
– Воистину воскресе! – гулом пробежало по церкви… Все стали друг с другом христосоваться.
Андрей и Гриша стояли одинокими… Все-то с родными, с близкими, а у них никого нет.
Мальчуганы взглянули в ту сторону, где стоял старик с черными глазами – «советник», как они его называли. А он, улыбаясь, уже подходил к ним, крепко обнял сначала одного, потом – другого, христосовался и гладил их сиротливые головы.
– Христос воскресе, ребятки!
– Дяденька! Воистину воскресе!
– Приходите завтра к окну. Я вам по хорошенькому яичку дам… а пока вот, возьмите… – и, сунув мальчикам в руки по красному яйцу и по гривеннику, он поспешно отошел к дочери.
Начиналась обедня.
У открытого окна
Маленький серый дом с зелеными ставнями весь потонул в зелени: с одной стороны старый хозяйский сад, с другой небольшой отдельный двор для жильцов, с двумя кудрявыми березами да с кустами сирени. Высокая жердь с западней для птиц выглядывала из-за забора.
Мимо серого дома уже который раз с очевидным нетерпением проходили взад и вперед ребятишки: то мальчики, то девочки – в одиночку и по парам…
Вот появились и Гриша со Степой. Гриша – в большой черной кофте, старой шапке и босиком, а Степа – в неуклюжем дырявом пальто, в стоптанных сапогах и новой фуражке на голове…
Мальчики прошли медленно мимо окон деревянного дома с зелеными ставнями. Около крайнего окна, за дернутого синей занавеской, Степа приподнялся на цыпочки и заглянул…
– Нет, еще не видно, – с грустью прошептал он.
– Верно, кофей пьет, – возразил Гриша и сдвинул на затылок шапку.
Дети пошли дальше, но все обертывались и посматривали на серый деревянный дом, на заветное окно. Да и не они только… На другой стороне тоже с этого окна не спускал своих глаз рыжий Андрюшка.
День был ясный и теплый… На улицах с утра все говорило о Светлом Празднике: было чище прибрано, развевались флаги, народ шел нарядный и веселый, во всех церквах беспрестанно трезвонили… Тот, кого дети называли «советником», Семен Васильевич Кривошеий, живший в старом домике, только что отпил кофе. Он закурил сигару и собирался пройти из чистенькой кухни в свою комнату, чтобы открыть окно.
– Папенька, уж вы, пожалуйста, сегодня ваших грязных мальчишек не зовите в комнаты: везде вымыто и половики чистые настланы, – сказала ему дочь Агния, высокая худая девушка.
– Слушаю-с, «принцесса на горошенке».
– Я говорю серьезно, а вы все смеетесь. Я думаю, никому другому – мне приходится мыть и прибирать…
– Что делать, душа моя! Всякий знает, что столбовая дворянка и в VI книге записана… А вот приходится и полы вымыть самой, и постирать, и постряпать. Уж поверь, что труд только красит человека…
– Ну, папаша, не будем говорить об этом… А только знайте, что мальчишек ваших сегодня я не пущу в комнаты… От них только грязь, сор и гам…
– Эх, матушка, было бы на душе бело. А после моих мальчишек сор уберешь, и следа не останется…
– Вы не поверите, маменька, до чего они мне вчера у заутрени надоели: по церкви взад-вперед ходят, толкаются, на всех оборачиваются… Я все время волновалась. Противные!..
– Научить их некому, Агнесочка… Простые ребята… Только они без дурного умысла, – кротко заметила мать, тихая старушка с белыми локонами.
– Ну, «седая богиня», и дочь же у тебя ворчунья… Скорее состарилась, чем ты.
– Вы бы, папаша, лучше велели вашим противным мальчишкам в церкви стоять как следует…
– Слушаю-с, «принцесса»! – старик приложил руку к сердцу, комично раскланялся перед дочерью и прошел в свою комнату.
– «Советник» окно открывает! – гулом прошлось по 15-ой линии.
– Открывает, открывает, – вдруг радостно взвизгнул курносый Гриша и, как стрела, помчался к серому домику.
Окно действительно распахнулось. На одной из его половинок было приделано продолговатое зеркало, в которое было видно далеко-далеко все, что делалось по 15 линии. Чего только не придумает чародей-«советник»!
Теперь он стоял у окна, вдыхая теплый весенний воздух и потягиваясь. Как спокойно, простодушно смотрели на этот ясный день его незлобивые, улыбающиеся черные глаза, как приветливо он улыбнулся, когда у открытого окна вдруг со смехом выросли барашковая шапка и кофта, как будто на вешалке: человека в них было не видно.
– А-а-а-а! Рулевой! Здравствуй!
Всех мальчуганов Семен Васильевич называл по-своему. Гришин нос был прозван «рулем», а он сам назывался не иначе как «рулевым».
– Дяденька, как ты сегодня долго окно не открывал! – упрекнул его мальчуган, сдвигая на затылок шапку.
– Ишь, ты какой ловкий! Думаешь, что у меня и свет в очах – как бы поскорее для вас окно открыть?! Думаешь, очень мне хочется вас видеть?! Очень я соскучился о «босоногой команде»?!
– Дяденька, ты нарочно… А уж мы-то ждали, ждали… К окну подбегали ребятишки…
– Христос воскресе, дяденька!
– Воистину воскресе!
– Дяденька, возьми яичко! Вот от меня еще… Вот красненькое… Еще сахарное… Это вот…
– Ну, спасибо, спасибо… Куда мне столько! Здравствуйте, здравствуйте, «друзья из босоногой команды», – шутливо говорил Семен Васильевич и, перегнувшись, целовал ребят и тоже дарил им яйца, которые сам красил.
– Смотрите, ребята, какое у меня-то яичко! С крестным ходом… Занятно!..
– А у меня – «Христос» и «Воскрес»…
– У Гриши сердце с полымем нарисовано…
– У Андрюшки – два голубка беленьких…
– Никто, дяденька, не умеет так яичек красить, как ты. Право!..
Все, которые знали Семена Васильевича Кривошеина, видели его неизменно окруженным детьми, детьми худыми, бледными, бедно одетыми, босоногими… Какое удовольствие находил он в их обществе, о чем они вели нескончаемые разговоры, – многим было непонятно. Дочь его, Агния, ужасалась, возмущалась и всячески ограждала свой дом от вторжения «грязных мальчишек».
Но оригинал-старик не мог жить без своей «босоногой команды». Его сердце с самого раннего возраста сжималось болезненно при виде птички с разбитым крылом, ободранной кошки, искусанной собаки, – он их приносил домой, жалел и лечил.
Жалея животных, куда больше он жалел детей. Он не мог видеть равнодушно худенького, бледного детского лица с выражением раннего горя, злобы и ненависти. Оборванные, беззащитные дети, росшие без семьи и ласки, в нем находили друга.
У открытого окна шел оживленный, несмолкаемый разговор.
– Ну, рассказывайте, что у вас нового? Гриша, что твой отец? Степа, хорошо ли учился?
– Отец дюже хворает…
– Страстную не учились… А то, дяденька, у меня все пятерки.
– Молодец, Степа, дай пожать твою благородную руку.
Мальчик рассмеялся и протянул худенькую руку.
– А меня, дяденька, отец к сапожнику после праздников поведет… – объявил белокурый подросток. – Неохота мне… Боюсь.
– Что делать, Петя. Будь сам хорош, и к тебе будут хороши…
– Я теперь уже умею глазурью покрывать пирожные, – хвастался маленький ученик кондитера.
– А у нас на фабрике мальчику палец оторвало…
– Это ужас что такое! И как это, дети, вы сами-то не остерегаетесь! – сокрушенно сетовал Семен Васильевич.
Уже много-много лет весною, летом и осенью открывалось гостеприимное окно «советника». Около окна, как в панораме, менялись дети: одни вырастали, уходили в ученье, другие появлялись вновь…
Дети расступились: к окну подошел молодой мастеровой.
– Христос воскресе, Семен Васильевич.
– Воистину воскресе! Здравствуй, Иван Петрович. Очень рад тебя видеть… Откуда? Какими судьбами?
– Издалека, Семен Васильевич. На Лахте работаю. Я в резчиках теперь. Вот вам подарочек принес своей работы… Не погнушайтесь, – и он вывернул из цветного платка шкатулочку, которую держал под мышкой.
– Ах, какая прелесть! Ну, спасибо, Ваня. Хорошо, тонко работаешь… А дороже всего, что вспомнил старика… Теперь все буду любоваться…
Дети наперерыв лезли к окну посмотреть затейливую резную шкатулочку.
– Я-то вас, Семен Васильевич, ни в «жисть» не забуду. Пригрели вы меня, бездомного малыша… доброму учили… Как вспомнишь что из прежнего… будто и родителев дом был… а все с вами…
Трудно было мастеровому передавать то, что он чувствовал.
– Ну, полно, полно, Ваня… Разве я мог что сделать?! Сущие пустяки!
– Нет, не говорите… Ишь, вы все с ребятами… Я как стал это понимать, – такое хорошее про вас подумал! – задушевно воскликнул мастеровой.
В это время у окна между детьми произошло неожиданное недоразумение: послышалось грубое, бранное слово, в сторону отлетела девочка и упала, всхлипывая…
– Это что такое? В такой праздник! Кто это? – строго спросил старик.
– Дяденька, я хотела тебе вот кошелечек отдать… сама связала! – заговорила миловидная девочка и залилась слезами.
– А зачем лезет вперед. Я ведь раньше ее встал к окну, – весь вспыхнув, сумрачно объявил рыжий, косоглазый Андрей.
– И чего ты, Андрюшка… Вечно в драку… Стоял бы тихо! – укорял Гриша, качая головой в огромной шапке.
– Не плачь, Марфуша, милая. Прости ради праздника этого злого… Андрей, а ты ступай прочь от моего окна. Я тебе много раз говорил, что терпеть не могу брани и драки…
– Эх, ты, Андрюшка… и чего, право, так сделал… Вот и дяденьку осердил! – говорили дети.
– Ступай, Андрей, слышишь… Приходи тогда, когда станешь добрее и отвыкнешь ругаться.
Мальчик пошел… В зеркальце, привешенное к окну, было видно, как стали вздрагивать его худые плечи, как низко наклонилась голова и он стал проводить рукавом по глазам. Верно, не легко было расставаться с открытым окном.
Семен Васильевич все видел, и ему жаль было всем сердцем удалявшегося. Но старик был непреклонен – ему хотелось в этих грубых детях заронить искру добра и света, и он наставлял их, как умел. Он знал: Андрей еще вернется.
– Счастливо оставаться, Семен Васильевич! – сказал, уходя, мастеровой.
– До свидания, голубчик Ваня. Спасибо за подарочек. Дорого, что работа твоих рук… Вот что…
– Дяденька, пусти нас к себе в комнату, – хором попросились ребятишки.
– Уж право не знаю. «Принцесса» моя будет недовольна. Вишь, «босоногие друзья», у вас ноги-то какие грязные, а у нас полы вымыты…
– Дяденька, я ноги-то о кофту хорошенько вытру, – предложил Гриша…
– Хороша будет твоя кофта. Нет, «рулевой», не согласен…
– Дяденька, ведь сегодня праздник… Пусти нас к себе! – умоляли дети.
– Ну, идите, только не все сразу… Сначала Степа и Марфуша. Ноги вытирайте хорошенько, не шалите и входите тише… А не то и мне, и вам попадет. Идите, я открою калитку.
Старик открыл калитку. Дети застенчиво вошли в квартиру.
– Ноги вытирайте… Всегда грязи натащите! – грозно раздался крикливый голос Агнии, и она показалась на пороге кухни.
– Они вытрут, Агнесочка, вытрут. Ты не беспокойся, – я присмотрю! – успокаивал старик волновавшуюся дочь…
Дети старались как можно незаметнее и тише бочком пробраться в заветную гостеприимную комнату, где они чувствовали себя так хорошо, так спокойно… Они сидели там смирнехонько и в сотый раз уже все разглядывали. Там было для них много интересного.
А за тоненькой перегородкой раздавались шаги и воркотня Агнии.
– Дяденька, пусти и меня к себе… И меня, миленький, дяденька… Меня тоже! – доносились шепотом мольбы с улицы, и в окно тянулись руки…
Трудно было устоять против таких скромных желаний.
– Что делать, друзья мои! Придется из моей комнаты бочонок с селедками устроить. Только я вас в окно перетаскаю… Чур! не смеяться и не шуметь. Ну, полезайте.
И один за другим в маленькой комнате оказалось! человек десять гостей. Когда Семен Васильевич тащил Гришу, то произошло неожиданное приключение.
Вертлявый мальчуган, вырвавшись из рук старика, упал и задел за кресло, кресло с громом полетело на него и покрыло его.
В кабинете раздался веселый взрыв хохота. Семен Васильевич сам весь трясся от смеха, но зажимал рот рукой и махал на детей…
– Это ужасно! У нас точно постоялый двор! – послышался за стеной полный негодования голос Агнии.