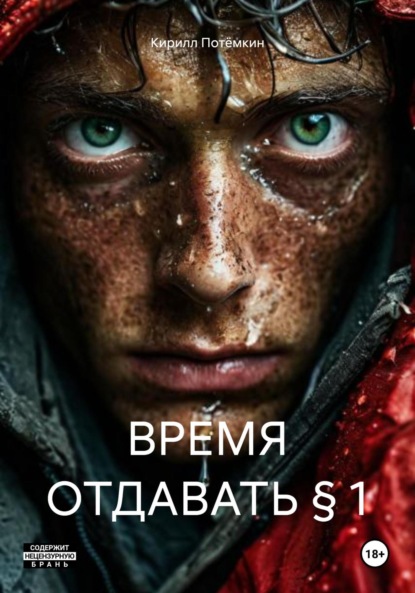Полная версия:
Кирилл Потёмкин Цикл Игры #2
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Цикл Игры #2
[ЗЕРКАЛО ГРЕХА] АККЛИМАТИЗАЦИЯ
1. Жидкий огонь
Сначала был звук. Влажный, чмокающий, тошнотворно-утробный. С таким звуком мясник выдирает ливер из туши. Или так чавкает болотная трясина, неохотно отдавая застрявший сапог вместе с ногой. Меня вырвали. Грубо, без анестезии выдернули из той секунды абсолютного триумфа, когда я стоял на Золотом Берегу, улыбался и чувствовал себя богом. Из той плотной, тёплой эйфории силы, которую я только недавно обрёл, сожрав своего демона. И на мне всё ещё были мои шорты…Потом, тьма схлопнулась мгновенно, отсекая реальность, как гильотина.
Я думал, что вынырнул. Инстинкт – тупая, живучая биологическая программа, которую даже смерть не успела стереть из подкорки, – заставил меня распахнуть рот, чтобы сделать первый победный вдох. Тот самый, которым я собирался поприветствовать этот новый мир, где я теперь был Королем.
И это стало моей первой, фатальной ошибкой.
Воздуха здесь не было. Вместо сладковатого озона Золотого Берега в глотку хлынул жидкий огонь. Эта субстанция не обжигала жаром – она была ледяной, как жидкий азот, но при этом разъедала слизистую так агрессивно, будто я глотнул расплавленного свинца вперемешку с битым стеклом. Меня выгнуло дугой. Позвоночник хрустнул, мышцы скрутило судорогой такой чудовищной силы, что я услышал, как трещат собственные сухожилия. Казалось, ребра сейчас проткнут кожу изнутри, словно прутья сломанной клетки.
– Где?! – билась паническая мысль, пока я корчился в конвульсиях. – Где моя сила? Где мышцы? Я же создал себе броню! Я только что был там!
Я попытался включить Волю. Напряг сознание, пытаясь вызвать интерфейс, вернуть себе облик, ударить ментальным кулаком…
Но наткнулся на пустоту. Внутри было выжжено. Пусто. Словно мне сделали лоботомию души.
Я попытался выкашлять ледяную дрянь, выблевать её обратно, но легкие не работали. Они словно склеились вязкой слизью, превратившись в бесполезные мешки. Я забился, как рыба, брошенная на раскаленный асфальт, царапая ногтями скользкую, жирную жижу под собой. Глаза залило чем-то едким. Сквозь мутную, грязно-желтую пелену пробивался Свет. Не солнце. Не лампа. И уж точно не то величественное Черное Солнце, которое я видел мгновение назад. Это был мертвенный, болезненный, фиолетово-сиреневый спектр, от которого сразу заныли зубы, а в мозгу запульсировала мигрень. Он давил на глазные яблоки, выжигал сетчатку. Свет морга, где только что вскрыли труп. Свет операционной в подвале маньяка.
– Держи его! Бьется! – голос прозвучал глухо, будто через слой ваты или толщу воды. В нем не было злости, ненависти или садизма. Только усталое, рутинное раздражение. Так говорят грузчики в порту в конце смены, уронившие тяжелый ящик с тухлой рыбой. – Очередной «возвращенец». Крепкий попался.
Меня схватили. Грубые руки, закованные в жесткие, пахнущие паленой резиной и дешевыми химикатами перчатки, впились в плечи. Пальцы стальными клещами сдавили ключицы, почти ломая кость. Меня поволокли. Моя спина скрежетала по чему-то твердому, склизкому и ребристому. Я чувствовал каждый стык, каждый острый камушек, впивающийся в позвоночник. Кожа горела. Казалось, с меня сдирают эпидермис живьем, слой за слоем, оставляя на камнях кровавые полосы.
– Дыши, падаль! Забудь, кем ты был! – кто-то ударил меня по спине. Сильно, профессионально, точно между лопаток, выбивая остатки гордости вместе с духом.
Из горла выплеснулся сгусток черной, маслянистой жижи. Я захрипел, жадно глотая реальность. Первый настоящий вдох. Воздух здесь пах не ванилью. Он пах озоном, серой, хлоркой и старой, запекшейся кровью. Он был густым, тяжелым, с отчетливым металлическим привкусом на языке. Вкусом окислившейся батарейки.
Я с трудом разлепил воспаленные, гноящиеся веки. Надо мной нависало Небо. Оно было низким, давящим, цвета несвежей гематомы – желто-фиолетовым, болезненным. По нему плыли не облака, а рваные клочья бурого, жирного дыма. А в центре, там, где должно быть солнце, висел мутный, бельмастый диск, окруженный пульсирующим, болезненным нимбом. Он смотрел на меня равнодушно и голодно, как глаз гигантской мертвой рыбы.
Я попытался пошевелиться, сжаться в комок, спрятаться от этого взгляда. Но я снова был голым. Я посмотрел на свои руки. Те самые, которыми я еще недавно мог крошить камни. Они были жалкими. Серыми. Не бледными, а цвета мокрого асфальта или пепла. Тонкие, с узловатыми суставами, покрытые какой-то слизью. На них не было волос. Вены под кожей вздулись черными, кривыми червями. Дрожащей рукой я провел по впалой груди, чувствуя под пальцами холодную, резиновую кожу. Спустился ниже, к животу…
Паника ударила в мозг ледяной иглой, страшнее любой физической боли. Там было гладко. Там ничего не было. Ни признаков пола. Ни шрамов. Ничего, что недавно делало меня мужчиной. Только гладкая, серая, бесшовная поверхность, похожая на промежность дешевого пластикового пупса. Я опять стал куклой. Заготовкой. Куском мяса без признаков личности. Меня не просто раздели – меня кастрировали на уровне генетики. Стерли. Отформатировали.
– Второй сорт. Брак переработки, – произнес механический, скрежещущий голос над головой.
Я с трудом скосил глаза, превозмогая боль в шее. Надо мной стояло Существо. Оно отдаленно напоминало человека, но его пропорции были чудовищно исковерканы, словно пьяный скульптор лепил его из разных кусков глины в темноте. Слишком широкие, покатые плечи, переходящие сразу в шею. Слишком длинные, обезьяньи руки, свисающие ниже колен. Лицо скрывала матовая, сросшаяся с кожей маска-респиратор, встроенная прямо в черепную коробку. Вместо глаз – мутные, фосфоресцирующие линзы. Из горбатой спины торчали гофрированные трубки, уходящие куда-то в темноту заплечного ранца, и внутри этих трубок пульсировало что-то бурое.
Я не знал, что это за тварь. Мутант? Демон? Генетический урод? Инстинкт подсказывал только одно: это не человек. Это местная фауна. Обслуживающий персонал Ада. В руках урод держал длинный металлический щуп-погонялку, на конце которого трещал и искрился синий электрический разряд.
– Чего вылупился? Забыл сценарий? – Тварь ткнула меня щупом в бок.
Разряд прошел сквозь тело, заставив каждую мышцу сократиться в унизительной судороге. Боль была не столько физической, сколько ментальной – она стирала волю, она сообщала мне мое место в пищевой цепи. – Вставай. Конвейер не ждет. Твоя прошлая «сборка» аннулирована, – прохрипел он сквозь респиратор, и в его голосе слышалось наслаждение моей беспомощностью. – Ты здесь никто. Мясо для Ангониума.
Я попытался встать. Новые, чужие ноги разъезжались в жирной, черной грязи, покрывавшей пол. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался бесконечный серый пляж. Сотни, тысячи тел копошились в грязи. Серая, скользкая масса, колышущаяся под фиолетовым небом. Кто-то полз, кто-то выл, свернувшись калачиком, кто-то просто лежал, глядя в бельмастое солнце пустыми глазами.
– Добро пожаловать домой, мусор, – прохрипел надсмотрщик и тяжелым кованым сапогом пнул меня под ребра. – Шевелись.

2. Карантин

Меня тащили недолго. Но каждый метр этого пути отпечатывался в сознании вспышками боли. Сквозь звон в ушах начал пробиваться ритм. Тяжелый, механический, инфразвуковой гул, от которого вибрировали зубы и дрожала диафрагма.
Бум-шшш. Бум-шшш.
Как сердцебиение умирающего великана, подключенного к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Нас швырнули на ленту. Это был не просто конвейер. Это была живая, пульсирующая полоса чёрного, ребристого материала, похожего на застывшую лаву или кожу гигантской рептилии. Она была теплой. Она медленно, но неумолимо ползла вперед, увозя сотни таких же серых, склизких тел в ядовито-зеленую дымку, клубящуюся впереди.
Я попытался приподняться на локтях, но тело предало меня. Конечности были ватными, чужими, словно набитыми мокрыми опилками. Слева от меня лежала женщина. Или то, что раньше было женщиной. Гладкая, лишенная сосков грудь вздымалась рваными рывками. Она тихо, монотонно выла, царапая ногтями ребристую поверхность ленты, оставляя на ней белесые полосы. Справа лежал старик. Его лицо, лишенное морщин (здесь мы все были пугающе молодыми, усредненными манекенами), выражало абсолютную, детскую обиду. Он смотрел в потолок остекленевшими глазами.
– Вы не имеете права… – шептал он, давясь слюной. – У меня мандат… Неприкосновенность… Я звоню куратору…
Лента ползла вверх, неумолимо приближая нас к развязке. Мы въехали под своды гигантской арки. Она была сложена не из камня, а из чего-то, напоминающего почерневшие, спрессованные кости гигантских животных, скрепленные бурым раствором.
И запах изменился. Если на берегу воняло тухлой рыбой и серой, то здесь воздух был пропитан Сахаром. Жженым сахаром, гнилыми фруктами, патокой и формалином. Приторно-сладкий, липкий аромат, от которого желудок мгновенно скрутило рвотным спазмом. Так пахнет в дешевой кондитерской, где под прилавком сдохла крыса.
Впереди, на возвышении, сидел Он. Судья Леденец. Я не знал его имени секунду назад, но оно само всплыло в голове, навязанное Системой, как только я увидел эту тварь. Он был огромен. Жирная, бесформенная, оплывшая туша, едва умещающаяся на золотом троне, инкрустированном черепами. Его кожа была неестественно розовой, лоснящейся, словно покрытой сахарной глазурью. На ней не было пор. У него не было ног – нижняя часть тела переходила в толстый, пульсирующий хвост-личинку, подключенный к десяткам прозрачных шлангов. По шлангам в него и из него текла разноцветная, светящаяся жижа.
Но самым страшным было лицо. Маленькое, пухлое, младенческое личико посреди горы жира. Крошечный рот-бутон и огромные, влажные, абсолютно черные глаза, в которых плескалась вековая, вселенская скука. Перед ним стояли Весы. Не чаши, а сложный механизм с набором линз, игл и кристаллов.
Очередь двигалась пугающе быстро. Надсмотрщики – те самые твари с респираторами в черепах – подхватывали очередное тело с ленты и швыряли перед Судьей, как мешок с картошкой.
– Следующий! – голос Леденца был высоким, скрипучим, как будто пенопластом водят по стеклу. От этого звука сводило челюсти.
Я видел, как это происходит. Судья не задавал вопросов. Ему было плевать на мольбы. Он просто наводил на «подсудимого» золотой монокль на длинной ручке. Линза вспыхивала красным.
– Пустоцвет, – зевал Леденец, ковыряя в зубах длинным когтем. – Души нет. В яму. На органику.
Надсмотрщик подцеплял тело крюком за ребра и сбрасывал в люк справа. Оттуда доносился короткий визг, переходящий в бульканье, и влажный хруст работающей мясорубки.
– Следующий! – Линза бесстрастного распорядителя чужих судеб вспыхнула жёлтым. – Ресурс, – прочмокал Судья, отправляя в рот что-то похожее на засахаренный человеческий палец. Хрустнуло. – В Бараки. Третий сектор. Пусть копает Ангониум, пока не сдохнет окончательно.
Очередь дошла до меня. Меня рывком подняли за шиворот (которого не было, просто как котёнка дёрнули за шкуру на шее) и швырнули на колени перед золотым троном. Вблизи он пах невыносимо. Как варенье, сваренное на крови. Леденец наклонился. Его влажные глаза скользнули по мне без малейшего интереса. Он лениво поднес монокль.
Я ждал красного света. Я ждал смерти. Я даже хотел её, чтобы прекратить этот цирк. Но его линза не загорелась. Она затрещала. Внутри стекла, в глубине сложной оптики, пробежала черная искра. По стеклу пошла тонкая трещина. Леденец нахмурился. Его маленькие, нарисованные бровки поползли вверх, на лоб.
– Ого, – прошелестел он. – Что тут у нас? Брак в системе?
Он отложил монокль и подался вперёд. Из складок жира на шее, как змея, выдвинулся длинный, раздвоенный язык, покрытый мелкими сосочками. Он лизнул воздух в сантиметре от моего лица, пробуя мой страх на вкус.
– Горчит, – скривился Судья, словно съел лимон. – Сильно горчит.
Он посмотрел мне прямо в глаза. И в этот момент я почувствовал, как что-то холодное, склизкое и острое проникает мне прямо в мозг, игнорируя черепную коробку. Он копался в моей голове, как бомж в мусорном ведре, грубо перебирая обрывки памяти, выдирая самое больное.
…Крик… Стук двери… Настя плачет… Дождь бьет в стекло… Визг тормозов… Удар… Темнота… Белая палата. Писк приборов. Она лежит. Бледная. Чужая. Трубки, трубки, трубки… «Мы сделали все, что могли»… Жива? Мертва? Почему вы молчите, сволочи?!..
Боль стала невыносимой. Он трогал то, что трогать было нельзя. Моё.
– ХВАТИТ! – хрипнул я. Это вырвалось само. Это был не голос тела, это был голос того Игоря, который стоял на Золотом Берегу.
Вокруг повисла тишина. Конвейер замер. Надсмотрщики застыли с поднятыми шокерами. Никто никогда не говорил с Судьей. Мясо не разговаривает. Мясо должно молчать и ждать ножа.
Леденец медленно, жутко расплылся в улыбке. Его рот разорвался до ушей, обнажив три ряда мелких, острых, как иглы, акульих зубов.
– Воля? – искренне удивился он. – У бракованной партии есть Воля? Ты должен был выгореть дотла в Жидком огне, мальчик. Ты должен был стать овощем, пускающим слюни. А ты рычишь?
Он лениво щелкнул жирными пальцами. К трону тут же подскочил один из надсмотрщиков. В руках он держал не щуп, а длинные клещи. Он наклонился к небольшой жаровне, тлеющей у подножия трона, и вытащил оттуда железный штырь. Конец штыря светился злым, вишневым цветом. От него шел жар. На конце угадывался символ – перевернутый треугольник.
– Держите его, – скомандовал Леденец.
Двое тварей схватили меня за руки, выкручивая суставы, и прижали к полу. Я дернулся, но сил не было. Я был куклой в руках великанов. Надсмотрщик с клещами подошел ближе. Я видел, как от раскаленного железа дрожит воздух. – Метьте как «Нестабильного», – зевнул Судья.
Штырь опустился мне на грудь.
Пшшшш!
Звук был страшным – влажным и шипящим. В нос ударила густая, тошнотворная вонь паленой кожи и горящего мяса. Она мгновенно перебила запах конфет. Я выгнулся дугой, пытаясь оторваться от пола. Рот открылся в беззвучном крике. Боль была не просто острой – она была всепоглощающей, она выжигала нервные окончания, превращая грудь в сплошной очаг агонии. Железо держали долго. Секунду. Две. Три. Чтобы пропеклось до кости. Когда штырь наконец убрали, на моей серой груди дымился черный, обугленный ожог. Перевернутый треугольник, перечеркнутый волнистой линией.
– Брак, – вынес вердикт Леденец, теряя интерес к моей корче. – В утиль нельзя – рванет, испортит мне мясорубку. В Бараки тоже опасно – начнет мутить воду… – Он небрежно махнул пухлой ручкой в сторону темного провала в стене, откуда тянуло сыростью и плесенью. – Отправьте его в «Отстойник». К Паусту. Пусть гниёт с остальными отбросами. Если выживет в канализации – станет кормом для Арены, потешит Высших. Если нет – мы получим отличный концентрат страдания для соуса. Уведите!
Меня рывком вздёрнули на ноги. Грудь пекло так, будто угли все еще лежали на коже. Меня поволокли прочь от золотого трона, в душную темноту бокового коридора. Последнее, что я слышал, был противный, скрипучий голос:
– Следующий! Я хочу сладкого!

3. Город Золота и Гноя
Меня выволокли из Тронного Зала через боковой шлюз. Свет ударил в глаза. Холодный, сиреневый, он не грел, а бил по воспаленной сетчатке, как наждачная бумага.
Нас вывели на широкую техническую террасу, нависшую над пропастью. И тут я впервые увидел Варкар. Настоящий Варкар. Я остановился, забыв про боль в обожженной груди. Стражи не мешали – видимо, им нравилось наблюдать, как ломается психика новичков при виде этого зрелища. Впервые за долгое время я был поражен. Это было поражение эстетики.
Город был внизу. И он был чудовищен.
Это был лабиринт из чёрного, пористого камня и золота. Но золото здесь не сверкало благородным блеском – оно гнило. Оно было жирным, омерзительным и влажным, словно сусальное покрытие на разлагающемся трупе. Золотые шпили, похожие на хирургические иглы, пронзали сиреневый туман. Купола отливали жирным блеском, словно покрытые слоем испорченного сала. Гигантские статуи существ, сплетенных в оргии, украшали фасады. Их позы были одновременно похотливы и мучительны, застывшие в моменте вечного греха.
Архитектура была… физиологичной. Здания напоминали внутренние органы, напряженные мышцы, вены. Все это пульсировало, дышало, сочилось светом. Город был живым, злокачественным новообразованием, вывернутым наизнанку.
По улицам, далеко внизу, текли реки. Но не воды. Это были потоки светящейся энергии. Одни каналы светились красным, цветом чистой ярости и артериальной крови, другие – грязно-желтым, цветом лжи и гноя.
– Что это? – вырвалось у меня. Я не спрашивал, я хрипел.
– Кровеносная система, – буркнул один из конвоиров, поправляя ремень. – Это Эйр и Ангониум. Топливо нашего мира. Энергия воли и энергия страданий. Сегодня ты плеснул в общий котел немного своего страха, мясо.
Мы шли по шаткому подвесному мосту. Он был узким, и я чувствовал, как он вибрирует под тяжестью искаженной гравитации. Глубоко внизу, под мостом, в тени исполинских опор, я видел движение. Там копошились тысячи маленьких фигурок. Рабы. Биомасса. Та самая, которую я когда-то презирал на Земле. Они тащили какие-то грузы, крутили огромные колеса, ползали в грязи. Они были серыми, как пыль. Их движения были рваными, механическими, как у марионеток с перепутанными нитками.
А выше, на террасах золотых дворцов, залитых мертвенным светом, прогуливались Другие. Высокие, статные существа в ярких, переливающихся одеждах. – Воглиты, – с завистью и почтением произнес страж. – Граждане. Элита. В их облике, даже с такого расстояния, читалась хищная, нечеловеческая красота. Они смеялись. Звук их смеха долетал сюда как звон хрусталя, разбиваемого о надгробие. Холодный, пустой, торжествующий звон.
– Нравится? – спросил второй страж, ткнув меня дубинкой в спину.
– Богато живете, – процедил я, сплевывая вязкую слюну. Я позволил себе эту иронию, чтобы не сойти с ума от контраста между их величием и моей наготой.
– Это не для тебя, – отрезал он, и в голосе звучало злорадство. – Твое место там. – Он указал пальцем вниз. В самую гущу ядовитого смога, туда, где гигантские сточные трубы изрыгали черный дым и нечистоты. В подбрюшье города. – Или еще ниже.
Он не угрожал, он констатировал факт, как синоптик сообщает о дожде.
Впереди, в конце моста, показался ржавый грузовой лифт-клеть. Над ним не было гербов, только мигающая аварийная лампа.
– Отстойник, – сказал страж. – Владения Нашего господина. Запомни правило, «Нестабильный»: там нет законов Судьи. Там жрут тех, кто упал.
– Я не упал, – прорычал я, чувствуя, как внутри просыпается темная, злая сила. Мой последний ресурс. – Меня толкнули.
Страж остановился у решетки лифта. Он посмотрел на меня почти с профессиональным интересом.
– Здесь ломали и не таких, как ты. Хребет у тебя крепкий. Но в Отстойнике ломают не хребты. Там выпивают до суха душу.
Он открыл передо мной ржавую решетку. Из шахты пахнуло сыростью, плесенью и старой канализацией.
– Пошел! Удар в спину. Я влетел в клеть, едва удержавшись на ногах. Решетка с лязгом захлопнулась, отрезая меня от сверкающего, гнилого великолепия Варкара. Кабина дернулась и с грохотом рухнула вниз.
В темноту.

4. Отстойник
Полет в лифте был тошнотворным, но недолгим. Клеть с визгом затормозила где-то в недрах городской канализации. Дно лязгнуло и провалилось у меня под ногами. Меня швырнули в черную дыру. Я покатился по наклонному, ржавому желобу, сдирая кожу на локтях и коленях. Труба была узкой, скользкой от слизи и пахла так, как может пахнуть только кишечник мертвого города – канализацией, старым железом и разложившейся органикой. Свет в конце вспыхнул грязно-желтым, болезненным пятном. Желоб закончился внезапно. Меня просто выплюнуло наружу, как косточку.
Я упал на кучу чего-то мягкого, податливого и вонючего. Удар выбил воздух, но кости уцелели. Я зарылся лицом в субстанцию. Это были тряпки. Грязная, пропитанная потом, гноем и сыростью ветошь.
– Осторожнее, новенький, – раздался хриплый, каркающий голос прямо над ухом. – Ты мне чуть ребро не сломал. Хотя… какое тут к черту ребро. Одно название.
Я кое-как сполз с кучи тряпья, отплевываясь от пыли, и попытался встать. Человек, на которого я упал, сидел на нижнем ярусе нар, кутаясь в дырявое, когда-то серое одеяло. Это был тощий, жилистый старик. Его лицо напоминало печеное яблоко, забытое в духовке – все в глубоких, темных складках. У него не было одного уха – вместо раковины виднелся только рваный, бугристый шрам. Он с профессиональным интересом разглядывал меня своими выцветшими, водянистыми глазами. В них не было злобы, только бесконечная, вселенская усталость.
И вдруг меня кольнуло. Этот взгляд. Этот поворот головы, когда он сплюнул густую слюну себе под ноги. Этот жест – как он поправил воротник несуществующего пиджака.
– Ого, – хмыкнул он, ткнув узловатым пальцем в мою обожженную грудь. – Треугольник. «Брак». Редко такие падают. Обычно нас, «Ресурс», клеймят квадратом…
Голос. Скрипучий, надломанный, но до боли знакомый. Я шагнул к нему, забыв про боль в ожоге.
– Пауль? – выдохнул я.
Старик вздрогнул. Его мутные глаза расширились, зрачки сузились в точки. Он вжался спиной в гнилые доски нар, словно я ударил его.
– Откуда… – прошелестел он. – Откуда ты знаешь это имя? Здесь нет имен. Здесь только клички и номера!
– Пауль! – я схватил его за костлявые плечи. – Сосед! Четвёртый этаж! Мы бежали вместе! Мы прятались под джипом! Ты исчез в том доме!
Я тряс его, пытаясь вытрясти из этой дряхлой оболочки того интеллигентного алкаша, с которым мы выживали в первый день Апокалипсиса.
– Это я, Игорь! Простецкий! Я только что оттуда! Я прыгнул в Озеро и оказался здесь!
Старик смотрел на меня с ужасом. Его губы дрожали.
– Игорь… – прошептал он, пробуя имя на вкус, как забытое лакомство. – Игорь… Сосед…
Вдруг он засмеялся. Тихим, сухим смехом, похожим на кашель. Из его глаз потекли слезы, прокладывая светлые дорожки в грязи на щеках.
– Только что? – спросил он, глядя на меня с безумной жалостью. – Ты говоришь, только что?
– Ну да! Меня судили, потом сюда… Прошло может, час, может два…
Пауль – или то, что от него осталось – покачал головой.
– Я здесь уже вечность, Игорь. Вечность. Я сбился со счета после десятого Цикла переработки. – Он поднял руку. Кожа на ней висела лохмотьями, пальцы были скрючены артритом. – Посмотри на меня. Я стар. Я пуст. Меня выпили до дна.
– Но как?! – я отшатнулся. – Я же… Я видел твою одежду! Ты исчез недавно!
– Недавно… – эхом отозвался он. – Здесь время не течет, Игорь. Оно гниет. Оно сворачивается в петли. Пока ты падал в Озеро, пока ты перерождался, пока ты шёл к Судье… здесь могли пройти эпохи. Или секунды. Варкар играет нами как хочет.
Он отвернулся и сплюнул кровью.
– Нет больше Пауля, сосед. Пауль умер, когда исчез в том кафе. Забудь это имя. Оно болит. Он посмотрел на меня жестко, уже без слез. – Я – Пауст. От слова «пустой». Я для тебя теперь местный экскурсовод по аду. А ты – Свежак. И если хочешь выжить, забудь всё, что было Там. Того мира больше нет… Иногда я думаю, что его никогда и не было. – Он подмигнул.
В дальнем углу барака началось движение. Толпа расступилась.
– Тихо, – шикнул Пауст, мгновенно меняясь в лице, превращаясь в запуганного зверька. – Налоговая идет. Кабан. Он сжался, стараясь слиться со стеной. – Молчи про Пауля, – шепнул он мне едва слышно. – Если узнают, что у меня есть прошлое – сожрут душу. Здесь память – самый дорогой товар.
Внезапно в дальнем углу барака, там, где тени были гуще всего, началось движение. Гул голосов стих, сменившись напряженным шуршанием. Толпа расступилась, словно волны перед кораблем. По проходу, грубо расталкивая серые тела, шли трое.
В центре шел гигант. Даже по местным меркам, где тела искажались и мутировали, он был огромным. Гора перекатывающихся под кожей мышц и жира, увенчанная маленькой, лысой головой без шеи. Он не был серым, как мы. Его кожа лоснилась здоровым, красноватым оттенком, словно его натирали маслом. На нем были обрывки какой-то кожаной сбруи с металлическими клепками. Он был сыт. Здесь, среди голодных теней, это выглядело самым страшным преступлением.