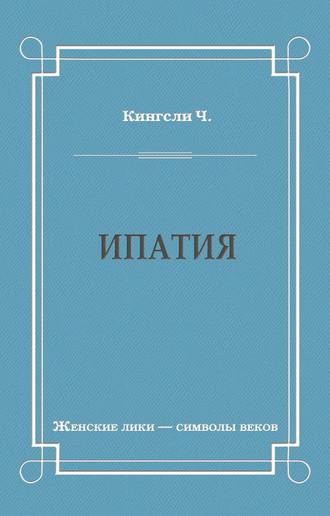
Чарльз Кингсли
Ипатия
Глава I
Лавра
Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый колорит которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками и незаконченными колоннами, так и оставшимися в том виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране.
Полный жизни, молодости, здоровья и красоты сидел Филимон, погрузившись в раздумье. Он казался юным Аполлоном пустыни. Единственным одеянием ему служила старая овчина, стянутая кожаным поясом. Его длинные черные волосы развевались и блестели на солнце; густой темный пух на щеках и подбородке говорил о здоровой цветущей молодости, жесткие мускулистые и загорелые руки свидетельствовали о труде и лишениях.
Что искало среди могил это прекрасное, юное человеческое существо?
Этот вопрос задавал, вероятно, и сам Филимон. Как будто отгоняя набегавшие грезы, он провел рукой по лбу и со вздохом приподнялся. Он стал бродить между скал, останавливаясь то у выступа, то над впадиной, ища дров для той обители, откуда он пришел.
Но даже и этого жалкого топлива, состоявшего по преимуществу из низкорослого сухого кустарника пустыни да деревянных брусьев из брошенных каменоломен, становилось мало около Сетской лавры. Чтобы набрать его, Филимону пришлось отойти от своего монастыря дальше, чем он это делал до сих пор.
У изгиба лощины его взорам представилось невиданное зрелище. Он увидел храм, высеченный в скале из песчаника, а перед храмом площадку, заваленную старыми бревнами и сгнившими орудиями. Кое-где в песке белели оголенные черепа, принадлежавшие, вероятно, мастеровым, убитым за работой во время одной из бесчисленных древних войн. Игумен Памва, духовный наставник Филимона и, в сущности, настоящий его отец, – ибо из воспоминаний детства у юноши не осталось ничего, кроме лавры и кельи старца, – строго воспретил ему приближаться к этим остаткам древнего языческого культа. Но к площадке вела широкая дорога, и множество топлива, видневшегося там, было настолько соблазнительно, что он не мог пройти мимо. Филимон хотел спуститься, набрать охапку и вернуться, а потом сообщить настоятелю о найденной сокровищнице и спросить его, разрешает ли он брать из нее и впредь.
Он начал спускаться, едва осмеливаясь смотреть на пестро окрашенные изваяния, красные и синие краски которых, не поврежденные ни временем, ни непогодой, ярко выступали на фоне мрачной пустыни. Но он был молод, а юность любопытна; и дьявол, по крайней мере в пятом столетии, – сильно смущал неопытные умы. Филимон слепо верил в дьявола и ревностно молился денно и нощно о спасении от его козней. Он перекрестился и от всего сердца воскликнул:
– Отврати взор мой, Господи, чтобы я не узрел эту суету сует!
А все-таки он взглянул… Да и кому бы удалось побороть искушение? Разве можно было оторвать взор от четырех исполинских изваяний царей, восседавших сурово и недвижно на своих тронах? Их огромные руки с непоколебимым спокойствием опирались о колени, а мощные головы, казалось, поддерживали гору. Чувство благоговейного трепета овладело молодым монахом. Он боялся нагнуться, боялся собирать дрова под строгим взглядом этих больших неподвижных очей.
Около их колен и около тронов были выгравированы мистические буквы, символы и изречения, – та древняя мудрость египтян, в которой был так сведущ Моисей, божий человек. Почему бы и Филимону не ознакомиться с ней? Не были ли скрыты в ней великие тайны прошлого, настоящего и будущего того обширного мира, о котором он еще так мало знал?
Миновав царственные изваяния, взор Филимона созерцал внутренность храма, – светлую бездну прохладных, зеленоватых теней, которые в анфиладе арок и пилястров сгущались постепенно в непроницаемую мглу. Смутно различал он на погруженных в таинственный полумрак колоннах и стенах великолепные арабески – длинные строки иллюстрированной летописи. Вот пленные в причудливых, своеобразных одеяниях ведут необычайных животных, нагруженных данью далеких стран; вот торжественные въезды триумфаторов, изображение общественных событий и работ; вот вереницы женщин, участвующих в празднестве. Что означало все это? Зачем целые века и тысячелетия просуществовал великий Божий мир, упиваясь, наедаясь и не зная ничего лучшего? Эти люди утратили истину за много столетий до их рождения… Христос был послан человечеству много веков после их смерти… Могли они знать что-либо высшее? Нет, не могли, но кара постигла их: все они в аду – все! Возможно ли примириться с этой мыслью? Несчастные миллионы людей вечно горели вследствие грехопадения Адама, – разве это божественное правосудие?
Подавленный множеством зловещих вопросов, детски неопределенных и неясных, юноша побрел назад, пока не показалась его обитель.
Лавра была выстроена в довольно приятном месте. Она представляла собой двойной ряд грубо сложенных циклопических келий, и ее окружала роща старых финиковых пальм, росших в вечной тени, у южного склона утесов. Находившаяся в скале пещера разветвлялась на несколько коридоров и служила часовней, складом и больницей. По залитому солнцем склону долины тянулись огороды общины, зеленевшие просом, маисом и бобами. Между ними извивался ручеек, тщательно вычищенный и окопанный; он доставлял необходимую влагу этому небольшому клочку земли, который добровольные труды иноков ревностно охраняли от вторжения всепоглощающих песков. Эта пашня была общим достоянием, как и все в лавре, за исключением каменных келий, принадлежащих отдельным братьям, и являлась источником радости и предметом заботы для каждого. Ради общего блага и для собственной пользы братья таскали в корзинах из пальмовых листьев черный ил с берега Нила; для общей пользы иноки счищали пески с утесов и сеяли на искусственно созданной почве зерно, собирая затем жатву, делившуюся между всеми. Чтобы приобретать одежду, книги, церковную утварь и все, что требовалось для житейского обихода, поучений и богослужения, братья занимались плетением корзин из пальмовых листьев. Старый монах выменивал эти изделия на другие предметы в более зажиточных монастырях противоположного берега. Каждую неделю перевозил Филимон старца в легком челноке из папируса и, поджидая его возвращения, ловил рыбу для общей трапезы.
Жизнь в лавре текла просто, счастливо и дружно, согласно с уставами и правилами, чтимыми и соблюдаемыми чуть ли не наравне со Священным Писанием. У каждого была пища, одежда, защита, друзья, советники и живая вера в промысел Божий.
А чего же еще нужно было человеку в те времена? Сюда люди бежали из древних городов, в сравнении с которыми Париж показался бы степенным, а Гоморра целомудренной; они спасались от тлетворного, адски испорченного умирающего мира тиранов и рабов, лицемеров и распутниц, чтобы на досуге безмятежно размышлять о долге и возмездии, о смерти и вечности, о рае и аде, чтобы обрести общую веру, общие обязанности, радости и горести.
– Ты поздно вернулся, сын мой, – произнес настоятель, не отрывая глаз от работы, когда к нему приблизился Филимон.
– Топливо стало редко попадаться; мне пришлось далеко идти.
– Монаху не подобает отвечать, когда его не спрашивают. Я не осведомлялся о причине. Но где ты нашел эти дрова?
– Перед храмом, очень далеко от нашей долины.
– Перед храмом? Что ты там видел?
Ответа не последовало, и Памва поднял на юношу свои проницательные черные глаза.
– Ты вошел в него, тебя влекло к его мерзостям?
– Я… я не входил… я только заглянул.
– И что ты увидел?.. Женщин?
Филимон молчал.
– Не запретил ли я тебе заглядывать в лицо женщины? Не прокляты ли они навеки вследствие непослушания их праматери, через которую зло проникло в мир? Женщина впервые растворила ворота ада и осталась доныне его привратницей. Несчастный отрок, что ты сделал?
– Они были только нарисованы на стене.
– Так, – произнес настоятель, как бы освободившись от тяжкого гнета. – Но почему ты знаешь, что то были женщины? Если ты не лгал, – а этого я не могу предположить, – то ведь ты еще никогда не видел облика дочери Евы.
– Быть может… быть может… – заговорил Филимон, останавливаясь с видимым облегчением на новой гипотезе, – быть может, то были лишь дьяволы. Это весьма вероятно, потому что они мне показались поразительно прекрасными.
– А-а… откуда же тебе известно, что дьяволы красивы?
– Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсением оттолкнули лодку от берега, то увидели возле реки, не особенно близко, два существа с длинными волосами. Большая часть их тела пестрела черными, красными и желтыми полосами… они рвали цветы над водой. Отец Арсений сейчас же отвернулся от них, я же продолжал смотреть, потому что более красивых творений я еще не встречал… Я спросил, почему он отворачивается, и он мне сказал, что это дьяволы, которые искушали блаженного Антония. Позже я припомнил, что искушения приходили к святому подвижнику во образе прекрасной женщины… И вот… и вот… те изображения на стенах были похожи на них… Я подумал… не они ли…
Поняв, что он вот-вот покается в позорном смертном грехе, бедный юноша сильно покраснел, запнулся и замолчал.
– Они тебе понравились! О, безнадежная испорченность плоти! О, коварный враг человеческий! Да простит тебя Господь, мое бедное дитя, как я тебя прощаю. Но отныне ты не выйдешь из ограды нашего сада.
– Не выходить из ограды сада?! Я не могу! Не будь ты моим отцом, я бы сказал – не хочу! Мне нужна воля. Пусти меня! Я не тобой недоволен, а только самим собой. Я знаю, послушание – подвиг, но опасность еще благороднее. Ты видел свет, отчего же и мне не взглянуть на него? Если ты бежал, когда он тебе показался слишком дурным, то почему бы и мне не поступить так же, но по собственному свободному побуждению? Тогда я вновь вернусь сюда, чтобы впредь уже не расставаться с тобой. Но Кирилл[1] со своим духовенством ведь спасаются же…
Филимон, с трудом переводя дыхание, порывисто изливал эту страстную речь из самых глубин своего сердца.
Наконец он остановился и ждал, что удар доброго настоятеля вот-вот повергнет его на землю. Юноша претерпел бы это наказание с такой же покорностью, как и любой инок этой обители.
Старец дважды поднимал свой посох, чтобы ударить юношу, и дважды опускал его. Наконец он медленно встал и, покинув Филимона, упавшего на колени, направился к жилищу брата Арсения в глубоком раздумье, опустив глаза в землю. В лавре все почитали брата Арсения. Его окружала таинственность, усилившая обаяние его необыкновенной набожности и почти детского смирения и кротости. Во время своих уединенных прогулок монахи иногда шепотом говорили про него, что он прибыл из большого города, быть может, даже из Рима. Простые монахи гордились, что к их общине принадлежал человек, видевший столицу империи. Во всяком случае, настоятель Памва глубоко уважал его, никогда не бил и не делал ему выговоров, – впрочем, может быть, потому, что он не заслуживал ни того, ни другого. В эту минуту вся община подвижников занималась плетением корзин и каждый сидел перед своей кельей. Они видели, как настоятель, очень раздраженный, отошел от коленопреклоненного преступника и поспешил к жилищу мудрого старца. Очевидно, произошло нечто чрезвычайное, грозившее общему их благу.
Более часа пробыл настоятель у Арсения. Они беседовали тихо и вдумчиво. Потом раздалось торжественное гудение, какое слышится тогда, когда двое стариков молятся со слезами и рыданиями.
Филимон все еще неподвижно стоял на коленях. Его душа была переполнена; но чем – он не мог бы сказать. «Сердце знает свое горе, и не войти постороннему в радость его».
Памва вернулся задумчивый и безмолвный. Опустившись на сиденье, он обратился к Филимону:
– «И сказал младший из них отцу: “Отче, дай мне следуемую мне часть имения…” По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил свое имение, живя распутно»… Ты уйдешь, сын мой, но сперва последуешь за мной и поговоришь с Арсением.
Филимон, как и прочая братия, любил Арсения, и, когда настоятель ушел, оставив их наедине, он не ощутил ни стыда, ни боязни и раскрыл перед ним всю свою душу… Он говорил долго и страстно, возражая на кроткие вопросы старца, который прерывал юношу без строгости и напыщенной педантичности монаха и с детской незлобивостью позволял Филимону перебивать его речь. Но в звуке его голоса сквозила грусть, когда он отвечал на мольбы молодого инока.
– Тертуллиан, Ориген, Климент, Киприан жили в миру, а кроме них еще многие другие, имена которых уже забылись. Им была знакома языческая наука, и они боролись и трудились, оставаясь незапятнанными среди людского общества. Почему бы и мне ее не испробовать? Даже патриарх Кирилл был вызван из пещер Нитрии, чтобы занять место на Александрийском престоле.
Медленно поднял старец руку и, откинув густые кудри с чела юноши, заглянул ему в лицо долгим сосредоточенным взором, исполненным кроткого сострадания.
– Так ты хочешь видеть свет, жалкий глупец! Ты хочешь видеть мир?
– Я хочу обратить мир.
– Прежде всего ты должен познать его. Сказать ли тебе, каков мир, который, как тебе кажется, так легко обратить? Я живу вот здесь бедным, старым, безвестным монахом, который молится и постится, чтобы Господь Бог сжалился над его душой. Но ты не подозреваешь, как глубоко я изучил свет. Если бы ты так же его знал, ты был бы рад остаться тут до конца жизни. Некогда при имени Арсения царицы, бледнея, понижали голос. Суета сует, всяческая суета! При виде моего нахмуренного чела содрогался тот, перед кем трепетал весь мир. Я был воспитателем Аркадия[2].
– Императора Византии?
– Его, его самого! При нем узнал я свет, который ты хочешь увидеть. А что я видел? Именно то, что предстоит увидеть и тебе: евнухов, державших в страхе своих повелителей, епископов, лобзающих ноги отцеубийц и развратниц, чистых людей, угождающих грешникам и ради единого слова их разрывающих на части своих братьев в противоестественной борьбе. Сверженного гонителя немедленно заменяет толпа новых, изгнанный дьявол возвращается с семью другими, еще худшими. Среди коварства и себялюбия, гнева и похоти, смятения и неурядиц Сатана враждует с собственной братией повсюду, начиная со сладострастного императора, восседающего на троне, до скованного раба, поносящего своего бога.
– Если Сатана изгоняет Сатану, то его царство не долговечно.
– В будущем мире, да, в нашем же мире оно будет крепнуть, побеждать и шириться, пока не наступит конец. Наступают последние дни, о которых вещали пророки, приближается начало страданий, каких еще не знавала земля. Я это давно предвидел. Я предсказал, что нахлынет мрачный, неудержимый поток северных варваров; я молил об отвращении его, но, уподобляясь вещаниям древней Кассандры, мои пророчества и предостережения ни к чему не приводили. Мой питомец противился моим советам. Страсти юности и козни царедворцев оказались сильнее божественных внушений Создателя. Тогда я перестал надеяться, перестал молиться о благоденствии чудного города и понял, что он не избежит суда. Я видел его духовным оком, как некогда его узрел апостол Иоанн в своем откровении. Отчетливо выступал он передо мной со всеми его грехами среди ужасов неотвратимого разгрома. Я бежал тайно ночью и схоронил себя в пустыне, ожидая конца света. Денно и нощно взываю я к Создателю, чтобы он ниспослал Своих избранных и ускорил пришествие Своего царства. С каждой зарей, в трепете и надежде, подняв взор к небесам, ищу я на них знамение Сына Божьего, жду минуты, когда солнце померкнет, луна обратится в кровь, звезды посыпятся с небесных высот, а подземные огни вырвутся из-под почвы, возвещая кончину мира. И ты хочешь идти в свет, откуда я спасся?
– Богу нужны рабочие, когда близится жатва. Если времена ужасны, то я избран для необычайных дел. Пошли меня и дозволь сегодня же уйти туда, куда рвется душа – в ряды первых борцов Христа.
– Да будет Его святая воля! Ты пойдешь. Вот письма к патриарху Кириллу. Он станет любить тебя ради меня и ради тебя самого, как я надеюсь. Ступай, и да не оставит тебя Творец. Не льстись на золото и серебро. Не ешь мясного, не пей вина, а живи как доселе, – служителем Всевышнего. Не избегай взора мужчины, но не заглядывайся на лицо женщины. Идем, настоятель ожидает нас у ворот.
Филимон медлил последовать за старцем. У него лились слезы изумления и радости, но в то же время он испытывал и какую-то робость.
– Иди! Зачем печалить и себя, и своих братьев долгими проводами? Из кладовой захвати на неделю продовольствия, – фиников и пшена. Лодка готова: в ней ты спустишься вниз по Нилу. Бог нам заменит ее новой, когда в ней окажется нужда. В продолжение плавания ни с кем не разговаривай, кроме отшельников Божьих. По истечении пяти суток расспроси, как попасть в устье Александрийского канала; когда же доберешься до города, то тебя всякий монах проведет к архиепископу[3]. Дай нам знать о себе через какого-нибудь благочестивого вестника. Иди!
Молча пересекли они долину, направляясь к пустынному берегу великой реки. Памва был уже там, и его седины озарялись лучами восходящей луны, когда он дряхлой рукой спускал на воду легкий челнок. Филимон бросился к ногам старцев, с рыданиями умоляя их простить и благословить его в путь.
– Нам нечего прощать тебя, – следуй зову внутреннего голоса. Если в тебе заговорила плоть, то она и покарает тебя; мы же не смеем противиться Господу Богу, если твой порыв исходит от духа. Прощай!
Через несколько мгновений челнок с юношей несся по течению быстрой реки, скользя в золотистых сумерках летнего дня. Вскоре на землю спустилась южная ночь, все скрылось во мраке, и только на воде отражался лунный свет, озаряя скалу и на ней – двух коленопреклоненных старцев.
Глава II
Умирающий мир
В Александрии, неподалеку от музея, в верхнем этаже дома, построенного и украшенного в древнегреческом стиле была небольшая комната, избранная ее владельцем, вероятно, не ради одного только спокойствия. Правда, она находилась довольно далеко от южной стороны двора, где работали, болтали и ссорились невольницы, но все же сюда долетали голоса прохожих, шум экипажей, проезжавших по оживленной дороге, дикий рев, крики и звон труб из зверинца, расположенного по соседству на другой стороне улицы. Главную прелесть этого покоя составлял, быть может, вид на сады, на цветочные клумбы, кусты, фонтаны, аллеи, статуи и ниши, которые в продолжение семи столетий внимали мудрости философов и поэтов Александрии. Тут поучали философы различных школ, блуждая под сенью платанов, ореховых деревьев и фиговых пальм. Все, казалось, было напоено благоуханием греческой мысли и греческой поэзии с тех пор, как некогда тут прохаживались Птоломей Филадельф с Евклидом и Теокритом, Каллимахом и Ликофроном.
Слева от садов тянулся восточный фасад музея, с картинными галереями, изваяниями, трапезными и аудиториями. В огромном боковом флигеле хранилась основанная отцом Филадельфа знаменитая библиотека, которая еще во времена Сенеки насчитывала четыреста тысяч рукописей, несмотря на то, что значительная часть их погибла при осаде Цезарем Александрии. Здесь, блистая на фоне прозрачной синевы неба, высилась белая кровля – одно из чудес мира, а по ту сторону, между выступами и фронтонами великолепных построек, взор терялся в сверкающей лазури моря.
Покой был отделан в чистейшем греческом вкусе. В общем получалось целостное впечатление спокойствия, чистоты и прохлады, хотя в окна, защищенные сетками от москитов, проникал со двора яркий солнечный свет. В комнате не было ни ковра, ни очага; обстановка состояла из кушетки, стола и кресла, но вся мебель отличалась тонкостью и изяществом форм.
Однако, если бы кто-либо вошел в комнату в это утро, то он, вероятно, не обратил бы внимания ни на меблировку и общий характер помещения, ни на сады музея, ни на сверкающее Средиземное море. Этот покой удовлетворил бы любой вкус, ибо в нем заключалось сокровище, настолько привлекавшее взор, что все остальное меркло и стушевывалось. В кресле сидела молодая женщина, лет двадцати пяти, погруженная в чтение лежавшей на столе рукописи. Очевидно, то была богиня-покровительница этого маленького храма. Ее одеяние, вполне соответствовавшее характеру комнаты, состояло из простого белоснежного ионийского платья старинного образца. Длинное, строгое и изящное, оно падало до полу и стягивалось у шеи; верхняя половина одежды наподобие покрывала ниспадала до бедер, совершенно скрывая очертания бюста и обнажая лишь руки и часть плеч. Ее наряд был лишен всяких украшений, кроме двух пурпуровых полосок спереди, обличавших в ней римскую гражданку. Она носила вышитую золотом обувь и золотую сетку на волосах, спускавшуюся на спину.
Цвет и блеск ее волос трудно было отличить от золота, и сама Афина могла бы позавидовать не только оттенку, длине и густоте, но и прихотливым завиткам этих кудрей. Черты ее лица, руки и плечи были в строгом, но чудесном стиле древнегреческой красоты. При первом же взгляде обнаруживалось прекрасное строение костей и твердость, округлость мускулов, покрытых той блестящей, мягкой кожей, которой отличались древние греки и которая достигалась не только частым купаньем и постоянными телесными упражнениями, но и ежедневными втираниями. Быть может, на нас неприятно подействовали бы чрезмерная грусть ее больших серых глаз, самоуверенность резко очерченных губ и нарочитая строгость осанки. Но чарующая прелесть и красота каждой линии лица и стана не только смягчали, но и совершенно искупали эти недостатки. Поразительное сходство с изображениями Афины, украшавшими простенки комнаты, бросалось в глаза.
Молодая женщина оторвала глаза от рукописи, с пылающим лицом обернулась к садам музея и сказала:
– Да, статуи повержены, библиотека разграблена, ниши безмолвны, оракулы безгласны. И все же… кто посмеет утверждать, что угасла древняя религия героев и мудрецов? Прекрасное не умирает. Боги покинули своих оракулов, но они не отталкивают души тех, кто томится стремлением к бессмертию. Они не поучают уже народы, но не прервали сношений с избранными. Они отвернулись от пошлых масс, но еще благосклонны к Ипатии!
Ее лицо загорелось от восторга, но вдруг она вздрогнула, не то от страха, не то от отвращения. У стены садов, расположенных напротив дома, она увидела сгорбленную дряхлую еврейку, одетую с причудливым и ослепительным, но грубым великолепием. Старуха, очевидно, наблюдала за ней.
– Зачем преследует меня эта старая колдунья? Я ее вижу повсюду. Попрошу префекта, чтобы он узнал, кто она такая, и избавил от нее прежде, чем она меня сглазит своим злобным взглядом. Она уходит – благодарение богам! Безумие! Безумие, и это у меня, женщины-философа! Неужели, вопреки авторитету Порфирия[4], я верю в дурной глаз и колдовство? Но вот и отец. Он, кажется, прохаживается по библиотеке.
Она еще не успела договорить, как из соседней комнаты вышел старик, тоже, очевидно, грек, но более обычной и менее породистой внешности. Он был смугл и порывист, худ и изящен. Стройному стану и щекам, ввалившимся от усиленных занятий, как нельзя более подходил простой, непритязательный плащ философа – знак его профессии. Он нетерпеливо зашагал по комнате; напряженная работа мысли сказывалась в тревожных движениях, в пронизывающем взоре блестящих глаз.
– Вот оно, нет, снова ускользнуло. Получается противоречие. Несчастный я человек! Если верить Пифагору, символ – это расширяющийся ряд третьих ступеней, а тут все время получаются кратные числа. Ты не подсчитывала сумму, Ипатия?
– Присядь, дорогой отец, и покушай. Ты сегодня еще ни к чему не прикасался.
– Что мне пища! Следует выразить неизъяснимое, закончить труд, хотя бы это было так же трудно, как найти для круга равновеликий квадрат. Может ли дух, парящий в надзвездных сферах, ежеминутно спускаться на землю?
– Ах, – возразила она не без горечи, – как рада была бы я, если бы, всецело уподобляясь богам, мы могли существовать без питания. Но, замкнутые в эту материальную темницу тела, мы должны изящно влачить наши оковы, если у нас есть вкус. В соседней комнате для тебя приготовлены плоды, чечевица, рис, а также и хлеб, если ты его не слишком глубоко презираешь.
– Пища невольников, – заметил он. – Хорошо, пойду и буду есть, хотя и стыжусь еды. Подожди… Говорил ли я тебе, что в школу математики нынче поутру прибыло шесть учеников? Школа растет, расширяется. Мы все-таки победим в конце концов.
Она вздохнула.
– Почему ты знаешь, что они пришли к тебе, как Критиас и Алкивиад к Сократу, – лишь для изучения политических и светских наук? Ах, отец мой, для меня нет более жестокого страдания, как в полдень увидеть у носилок Пелагии толпу тех самых слушателей, которые утром внимали в аудитории моим словам, словно изречениям оракула… А затем вечером… я это знаю – кости, вино и кое-что похуже. Увы, ежедневно Венера всенародная побеждает даже Палладу. Пелагия обладает большей властью, чем я!
И в голосе Ипатии звучали ноты, наводившие на мысль, что она ненавидит Пелагию человеческой и светской ненавистью, несмотря на то величавое спокойствие и невозмутимость, которые вменяла себе в обязанность.
В это мгновение беседа внезапно прервалась. В комнату торопливо вбежала молодая рабыня и дрожащим голосом доложила:
– Госпожа, – высокородный префект прибыл! Его экипаж ждет уже минут пять у ворот. Он сам идет за мной по лестнице.
– Неразумное дитя, – сказала Ипатия с несколько напускным равнодушием, – может ли это меня обеспокоить? Ну, впусти его.
Дверь растворилась и, предшествуемый по меньшей мере полудюжиной различных благоухающих запахов, появился цветущий мужчина с тонкими чертами лица. На нем было роскошное одеяние сенаторов, и драгоценные украшения сверкали на руках и на шее.
– Наместник цезарей почитает за честь поклониться жертвеннику Афины Паллады и счастлив узреть в лице ее жрицы прелестное подобие богини, которой она служит. Не выдавай меня, – но когда я вижу твои глаза, я могу изъясняться лишь по-язычески.
– Правда всесильна, – отвечала Ипатия и приподнялась, приветствуя его улыбкой и поклоном.
– Да, говорят… Твой достойный отец скрылся. Он, право, слишком скромен и совершенно беспристрастно оценивает свою неспособность к политическим интригам… Ты ведь знаешь, что я всегда испрашиваю совета у твоей мудрости. Как вела себя беспокойная александрийская чернь за время моего отсутствия?
– Стадо, по обыкновению, ело, пило и… любило, по крайней мере я так полагаю, – небрежно отвечала Ипатия.
– И множилось, без сомнения. Ну а как идет преподавание?
Ипатия грустно покачала головой.
– Молодежь ведет себя, как молодежь, и я сам готов признаться в своей вине. «Вижу лучшее, а следую худшему». Но не вздыхай, а то я буду неутешен. Да, знаешь, твоя самая опасная соперница удалилась в пустыню и собирается посетить город богов над водопадами.
– Кого ты имеешь в виду? – спросила Ипатия, с далеко не философским раздражением.
– Конечно, Пелагию. Я встретился с этой обольстительной и самой легкомысленной представительницей слабого пола на полпути между Александрией и Фивами и убедился, что она превратилась в настоящую Андромаху, – стала воплощением целомудренной любви.
– К кому, смею спросить?
– К некоему готскому богатырю. Какие люди рождаются у этих варваров! Право, когда я шел рядом с этим слоном, я так и думал, что он вот-вот раздавит меня.
– Как, – воскликнула Ипатия, – высокородный префект снизошел до беседы с дикарем?
– Его сопровождало около сорока дюжих соплеменников, которые могли бы причинить массу неприятностей робкому префекту, не говоря уже о том, что всегда выгодно оставаться в хороших отношениях с этими готами. После взятия Рима и разграбления Афин, похожих теперь на улей, расхищенный осами, я начинаю серьезно смотреть на этих людей. А что касается этого детины, то он знатного рода и хвалится происхождением от своего прожорливого бога. Он, впрочем, не удостаивал беседой презренного римского наместника, пока его верная и любящая подруга не оказала мне покровительства. Этот малый, впрочем, умеет пожить, и мы скрепили наш дружеский союз самыми утонченными возлияниями Вакху. Но с тобой я не смею говорить об этом. Во всяком случае, я отделался от варваров и рассказал им всякие небылицы, чтобы еще больше подстрекнуть их к сумасбродной поездке. Итак, закатилась звезда Венеры, и восходит светило Паллады. Ну а теперь скажи мне, что делать со святым поджигателем?
– С Кириллом?
– С ним.
– Твори правосудие!
– О, прекрасная мудрость, не произноси этого ужасного слова вне аудитории. В теории оно очень хорошо, но на практике несчастный наместник должен ограничиваться лишь тем, что удобоисполнимо. Если бы я задумал творить отвлеченное правосудие, то Кирилла со всеми его диаконами я должен был бы попросту пригвоздить к крестам на песчаных буграх, за городской чертой. Это довольно просто, но совершенно невозможно, как многие другие отличные и простые вещи.
– Ты боишься народа?
– Да, моя дорогая повелительница. Разве вся чернь не на стороне этого гнусного демагога? Разве не могут здесь повториться ужасные константинопольские события?[5] Я не могу видеть подобные зрелища; право, мои нервы их не выносят. Быть может, я слишком ленив. Ну что ж, пусть так.
Ипатия вздохнула.
– Ах, если бы ты, высокородный префект, решился допустить великое единоборство, исход которого зависит от тебя одного! Не думай, что дело тут только в борьбе между христианством и язычеством…
– А если бы даже так, то ведь ты знаешь, что я христианин, служу христианскому императору и его августейшей сестре…
– Понимаю, – перебила она его, нетерпеливо махнув рукой. – Борьба идет не только между этими двумя религиями, и даже не между варварством и философией. Борьба, в сущности, идет между патрициями и чернью, между богатством, образованием, искусством, наукой – словом, всем, что возвеличивает народ, и дикой шайкой пролетариев, толпой неблагородных, которые должны работать на немногих благородных. Должна ли Римская империя повиноваться собственным рабам, или же она должна повелевать ими? Вот вопрос, который разрешится схваткой между тобой и Кириллом. И схватка эта будет кровопролитна.




