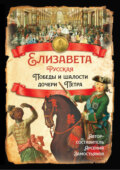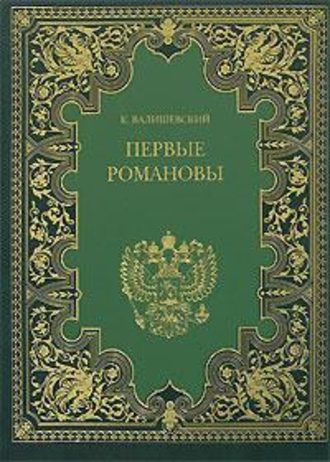
Казимир Валишевский
Первые Романовы
Путешествуя два раза по московскому государству, в 1634 и в 1636 гг., Адам Ельшлегер (Олеарий) вынес впечатление, что побывал в совершенно дикой стране. Он был поражен дешевизною продуктов; курица в России стоила две копейки, десяток яиц копейку. Приехав в столицу на Пасхе, он был свидетелем благочестивых и милостивых деяний государя, который до заутрени посетил тюрьмы и раздавал заключенным крашеные яйца и бараньи тулупы. Но в то же время он видел кабаки, переполненные пьяными посетителями, мужчинами и женщинами, светскими и духовными, предававшимися разгулу и разврату. На улицах валялись пьяные, и каждое утро на них подбирали множество трупов. Пожары происходили чуть не каждую минуту и их даже не тушили, разбивая лишь топорами соседние дома, чтобы огонь не мог дальше распространиться. Таким образом разрушались целые кварталы. Было, правда, нетрудно отстроить их вновь, так как на особом рынке продавали уже готовые дома, которые можно было поставить на место в течение нескольких дней.
Эти дома представляли собой просто лачуги, и в окружавших их старых садах Олеарий не видел следа заботливой культуры, ни цветов, ни овощей. У одного только царя было несколько футов земли с посаженными на них розами, привезенными из Готторпа, и Голландцы только что успели ввести в употребление салат и спаржу. Жители московского государства ели все, что попало, не заботясь о комфорте или об изяществе. Грубость нравов, как и распущенность и противоестественные пороки, считались среди них заурядным явлением.
Не оставляет ли эта мрачная картина некоторых просветов? Ученый немецкий наблюдатель, как кажется, не открыл ни одного. А между тем уже одно его присутствие в Москве, куда он был приглашен в качестве посланника европейской культуры, должно было служить ему доказательством и убедить его в том, что варварство, печальные стороны которого он отмечал не без некоторого преувеличения, являлось лишь пережитком отдаленного прошлого.
XI. Прогресс
Почти вслед за Ельшлегером занимался в Москве в 1637 году переводом одной большой латинской космографии, другой иностранец, Иоганн Дорн при помощи одного туземца, Богдана Лыкова.
Сам Филарет присутствовал в Чудовом монастыре при открытии греко-латинской школы, порученной известному исправителю священных книг, Арсению Глухому. И в то время уже, под влиянием свойственного этому народу постоянного перехода к крайностям, первые проблески культуры создали у тех, кто пользовался ее плодами, необдуманное и ничем неоправданное презрение ко всему, что составляло национальное наследие страны. Таков был известный Иван Хворостинин, неясный силуэт которого я имел уже случай нарисовать.[27] Если можно было извинить этого либерала семнадцатого века за то, что он смешал доброго и кроткого Михаила с деспотом, – раз Филарет держал бразды правления, такая ошибка была возможна, – но слишком сильное презрение этого человека к людям и порядкам его страны делает его гораздо менее симпатичным.
Призванный ко двору после нескольких лет заключения в монастыре св. Кирилла, он мог увидеть по своему собственному примеру, что времена, когда Грозный совершал свои лютые кары, отошли в далекое прошлое.
Прошлое безусловно еще упорно держалось, вызывая реакцию совершенно противоположного характера. В 1627 г. скромный пионер цивилизации, Лаврений Тустановский, по прозвищу Зизаний, вызвал против себя нападки за то, что толковал в своих книгах такие явления, как затмение солнца, землетрясения и кометы, стараясь дать им естественное объяснение. За элементарные объяснения законов движения созвездий, почерпнутые им из книг, он был обвинен в ереси, так как всякий добрый христианин должен был знать, что ангелы управляют движением созвездий. Национальная литература не обогатилась еще, однако, другими произведениями, чем эти наивные и грубые опыты политической полемики и религиозной догматики, в которых черпали свое вдохновение князь Курбский и его современники.
У большинства их последователей, в изучаемую нами эпоху, грубость стиля соответствовала бедности мысли. Самый плодовитый из них, князь Семен Шаховской, являлся как в прозе, так и в стихах лишь невозможно напыщенным декламатором. Стремясь исключительно подыскивать звучные фразы, совершенно лишенные смысла, он в то же время обнаруживает свою неспособность привести какой-либо ценный довод в своем письме к шаху Аббасу, чтобы побудить его принять крещение, или дать полезные сведения в оставленных им мемуарах. Ничего более ценного в литературном и историческом отношениях не представляет собой и официальная хроника «Смутного времени», начатая в царствование Михаила и известная под названием «Рукописи патриарха Филарета». Более интересны описания путешествий в Палестину и Персию московских купцов Гогары и Котова. Гогара был мало образован и очень наивен; поднеся свою бороду к восковой свече, зажженной от чудесного огня Иерусалимского храма, он трижды убедился в том, что не испытывает от того никакого ущерба. Из Иерусалима этот наивный паломник пробрался в Египет, где был сильно поражен видом пирамид. Восторженное отношение к его рассказам доказывает уже само по себе то любопытство, которое родилось в среди его окружавшей, и которого не были уже в состоянии сдержать умственные рамки старого московского государства.
На некоторое время еще страна эта должна была остаться заключенною морально в узкую сферу религиозных идей и интересов. Самыми крупными учеными этой эпохи являлись исправители священных книг. Но из усилия, направленного в эту сторону, среди другого грозного кризиса, должен был пробудиться национальный дух, благодаря эмансипаторской мощи, которая бессознательно была внесена этой работой, пробудив в среде преданий и рутины сознание необходимости и значения критики, этого великого орудия всех побед современного мира.
Первые проявления этой эволюции были несчастливы. Задача исправления священных книг находилась здесь в связи с темным началом в Москве книгопечатания. Единственная московская типография, разрушенная во время польской оккупации и восстановленная Михаилом, совершенно естественно была использована вначале для печатания трудов по литургии и обучению вере. Во время этой работы приходилось исправлять многочисленные ошибки, внесенные в тексты невежественными или небрежными переписчиками. Чтобы направлять работы этой ревизии, Михаил назначил в 1616 году знаменитого архимандрита Сергия-Троицы, Дионисия, еще недавно сыгравшего роль героя и снискавшего благодаря этому престиж и безграничный авторитет.[28] Но народное непостоянство, являясь беспощадным разрушителем самых великолепных апофеозов, коснулось и знаменитого монастыря и его благородных героев. Очень святой человек, Дионисий был по-видимому очень посредственным администратором и на другой день после великих испытаний, где восторжествовала его доблесть, ежедневные запросы жизни обнаружили его слабость. Он не умел заставить себе повиноваться. Привыкнув не считаться с его приказаниями, под предлогом того, что он сопровождал их неизменно словом «пожалуйста», его подчиненные дошли до того, что стали публично оскорблять его и, не зная удержу, использовали приобретенную им популярность для самых гнусных издевательств. Монахи этого монастыря занимались захватом чужого имущества, лихоимством и всякого рода насилиями. Служители святого места занимались вооруженным грабежом.
От этого должна была пострадать репутация архимандрита, обвиненного вскоре в ереси при выполнении своих новых функций, и, осужденный к уплате 500 рублей, которых он не был в состоянии заплатить, выставленный на правеж, брошенный в темницу с цепью на шее, он испытал все горести незаслуженной немилости. Особенно его обвиняли в том, что в стихе «Гряди Господи и благослови воду Духом Святым и огнем» – в молитве о благословении воды – он уничтожил два последних слова. Ремесленники, употреблявшие огонь в своем ремесле, упрекали его, что он хочет отнять у них кусок хлеба, и в то время как во дворе патриаршего дворца временный управитель престола, Иона, Крутицкий митрополит, бражничал со священниками, несчастного архимандрита били кнутом, а взбунтовавшиеся кузнецы швыряли в него камнями.
Все это происходило до возвращения Филарета. Так как с появлением будущего патриарха совпало присутствие в Москве иерусалимского патриарха, Феофана, в этом деле наступил поворот. Узнав об этом инциденте, восточный первосвященник подтвердил, что спорные слова не находятся в греческих текстах. Положение тотчас же меняется, следует созвание Собора и полная реабилитация Дионисия.[29] Но исправление священных книг должно было вызвать позже еще большую бурю; поднявшиеся таким образом споры не исчерпаны и до сих пор; здесь отдаленное начало того религиозного конфликта, который занимал и еще до сих пор занимает такое значительное место в истории России.
Глава третья
Отец Петра Великого
I. Восшествие на престол Алексея
По числу и по обширности трудов, реализованных или близких к реализации, по проблемам, если не разрешенным, то поставленным по крайней мере на очередь, по созданным или ускоренным движениям в сфере политических, социальных и религиозных отношений, – это царствование является одним из самых памятных в истории России. Оно стушевывалось в глазах непосредственного потомства пред ярким блеском того, что следовало за ним, но в наши дни более внимательное рассмотрение фактов дало возможность установить более правильный исторический взгляд на них, и признать, что по отношению к массе элементов, приготовленных заранее к плодотворной жизни, дело Петра Великого, чрезмерно ускоряя роды, явилось во многих отношениях лишь болезненным и вредным абортом, последствия которого чувствует современная Россия и до сих пор.
С середины семнадцатого столетия необходимость обновляющих мер, проявляясь во все более и более многочисленных и настойчивых требованиях и все усиливающихся бунтах, вызвала здесь значительную законодательную деятельность. Наряду с проблемами экономического и юридического характера были поставлены и другие, нравственного или религиозного характера, давшие сильный толчок предпринятому исправление святых книг и реформе ритуала. Связанный с вопросом о национальном единстве, как и с не менее щекотливым вопросом об отношениях церкви к государству, раскол ввел в эту сферу совершенно новый порядок. И в то же самое время восстание польских казаков увеличило всеобщее тяготение украинского населения к московской орбите и прельстило Москву мыслью восстановить древнее русское наследие.
Лицо, игравшее главную роль в этих событиях, и эпоха, в которую они происходили, заслуживают несомненно внимания.
По своей доброте, кротости, способности сильно привязываться к своим приближенным Алексей походил на своего отца. Но у него был более живой характер, более крепкий темперамент, и он получил воспитание, более соответствующее его положению. Воспитанием его руководил с тринадцати лет боярин Борис Иванович Морозов.
Потеряв свою мать вскоре после смерти отца, молодой царь оказывал полное доверие своему воспитателю, и ему он был обязан во многих отношениях. Морозов был человек интеллигентный, ловкий, достаточно образованный для того времени, но не умевший, к сожалению, ни подняться над ролью фаворита, ни сдержаться, чтобы не злоупотреблять своим положением. После Морозова самым влиятельным лицом из приближенных нового государя был думский дьяк, Назар Чистый, бывший до того ярославским торговцем, оба они подчинялись влиянию голландского купца, Винниуса. То был первый иностранец, влиявший на дела страны.
Находясь в такой компании, Алексей не рисковал сойти с пути, по которому Михаил, увлекаемый неудержимыми течениями, уже сделал несколько робких шагов.
По свидетельству одного современника,[30] восшествию на престол Алексея предшествовал созыв избирательного Собора. Это указание трудно согласовать с известным фактом принесения присяги подданными нового царя тотчас после смерти его предшественника.[31] Может быть речь идет о фиктивном избрании, для которого недавние события послужили необходимостью, доставив даже его формулу.
Алексей, или скорее его воспитатель, начал свое управление прекращением дела принца Вальдемара и несчастного Лубы. Первый получил возможность уже в 1645 году отправиться в Копенгаген, а польские послы получили разрешение увезти с собою другого, обещав только заключить его на всю жизнь в крепость.
Этим однако не было еще покончено ни с претендентами, ни с поляками. Посланный в Москву Владиславом, в 1646 году, красноречивый и уступчивый киевский кастелян, Адам Кисель, напрасно сравнивал Москву и Польшу с двумя ливанскими кедрами, вышедшими из одного и того же ствола. Замаскировывая более глубокий антагонизм, в котором было поставлено позже на карту будущее обеих стран, спорный вопрос о титулах поддерживал между ними глубокую вражду. И в то же время еще более страшная для Польши, чем для Москвы, опасность конфликта с Портою препятствовала единственному пункту соглашения, который мог бы их соединить против общего врага: против татар.
Вскоре, между тем, Москва была снова поглощена внутренними неурядицами. Русские купцы все более и более протестовали против иностранных конкурентов, которые, пользуясь общим разложением, подкупили влиятельного дьяка, Петра Третьякова, переманили на свою сторону даже Морозова, и захватили в свои руки всю оптовую и розничную торговлю страны. Ментор Алексея показал вид, что признает законными эти требования, и обложил двойною пошлиною захватчиков, но этим добился лишь соответствующего повышения цен предметов потребления. Пытаясь, с другой стороны, уврачевать бедствие сельских или городских обществ, он возбудил новое недовольство. Чтобы облегчить тяготевшие над ними налоги, он не нашел другого средства, как установить новый налог на табак и увеличить налог на соль, после чего, по его словам, в ближайшем будущем последует уменьшение других податей.
Курители и нюхатели табаку, которым еще недавно отрубали носы, могли теперь свободно позволять себе это удовольствие, заплатив за него очень дорого, но налог на соль вызвал тотчас же большое недовольство. Соленая рыба была главною пищею как у низших, так и у высших классов местного населения. И в 1648 году пришлось отменить эту меру.
В начале 1647 года Алексей решил жениться, и по этому случаю Морозов снова вооружил против себя общественное мнение. Сначала как будто произошло повторение дела Хлоповой. Двести молодых красавиц были по обычаю собраны из всех мест империи и представлены на выбор государя. Он остановился на дочери бедного дворянина, Евфимии Всеволожской. К несчастью испытанная ею радость вызвала у нее обморок. У нее заподозрили падучую болезнь и сослали в Сибирь со всеми родными. Говорили, что Борис Иванович был не чужд этому событию. Будучи вдовым и проектируя для себя второй брак с дочерью Ильи Милославского, он мечтал стать зятем своего государя, назначив ему в жены вторую дочь этой темной и малоизвестной личности. Он довел интригу до благополучного конца, но вызвал всеобщее неодобрение.
Происходя из фамилии литовских перебежчиков, Илья Данилович был выдвинут дьяком департамента иностранных дел, Иваном Грамотиным, у которого он был слугою; его дочери, если верить Коллинсу, продавали на базаре грибы, собранные в лесу. Будучи бедняком, Милославский думал лишь воспользоваться своим новым положением для быстрого обогащения, разделяя доходы со своими самыми близкими родственниками, – судьею Областного департамента (Земского приказа), Леонтием Плещеевым, и управителем артиллерийского департамента, Петром Траханиотовым. Это послужило толчком для народного волнения, несколько напоминавшего собою начало мятежей, в которые была вовлечена Франция около того же времени.
II. Московская Фронда
Буря разыгралась совершенно некстати. Польша испытала в это время страшные поражения в своих стычках с казаками, и вмешательство Москвы сделалось необходимым. Но оно было замедлено внутренним кризисом, причем совпадение это возможно не было случайным.[32]
Так как многочисленные жалобы против Плещеева оставались безрезультатными, то 29 июня 1648 года недовольные воспользовались процессией, в которой царь сопровождал патриарха, чтобы непосредственно обратиться к нему со своей жалобой. Прогнанные, они бросились в Кремль, куда быстро вошел Алексей, который вдруг увидел себя окруженным толпою. Среди черни, купцов, ремесленников в этой толпе были и «служилые люди». Августейшие телохранители, состоявшие из стрельцов, полусолдат, полумещан, почти не получавших жалованья, не выказали большей стойкости перед этим наступлением, чем на другом конце континента гражданская гвардия перед баррикадами, которыми почти в то же время покрылся Париж.[33]
Как и в Париже, и в Москве бунтовщики не нападали еще на государя; но, бросившись к дворцу Морозова, они его разграбили или скорее совсем разрушили. Бросаясь на драгоценные вещи, они их не брали себе, но ломали на куски, топтали ногами или бросали в окна с криками: – вот наша кровь! Когда, окончив эту первую процедуру, они бросились разрушать самый дом, Алексей велел объявить им, что здание принадлежит ему. Тогда они удалились, умертвив трех слуг всемогущего фаворита, скрывшегося в покоях своего зятя.
Менее удачливый Чистый не ускользнул от их возраставшего гнева. «Вот тебе за соль!» – кричали они, награждая его ударами, потом, бросив на кучу навоза, покончили с ним. Плещееву и Траханиотову удалось найти себе убежище, но опьяненная толпа, разграбив их жилища, явилась на следующий день перед царским дворцом, требуя выдачи как их, так и Морозова.
Бунт, видимо, разрастался, столица горела со всех четырех сторон, и эти пожары грозили ей полным уничтожением.
Оставшись без защиты, Алексей должен был войти в переговоры со своими взбунтовавшимися подданными. Он обещал сослать своего зятя, выдал толпе сначала Плещеева, тотчас же разорванного на куски, потом Траханиотова, которому отрубили голову. Наконец и сам царь стал просить со слезами пощады, обязуясь клятвою уничтожить монополии, улучшить финансовое управление и дать стране «справедливое правительство». Раздача денег и милостей стрельцам, как кажется, более существенно помогла восстановлению порядка, но эти бунты, переносясь в провинцию, поддерживали еще некоторое время тревожное настроение.[34]
Положение второго представителя династии Романовых среди всех этих испытаний вызвал спор, который еще и теперь далеко не исчерпан. Платонов думал, что ему удалось разрешить его посредством документа, найденного в рукописях С.-Петербургской Публичной библиотеки, но это лишь свидетельство современника, может быть хорошо осведомленного о событии, но заметно причастного к делу бунтовщиков.[35] По этой версии Алексей просил у «мира» помилования Морозова. Мир или русская коммуна, имеющая очень смутные границы и очень изменчивый вид, очень легко подвергается произвольным толкованиям относительно своих исторических функций. Но во всяком случае его очень трудно отождествить с толпою поджигателей и убийц. Молодой царь капитулировал перед бунтующей толпою и, конечно, сильно уронил этим свой авторитет, но все-таки спас самое существенное, хотя и ценою плачевных уступок. Это кажется вне сомнения. Что же касается деталей, то благодаря скудости и путаницы в источниках, даже самая дата событий еще не установлена, но наиболее вероятным началом мятежей является 2-е июня.[36]
Следует также упомянуть объяснение Олеария, говорившего, что жители московского государства, привыкшие к тирании, могут многое вытерпеть; но если насилие превосходит всякую меру, они возмущаются и делаются тогда страшными, пренебрегая всякою опасностью и становясь способными к самым гнусным насилиям и к самой ужасной жестокости.
Это замечание еще и теперь не потеряло своего значения.
Сосланный в монастырь св. Кирилла, Морозов даже в этом отдаленном изгнании, все еще некоторое время пользовался довольно значительным влиянием, но вскоре должен был отойти на задний план благодаря появлению на сцене другого фаворита, призванного сыграть в жизни Алексея и в истории его царствования гораздо более значительную роль. Начиная с 1646 г. молодой царь подпал под влияние одного старого монаха, которому он в это время поручил митрополию в Новгороде. Наступил канун великой церковной реформы и великого религиозного кризиса семнадцатого столетия.
III. Церковный реформатор Никон
Родившись в «страшный год», 1605-ый видевший триумфальный въезд в Москву Лжедмитрия со своею польскою свитою, будущий патриарх происходил от бедных финских крестьян деревни Вельдеманово Нижне-Новгородской волости. В соседней деревушке, Григорове, вскоре родился и самый страшный противник, вставший позже на пути Никона: то был поп Аввакум, представляющий собой самую оригинальную и самую мощную фигуру этой эпохи.
При крещении Никон получил имя Никиты. Его отца звали Миною. У него рано оказалась мачеха, Ксения, кажется, самая злая из всех мачех. Одно время даже сама жизнь несчастного ребенка висела на волоске.[37] Однако он научился, неизвестно каким образом, читать и писать, и это преимущество дало ему убежище в монастыре св. Макария на Желтых Водах. Но когда ему минуло двадцать лет, его родители заставили его жениться и доставили ему приход, откуда быстро распространился слух о его знаниях и энергии, и он был переведен в Москву. Тоскуя по монастырю или обуреваемый честолюбием и неспособный примириться с узостью горизонта; он решается бросить карьеру, закрывавшую, как известно, для белого духовенства православной церкви доступ к высшим церковным должностям. Будучи уже отцом троих детей, он соглашается со своею женою расстаться дружелюбно, и в то время как она приняла схиму в монастыре св. Алексея в самой Москве, он надел рясу и принял имя Никона, ища себе место аскетического убежища на берегах Белого моря.
В 1643 году мы его находим уже игуменом Кожезерского монастыря (Новгородской епархии, Каргопольского уезда), а в 1646 году, отправившись в Москву по делам своей общины, он обратил на себя внимание Алексея. Оставленный царем, он становится архимандритом монастыря св. Спасителя, где находились могилы фамилии Романовых, и каждую пятницу имел счастье служить заутреню в часовне государя, с которым долго потом разговаривал.
Таким образом между этими двумя людьми завязались отношения, из которых позже должна была создаться единственная по своей оригинальности глава национальной истории. И Алексей сначала поручил тому, кого он уже начал называть «своим особенным другом», должность, позволившую в предшествовавшем веке сделать карьеру фавориту Ивана IV, Адашеву: прием прошений. Потом, когда и Новгород стал в свою очередь волноваться народным движением, царь послал Никона в этот город.
Будучи митрополитом и облеченный к тому же очень обширною властью, Никон оправдал доверие государя. Он развил замечательную деятельность. Когда наступил голод, он стал раздавать в архиепископском дворце пищу и деньги; создал богадельни, улучшил режим в тюрьмах. Не упуская из-за этого управления своей епархией, он принялся за ритуальную реформу: ввел в соборе св. Софии греческое пение, набрав для него певчих в Киеве. Нововведение снискало себе такую славу, что сам царь захотел послушать это пение и, восхищенный им, по совету своего духовника, Бонифатьева, приказал столичному клиру последовать этому примеру.
Патриарх Иосиф сильно сопротивлялся новшеству, и все осталось на время в прежнем положении, но то была лишь отсрочка. Административная и юридическая реформа, обещанные бунтовщикам 1648 года, приняла более благоприятный оборот.
IV. Новое Уложение
По соглашению с клиром, боярами и членами Думы почти на другой день после событий, обагривших кровью столицу, Алексей приказал пересмотреть и сызнова исправить существующие законы.
То была почти повсюду главная задача века. Москва опередила в этом отношении Францию Людовика XIV и Кольбера, где лишь в 1663 году приступили к «составлению французского права».
Программа проектируемой работы была следующая: выбрать из апостольских правил и отцов церкви, как и из законов, обнародованных греческими императорами, т. е. Номоканона, статьи, «пригодные для царского правосудия», сверить указы прежних государей и решения бояр с постановлениями древних уложений; составить для непредвиденных всеми этими текстами случаев новые постановления, применимые ко всем подданным империи без различия положения.
Выполнение этой задачи было поручено комиссии из пяти членов. Работа ее должна была быть поданной на одобрение Собора. Разумное и в то же время либеральное это дело могло бы служить примером в России, как и в других местах, для законодателей более близких к нам. Это была во всяком случае почти та же программа, которая была принята позже Людовиком XIV, против воли Кольбера, желавшего умалить значение парламента.[38]
Комиссия под председательством князя Никиты Одоевского принялась за работу 10 июля 1648 года, а 1 сентября следующего года в свою очередь собрался Собор и заседал без перерыва семь месяцев. Этот Собор, кажется, был разделен на две палаты: верхнюю, в которой участвовали под председательством государя патриарх, духовный собор и Дума, и нижнюю, где заседали уполномоченные низшего класса «служилых людей», а также низшего клира и московской буржуазии. Точное число депутатов остается неизвестным, но, составляя представительство по крайней мере ста двадцати городов с их уездами, оно, кажется, превышало цифру триста тридцати шести, подписавших принятый проект. Не умевших при этом писать было больше половины: последних заменяли при этой формальности их коллеги.[39]
В противоположность тому, что наблюдалось в большей части собраний того времени, «служилые люди» не занимали в нем господствующего положения, а третье сословие составило до восьмидесяти девяти выборщиков, хотя некоторые важные города, как например Кострома, Серпухов, Нижний Новгород и Рязань, даже не доставили полного представительства на Собор.[40]
Участие Собора в выполнении этой работы дало повод к спору; некоторые историки даже доходят до полного отрицания его.[41] Вот как по-видимому происходило дело в действительности: так как редакционная работа оставалась в руках одних только членов комиссии, то представители вмешивались в нее, сначала обсуждая статьи, представленные на их рассмотрение, потом представляя по поводу их записки, с которыми комиссия не могла не считаться. Действительно, из сорока статей XIX главы нового уложения семнадцать представляют собой слово в слово почти текст этих замечаний. Некоторые из них, а именно сорок вторая XVII главы даже указывают на этот источник. Наконец несколько членов Собора были приняты в состав комиссии и приняли таким образом прямое участие в ее работе.[42]
Это сотрудничество продолжалось до апреля 1649 года. Обнародованное в мае того же года Уложение было переведено на различные языки, в том числе на французский в 1688 г. Текст был найден в 1767 году во время созвания знаменитой «Законодательной Комиссии» Екатерины. Он хранится в московской Оружейной Палате. Наружный вид этой рукописи чрезвычайно оригинален: она представляет собой свиток толщиною от 22 до 26 сантиметров и, развернутая представляет собой ленту в 30 метров длиною, состоящую из 959 листов пергамента, приклеенных один к другому.
По своей основе эта работа не имеет ничего общего с судебниками (сводами судебного производства пятнадцатого и восемнадцатого веков), ни даже с гражданскими и уголовными «Ordonnances», в которых исчерпывалось творчество французских законодателей этой эпохи и которое представляет собой опять-таки только кодексы судебного производства. Заключая в себе почти тысячу статей, Уложение 1648–1649 годов содержит в себе полное изложение законодательства того времени в области политического, гражданского и уголовного права. Оно пользуется прежде всего и очень широко древними русскими законами, юриспруденцией, установленной решениями бояр в приказах (указные статьи) и обычным правом. Уложение дополняет эти данные многочисленными заимствованиями из византийского права и литовского статута 1588 года. Оно подвергает наконец все это органической переработки путем введения значительного числа новых законов, из которых некоторые имеют характер огромных социальных реформ.
Византийское и литовское право особенно отразилось на уголовной части кодекса, сообщив ему большую суровость. Смертная казнь в Уложении предусмотрена не менее шестидесяти раз, и эта тенденция, развиваясь в течение этого века, должна была вызвать такое положение, когда каждое государственное преступление должно было наказываться таким именно образом. В дальнейшем мера эта применялась в случае запоздания в исполнении полученного приказания, за взятку и наконец за ошибки аптекарей в отпуске доз медикаментов!
Вмешательство Собора и особенно «служилых людей» закрепляется двенадцатью статьями XI главы, по которой отменен пятнадцатилетний срок (урочные лета) для розыска беглых крестьян, т. е. всякое ограничение действующего на этот счет законодательства.
Работа эта имеет еще до сих пор ценность не только историческую, так как и до сих пор еще действуют некоторые из этих положений, войдя в свод законов 1833 года. Тем не менее это далеко не кодекс в том смысле, как мы его понимаем теперь. Как в основе, так и по форме она грешит недостаточной систематизацией. С другой стороны, несмотря на свои реформаторские тенденции, она не создала ни новых принципов, ни даже новых юридических отношений. Уложение это имело главным образом своею целью консолидацию и координацию; но принятые им классификации страдают часто отсутствием точности, и с этой точки зрения современный ему французский кодекс стоит неизмеримо выше, подтверждая мнение Лависса о «способности французского ума создавать законы».
Кладя в основу своего труда окончательное прикрепление крестьян к земле, как следствие вышеприведенной меры; запрещение клиру приобретать вотчины, как прибавление к целому ряду запрещений, издававшихся начиная с 1580 года; установление «монастырского приказа», т. e. уничтожение юридической автономии, приобретенной раньше церковью, и целый ряд мер, предназначенных обособить и фиксировать городское население, как класс строго определенный, – русские законодатели 1648–1649 гг. следовали современному движению умов, не без некоторого пристрастия к наиболее протежируемому в это время классу, каким было меньшинство в Соборе. Служа главной пружиной политической системы того времени, «служилые люди» сумели использовать свое положение.