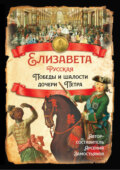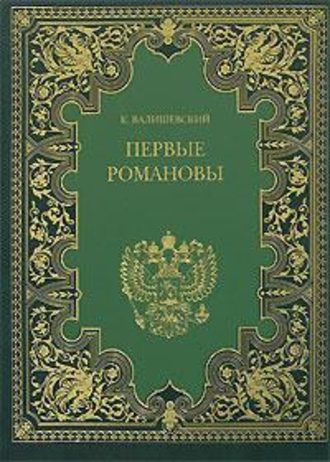
Казимир Валишевский
Первые Романовы
Прибыв в Москву в 1649 году вместе с Паисием, уже известным нам иерусалимским патриархом, монах, доктор богословия Арсений был принят с распростертыми объятиями. Он изучал философию и медицину в западных школах, в Риме, Венеции и в Падуе и – качество еще более редкое, – он знал славянский язык. Его оставили в Москве, в качестве профессора риторики. Но Паисий, при возвращении своем в Иерусалим не успел еще перейти границу, как послал донос на своего товарища: Арсений, мол, негодяй и вдвойне ренегат, принявший обряд обрезания в Константинополе и приверженец Унии в Риме. И его поспешили отправить закованным в цепи в Соловки.
Противник Никона, Лигарид, был однажды обвинен подобным же образом. Священник, впавший в раскол и общепризнанный взяточник, лишенный своего места митрополита в Газе и отлученный от церкви, он также подвергся доносу, использовав предварительно то положение, которого он достиг раньше в Москве, чтобы заняться делом, близким к мошенничеству. Но, выступая обвинителями против дурных своих подданных, сами иерусалимские патриархи очень плохо зарекомендовали себя пред своими московскими единоверцами. Они знали, предметом каких искательств были восточные престолы; среди конкурентов, оспаривавших между собою милость визирей с помощью взяток и низких интриг, не останавливавшихся часто перед преступлением, лишь бы победить соперника, а затем победители вознаграждали себя за издержки и труды торговлею духовными должностями, продавая их с публичного торга.
Знания этих иностранцев тоже подлежали сомнению. Из какого источника они могли его черпать теперь? Лишенные благодаря турецкому владычеству большинства своих древних школ, они были вынуждены пользоваться западными, и если даже, как это сделали Арсений или Лигарид, они и не пошли в своей вере на преступный компромисс с латинизмом или протестантством, могли ли они поручиться, что она все-таки не подпала некоторым образом под влияние их нечистого прикосновения? Чего стоила, наконец, сокровищница священной литературы, которой они так гордились? Их древние рукописи? Они были большею частью уничтожены при взятии Константинополя! Их новые сочинения? Они выходили из венецианских или римских типографий, контролируемых иезуитами! Разве не в том именно состояло назначение «третьего Рима», чтобы хранить нерушимо, ввиду всех этих заблуждений и порчи нравов, запас святых истин, незыблемость доктрин и правильность ритуала?
Национальная гордость опиралась некоторое время не без удовлетворения на эти соображения, в которых нашел себе приложение консервативный инстинкт, так могущественно действующий в малоразвитой среде.
Между тем действовали и внешние влияния. Критический дух, пробужденный ими, делал свое дело. В идеализированной таким образом чистоте местных преданий он указал им несомненные недостатки, были констатированы, наконец, и болезненные наросты. Он показал настоятельную необходимость множества исправлений, восстановлений, реформ, обращенных собственно говоря на довольно незначительные детали, но здесь они не казались таковыми. Путь был ложный. Нужно было найти другой. Но как? Каким образом? С середины шестнадцатого века сделаны были попытки в этом направлении, без какого-либо плана и довольно случайные. В следующем веке они продолжались с теми же греками, как руководителями, за неимением лучших. Продолжая относиться к ним подозрительно, все же прибегали к их знаниям и шли наудачу.
Собор 1618 года осуждает и думает уничтожить дело, казавшееся безупречным год спустя, в ожидании, что новая перемена мнений даст ему другую оценку. Потом даже в тех слоях, где живо интересовались подобными вещами, обнаружились две тенденции: общий лозунг требовал возвращения к букве древнейших писаний и к соблюдению более древних обычаев. Разрыв должен был совершиться при разъяснении этой формулы.
III. Наука и традиция
К середине семнадцатого века, в то время когда патриархом был Иосиф, суровый и упорный консерватор, реформаторское движение сконцентрировалось в кружке, вдохновителями которого были украинские монахи, вызванные в Москву Ртищевым. Поставленные вместе с самым ученым из них, Епифанием Славеницким, исправлять священные книги, они привлекли на свою сторону царского духовника Степана Бонифатьева, протопопа Казанского собора, Ивана Неронова, а также будущего патриарха и творца великой реформы, Никона и одного из будущих руководителей раскола, попа Аввакума. Алексей увлекался тоже этим течением. Здесь вырабатывалась реформа, но ввиду различия идей и чувств, которое вскоре обнаружилось между членами группы, невозможно предположить, чтобы общая концепция могла существовать в ее инкубационном периоде.
Сначала все они были согласны видеть в Востоке неоспоримый источник великих истин, как и соответствующих им учений. И на деле Москва получила из этого резервуара все верования и все обряды, и продолжала еще черпать из него в то время. К несчастью, греческий канон не был ни неизменным, ни однообразным и, благодаря этому, постоянно возникали затруднения в его применении. В одном вопросе следовали по изолированному пути, в другом – отстали от общей эволюции восточных коммун. И там, и здесь, например, повторение аллилуйи приняло две формы: двойную или тройную, смотря по желанию, но вторая предпочиталась греками. Напротив, принятый последними трехперстный знак креста продолжали в московской обрядности быть двуперстным. И тот и другой знак были греческого происхождения, но об этом не задумывались. В принятых в древности обрядах время совершенно изгладило их происхождение. Они считались национальными.
Ценою некоторых взаимных жертв и определенных уступок, Епифаний Славеницкий с товарищами думал установить желанное единство между обеими церквами. Тщетная надежда! Плод их трудов, посланный на Афонскую гору для проведения в жизнь среди находившихся там многочисленных монахов – славян, встретил среди них строгое осуждение. Предложенные исправления признаны были неприемлемыми на соборе, собранном в святом месте, и книги, вышедшие из московской типографии вместе с этими указаниями, были осуждены и подверглись уничтожению.
Сразу произошел раскол в этой компании, душою которой были украинские монахи. Никон примирился, Бонифатьев и Неронов еще колебались, а Аввакум в негодовании разразился протестами. Греческая наука этим действительно доказала свою крайнюю гордость, национальная традиция заслуживала совершенно другого отношения. Слишком мало образованные лица, принимавшие участие в этом споре, едва были в состоянии его поддерживать на археологической почве, где они ничего не понимали. Путем сильных аргументов они перенесли этот спор на почву догмы, понимая под ней то, во что верили и что исполняли на практике. Не углубляясь в смысл слов и не объясняя символическое значение ритуала, не находя даже большой ценности ни в том, ни в другом, они видели в них лишь собирателей божественной благодати, которых нельзя коснуться, не совершив преступлении против Св. Духа.
Когда спор разгорался, партии протестантов одержала в нем верх. Иосиф только что умер (1652 г.), полураспавшаяся группа назначила ему Бонифатьева в преемники против Никона, который успел заранее завербовать себе избирателей. Так как Алексей не хотел отказаться от своего выбора, то Бонифатьев и Неронов соединились в последний момент, надеясь еще сохранить за собою руководство реформаторским движением, в котором новый патриарх, заваленный другими работами, должен был играть довольно жалкую роль. Они настаивали на реформе, но по-своему. Это значило совсем не считаться с властным характером и темпераментом принятого ими нового главы.
Никон начал с того, что отставил своих друзей от исправления книг. Для того чтобы спорить с греками по поводу греческих текстов, ни у Бонифатьева, ни у Неронова, заметил он справедливо, нет самого необходимого: ни тот, ни другой не знают ни слова на языке св. Златоуста. Новый патриарх вызвал для этого из Соловок грека Арсения. В Новгороде, как мы это знаем, Никон уже установил унисонное пение, употреблявшееся на востоке, и ввел в ритуал различные видоизменения, указанные в 1649 году Паисием. Он занялся, не без некоторой жестокости и крайности, обобщением и распространением этих принципов. Его натура мало была приспособлена к тому, чтобы останавливаться на полумерах. Все в божественной службе должно было отныне стать греческим, начиная с формы и ритма церемоний и вплоть до состава священнослужителей. Амвоны и посохи, рясы и головные уборы, архитектура и иконы, – ничто не ускользнуло от нового порядка.
Одна надежда оставалась у прежних сотрудников патриарха, пораженных таким революционным актом. Они очень надеялись на результат миссии, порученной в 1649 году игумену Епифаньевского монастыря, Суханову. Этот монах получил приказ последовать за Паисием на Восток и проверить там его указания. Ярко выраженный тип старого московского ученого, он являлся сторонником национальной традиции. Вернувшись оттуда в 1653 году, он не обманул возложенных на него надежд. Изложенные в двух сочинениях, его путевые впечатления произвели страшный шум, и они были не в пользу восточной церкви. Не считаясь, быть может, в достаточной степени с теми затруднениями, среди которых она влачила свое существование, автор видел в ее религиозной жизни лишь упадок и испорченность. Он доставил противникам реформы сильные аргументы, и оттуда должны были черпать обильный материал первые раскольники.
Никон тем не менее не был сбит с позиции. У московских писателей этой эпохи мысль никогда не была настолько точно выражена, чтобы она не могла подвергнуться самым разнообразным толкованиям. Патриарх нашел или полагал, будто бы нашел, в рапортах Суханова совершенно противоположное тому, что открыли в них противники реформы и, отправив их автора на Афонскую гору, поручил ему собрать документы, которые могли бы послужить к торжеству греческой доктрины.
Сделавшись таким образом против собственной воли сотрудником в работе, которую он сам отвергал, путешественник привез в 1655 году пятьсот рукописей, из которых одной приписывали более тысячи лет существования, причем вся эта коллекция приняла характер грозного боевого арсенала против разрозненных националистов и сторонников традиции. На деле, для разгоревшейся борьбы греческая доктрина не получила здесь никакого серьезного подкрепления, так как она не одна была представлена в этом багаже. Представленная Гомером, Софоклом, Демосфеном, Феокритом, в привезенном багаже имелась в большом количестве языческая литература, и таким образом это был скорее классический эллинизм, который проник с триумфом в старую Москву. Никто однако не подумал составить инвентарь, который мог бы учесть эти богатства. Как это всегда бывает при спорах такого рода, за спором осмысленным и аргументированным последовал слепой взрыв страстей, и таким образом видоизмененная борьба приняла решительный оборот.
IV. Реформа
Московский Собор 1649 года высказался, и очень энергично, против изменений в ритуале, которые были предложены эллинистами, и в частности он высказался против унисонного пения. Только по последнему пункту Алексей заставил принять другое решение на Соборе 1651 года. Но это было еще до восшествия Никона. В феврале 1653 года, совершенно не считаясь с этими фактами, новый патриарх выпустил исправленное издание псалтири и послал его всем своим подчиненным вместе с указаниями, носившими характер приказаний. Тотчас же его сообщники взволновались. Неронову явилось видение, которое предупреждало его, что настало время страдать за истинную веру. Аввакум этому поверил и воспламенился. Был подан протест царю.
Алексей обнаружил беспокойство. Поставив Никона первосвященником, он полагал, без сомнения, найти в этом создании своих рук послушное себе орудие и обеспокоился, увидав, что он дает личное направление делу, предпринятому сообща. Но царь подчинился влиянию страшного деспота. Он, правда, отказался наказать авторов протеста, но игнорировал их протест, и в июле Никон, которому царь не посмел препятствовать, сам произвел суд: арестованный и жестоко избитый, Неронов исчез в отдаленном монастыре. Заступившись за своего друга, Аввакум разделил его участь.
В конце этого года или в начале 1654 гораздо более серьезный акт последовал за этой экзекуцией. Собрав собор и указав ему на ошибки переписки вплоть до символа веры, патриарх получил единогласную санкцию на новые исправления, причем уполномочивались на это дело Славеницний и грек Арсений. В то же время был отвергнут знак двуперстного креста с двойною аллилуйей и другими обрядами, споры о которых доходили до начала пятнадцатого столетия.
Мы едва теперь можем понять горячий интерес, связывавшийся тогда с этими спорами, пустыми, по нашему мнению, дрязгами певчих. Московиты этой эпохи думали совершенно иначе. Самые смелые новаторы, самые решительные западники из приближенных Алексея испытывали в этой области постоянные угрызения совести. Разъезжая во французских экипажах, одеваясь в немецкое или английское платье, изучая даже свободные науки по книгам, блещущим своим атеизмом, они не уклонялись от определенных концепций, заставлявших их, например, содрогаться от ужаса, когда они нечаянно проглатывали каплю молока во время поста.
С другой стороны, научные основания реформы, предложенной Никоном, были всегда, в этом следует сознаться, довольно шаткими. В то время как собор в 1654 году живо обсуждал представленный на его рассмотрение вопрос, Суханов не вернулся еще из своего второго путешествия с научными целями, и тексты, осужденные Никоном, не могли быть сравнены с существовавшими оригиналами! На деле патриарх должен был основываться на книге, изданной в 1603 году в Венеции. И, опираясь на авторитет такого источника, Москва должна была отказаться от всего своего религиозного прошлого, признать, что независимость, которой она пользовалась в этой области с момента падения Константинополя, обрекала ее на ложные толкования, объявить себя отсталой и нуждающейся в опеке, отказаться, наконец, от тех идей и честолюбивых замыслов, на которых она строила свое настоящее и будущее, свою интимную жизнь и положение в мире!
Это было уже слишком, и ненависть к новшествам, а вместе с ним самое законное негодование национального чувства, и естественное возмущение религиозной совести вылились в общем отпоре страшных элементов реакции.
V. Бунт
Собор 1654 года вынес «единогласное» решение. Мы знаем уже, что эта формула обычно не соответствовала истине. Действительно, распространился слух, будто бы несколько членов Собора отказались подписать его протокол. Коломенский епископ, Павел, даже подал будто бы на него протест. Потом этот документ был опубликован, и в нем фигурировала подпись прелата с одной оговоркою по поводу числа поклонов, принятых в ритуале. Мотивы чисто личного характера могли кроме того внушить такое поведение прелату. Он был близким родственником одного из конкурентов Никона на патриарший престол. Между тем о нем сообщили, будто бы он энергично защищал мнения, противоположные принятым решениям, и через некоторое время Никон, поверив этой версии, сместил епископа с занимаемой им должности и заключил его в монастырь, где он и исчез бесследно.
Дело протестовавших получило своего первого мученика, и Неронов вскоре занял второе место в этом списке. В далекой ссылке он изменил свое поведение, обратившись к царю и к царице с письмами, в которых были выражены некоторые главные идеи подготовлявшегося раскола, а именно тезис о близком пришествии антихриста, возвещенного действиями Никона. Он проповедовал даже в этом направлении в церкви св. Софии в Вологде.
Переведенный за это в еще более отдаленный монастырь и содержащийся на этот раз в заточении, он убежал и, пробыв несколько месяцев в Соловках, которые в то время представляли собою центр полуполитической, полурелигиозной агитации, он тайком добрался до Москвы и нашел там убежище у Бонифатьева. Все еще любимый Алексеем и оставаясь по-прежнему его духовником, он в то же время сохранял также вежливые отношения с Никоном и играл в двойную игру. Но сам царь сделался его сообщником в этом случае: извещенный о присутствии изгнанника, он скрыл это от патриарха. Здесь имело большое значение влияние царицы. Будучи нежным супругом, Алексей уважал убеждения и вкусы своей жены. Занятый кроме того в это время войною с Польшею, он мог уделять очень мало внимания ведению своих домашних дел. Но когда вмешалась в это дело Мария Ильинишна, там образовался новый очаг оппозиции. Старый Прокопий Соковнин, самый интимный советник государыни, управлявшей ее личным состоянием, очень влиятельный также сын этого боярина, его две дочери, интимные подруги, товарки по воспитанию царицы, из которых одна была замужем за воспитателем Алексея Морозовым, а другая за князем Урусовым, все родственники, наконец, Марии Ильинишны, – Милославские, Хованские – все были воодушевлены теми же чувствами.
Движение из августейшего терема, где оно нашло мощную поддержку, распространилось во всем высшем обществе, увлекая за собою самые значительные фамилии: Барятинских, Мышецких, Плещеевых, Львовых. Ртищев, заняв нейтральное положение, создал из своего дома замкнутую арену, на которой с яростью сражались сторонники и противники новшеств. Потом агитация вышла на улицу. Она распространилась за пределами столицы, в провинциальных городах и в деревнях. Находясь в ежовых рукавицах у Никона, клир оставался некоторое время чуждым этой агитации, по крайней мере внешним образом. Участь коломенского епископа пугала желавших ему подражать. В церквах и монастырях недовольство новым ритуалом выражалось лишь в глухом ропоте. Ритуальные книги нового стиля, послушно принятия, открыто клались рядом со старыми, но не открывались. Вскоре однако антиреформенная пропаганда, перейдя в эту среду, вызвала среди многочисленных своих приверженцев из попов и протопопов (Никита в Суздале, Лазарь в Романове, Даниил в Костроме, Логгин в Муроме, Никифор в Симбирске, Андрей в Коломне, Серапион в Смоленске, Варлаам в Пскове), уже менее двусмысленные манифестации. В северных областях, где раскол должен был встретить особенно благоприятные условия для своего развития, даже несколько епископов, Макарий Новгородский, Александр Вятский и преемник Павла в Коломне, Маркел, примкнули, казалось, к решениям последнего собора.
Но эти мятежные действия не встретили того отпора, который должны были бы вызвать. Обнаружив вначале крайнюю строгость, Никон в свою очередь стал колебаться. Он не чувствовал поддержки. Алексей ускользал из его рук, и конфликт, разыгравшийся между царем и патриархом, имел для религиозного кризиса, возникшего одновременно с этим, последствия, которые можно было легко предвидеть.
Москва знала уже достаточно разногласий по поводу догмы и церковной дисциплины. Более одной секты, даже из тех, которые подобно хлыстовщине или беспоповщине должны были фигурировать на первом плане в будущем расколе, уже зародились в недрах национальной церкви. Обыкновенно такие беспорядки подавлялись посредством строгостей или широкой терпимости. Темперамент Никона в связи с тем щекотливым положением, в которое он лично попал, повел к тому, что ни одно из этих средств не было принято. Натура его восставала против всяких компромиссов, но с другой стороны под давлением обстоятельств, он сознавал необходимость подчиниться им, – тогда он стал лавировать. Когда в мае 1656 года Неронов по совету Бонифатьева надел рясу, Никон представил его собору и добился на нем решения отлучения виновного от церкви, но в апреле следующего года, он его помиловал и пригласил даже к своему столу! В то же время, даже в стенах Кремля, допускались уклонения от официального ритуала; но тогда же распространился слух о трагической кончине прежнего коломенского епископа, умершего по версии одних в сумасшествии, явившемся последствием телесного наказания, а по другим растерзанного хищными животными или сожженного живым. Легко понять влияние этих небылиц на неразвитые умы. Раздраженная и в то же время ободренная партия оппозиции черпала в них новую силу.
В августе 1657 года значительное количество исправленных книг было послано в Соловки для распределения их по решению общины между соседними церквами. Служа в одно и то же время местом изгнания и убежищем для осужденных и беглецов всякого рода, этот монастырь не имел ничего общего со спокойствием Фиваиды. Там постоянно веял мятежный дух. Никон только что сослал туда князя Михаила Львова, старого управляющего московской типографией при патриархе Иосифе и одного из активных вождей реакционного движения. Соловецкие монахи точили зубы также на патриарха за старое, помня еще то время, когда он, будучи новгородским митрополитом, держал монастырь под своею властью. Разве он не вмешивался тогда в проверку качества просфоры, которая там готовилась в большом количестве, и в которой частенько, по-видимому, отсутствовала пшеничная мука?
Лично принадлежа к партии, недавно принявшей сторону Неронова, архимандрита Илья созвал собор монахов и священников, так называемый черный или народный собор, и на нем было решено держаться старых книг и отправить в этом смысле прошение царю. Когда оно прибыло в Москву, там уже не было Никона, который ответил бы на него так, как оно этого заслуживало. В свою очередь он узнал всю горечь немилости и ссылки. Дело так и осталось нерешенным и, одержав видимую победу, знаменитый монастырь все более и более обращался в очаг агитации и пропаганды против реформы.
С 1657 по 1666 год гражданские и церковные власти имели еще неосторожность скопить в этом месте весь горючий материал, издавая все новые приказы о ссылках и направив туда до ста пятидесяти лиц. В 1660 году архимандрит монастыря Св. Саввы, любимого места уединения Алексея, Никанор фигурировал в их числе после того, как неразумно домогался наследовать Никону, и бунт получил вождя, которого ему недоставало.
В 1666 году был созван собор, который должен был судить Никона и решить в то же время участь его реформы. В этот момент, долго колеблясь между противоположными мнениями и влияниями, Алексей принял наконец решение. Желая избавиться от бывшего патриарха и от кризиса, в который этот второй бунтовщик вовлек церковь и государство, царь думал прибегнуть к помощи восточных патриархов. Но призыв к их дисциплинарному авторитету влек за собою принятие и их канонической власти. И следовательно, Никона пришлось отделить от дела: последнее должно было получить окончательную санкцию, в то время как бывший патриарх должен был получить то наказание, которого он заслуживал совсем по другим причинам. Такова была основная мысль, господствовавшая на собраниях большого собора 1666–1667 годов, и такова история и большой части человеческих предприятий.
Но в том религиозном споре, в который она была вовлечена Алексеем, эта комбинация еще осложнялась целым рядом очень беспокойных элементов. Она подчеркивала экзотический характер реформы и усилила против нее негодование национального чувства. Эта комбинация ввела кроме того в борьбу те насильственные меры, от которых она до сих пор была избавлена. Традиции страны склонялась к пощаде и компромиссам; восток, призванный в качестве третейского судьи, должен быть принести с собою совершенно иные стремления.
Решения Собора, продолжавшегося до 1667 года, могут быть разделены на две категории, ясно определившиеся уже при появлении в заседании иностранных патриархов. До прибытия их, Собор принимал по отношению к антиреформенной оппозиции примиряющую точку зрения. Он старается привести отпавших к повиновению, и отчасти успевает в этом. Один за другим вятский епископ Александр, архимандрит монастыря Св. Спасителя в Муроме, Антоний, игумен монастыря Св. Иоанна Златоуста, Феоктист и сам Неронов заявляют о своем подчинении. Остальные отпавшие отлучаются от церкви; но Собор все же не отчаивается в их дальнейшем обращении и дает среди других попу Лазарю несколько месяцев на размышление. Он не произносит ни одной анафемы ни против людей, ни против дела; он не принимает никаких непоправимых мер, кроме как против некоторых индивидуумов, виновных в прямом его оскорблении и даже к ним он применяет только церковные наказания.
С появлением александрийского патриарха Паисия и антиохийского Макария картина меняется. Собор бьет двойными ударами, и они широко отзываются, предавая вечным проклятием, не допускавшим ни суда, ни апелляции, всех теперь или в будущем непокорных; принимается решение не только вооружиться божественною властью с ее духовными наказаниями, но также и светскою властью. Когда эти решения стали выполняться, раскол родился окончательно, крещенный кровью, к той интенсивной жизни, которая воодушевляет его еще и теперь.
VI. Крещение кровью
Противники Реформы подпали теперь под действие параграфов кодекса 1649 г., осуждавшего на смертную казнь в огне за всякое нарушение божественного или церковного закона. Ни церковные власти, ни гражданские не были вначале расположены применять это последствие принятых ими мер. Аввакума отправили в ссылку в Сибирь. То же произошло и с диаконом Феодором и с попом Лазарем, которым только отрубили языки. Никого между тем не сожгли, и кажется более надеялись на влияние книги, опубликованной в это время в пользу Реформы монахом, родом из Белоруссии, Симеоном Полоцким, начавшим ею свое блестящее будущее. Желая оправдать оказанное ему доверие, он много трудился, но плохо рассчитал свои силы. Представляя собой произведение ученой полемики, в которой схоластика, диалектика, риторика и поэтика, очень почитавшиеся тогда в польских школах, боролись путем тонких силлогизмов и мудреных просопопей, этот «Жезл правления» как назывался этот трудолюбивый трактат, не был предназначен управлять теми, к кому обращался. Но между тем ему верили, и патриарх Макарий, возвращаясь в Антиохию, должен был жаловаться на снисхождение к диссидентам, все более и более увеличивавшимся в числе.
Тут внесла также свою лепту царица Марии Ильинишна, и до ее смерти, в 1669 году, дела оставались в том же положении, хотя легенда, созданная позже в недрах раскола, и увеличила число жертв, прибавленных с этого времени к мартирологу «старой веры». Но кончина первой жены Алексея и появление пользовавшегося любовью приемного отца новой царицы, Матвеева, определенного западника и реформатора, привели к роковой развязке нонконформистов. Так как с другой стороны и раскол принял беспокоящие размеры, Алексей развязал руки сторонникам репрессии, нашедшим аргумент в этом факте, и казни начались.
В то же время бунт в Соловках, все продолжая разрастаться и связавшись с восстанием Стеньки Разина, приближался к трагической развязке. С этой стороны были исчерпаны все мирные средства. На все обращенные к ним увещания монахи отвечали более или менее смелыми критическими сочинениями. Одно из последних должно было занять почетное место в литературе раскола. Как на главный мотив их оппозиции к реформе, авторы этого документа указывают на прибавку одной буквы в имени Иисус, настаивая на том, что нужно писать Исус, а не Иисус, по новому учению. И к этим жалобам они прибавляли еще и вызов: «Прикажи, царь, послать против нас твой меч, уже обагренный кровью; мы с радостью перенесемся из этой юдоли скорби к лону вечного мира».
В 1668 году перчатка была поднята, но маленький отряд войск, посланный Алексеем, должен был отступить. В монастыре имелся сильный гарнизон, многочисленная артиллерия и еще в 1854 году его стены устояли от огня английских пушек. Началась правильная осада, и она продолжалась до января 1676 года. Тогда измена открыла ворота крепости, остававшейся так долго недоступной для царских солдат, и сразу раскол насчитал значительное количество настоящих мучеников. Меч и огонь не пощадили никого.
Некоторым из осажденных, однако, удалось вырваться до разгрома. Они отправились проповедовать евангелие на берегах Онеги и явились основателями знаменитого убежища, – Выговской пустыни, при впадении Выга в Онежский залив, которое в продолжение двухсот лет служило главным местом для новой религии, окончательно установленной благодаря этому кровавому посвящению.