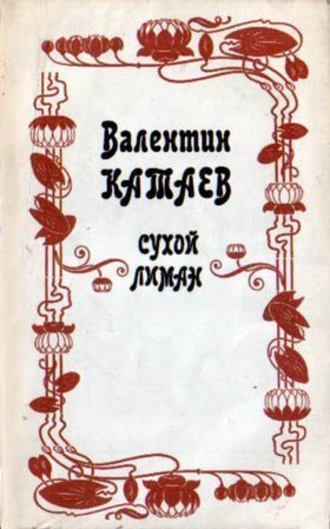
Валентин Катаев
Юношеский роман
– А-а-а-а-а-а!…
Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.
Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелинитового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду – впереди, справа, слева – незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекричать грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.
Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.
Даже сейчас – через столько лет! – я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне цейсовской оптикой стереотрубы: жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.
Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины…
«10 октября 916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас – один бог знает.
Румынская кампания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.
В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.
Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.
Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбьи глаза. Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука – грозы и орудий – сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей – одной земной, другой небесной»…
Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война – это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!
Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем… Несем потери… Теряем территорию… Вот, собственно, все, что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если бы даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в железку. Смеркается быстро. Настроение хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и назревают события… Целую руку. Ваш А. Пл.».
Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в «железку». Уже настолько стемнело, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.
Багровое пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.
Но что это за привычные мысли?
Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.
Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.
Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более женственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.
Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.
Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же, как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.
О моей тайной любви, конечно, догадывались все. Надо мной даже стали посмеиваться, как посмеивались над Вольдемаром. Мы оба, я и Вольдемар, были безнадежно влюблены в нее.
Кстати сказать, Ганзя было ее детское прозвище, которое так и осталось за ней на всю жизнь.
А она?
Предпочитала ли она кого-нибудь из нас? Неизвестно. Вернее всего, она ни к кому из нас не испытывала никаких любовных чувств. Ничего, кроме компанейского дружелюбия, даже, может быть, товарищеской симпатии. Скорее всего ей нравился некий студент из нашей компании, красавец и симпатяга с алым ротиком, лучистыми глазами, шелковистыми усиками, всегда щегольски одетый в форменный студенческий мундир (не в тужурку!) с твердым высоким синим воротником, подпиравшим бархатные щечки, и подбитой ватой грудью, на которой блестели два ряда студенческих орленых золотых дутых пуговиц.
Вольдемар открыто к нему ревновал, вызывая всеобщее веселье. Я же не выражал своей ревности, втайне раздиравшей мою душу при виде, как ласково смотрят друг на друга Ганзя и студент.
Но мы с Вольдемаром сделались невольными сообщниками в ненависти к счастливому студенту. Мы осуждали его каждый на свой лад. Я критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких знаний (сам будучи полным невеждой), а Вольдемар прямо говорил с ядовитой иронией, что у него алые губки, похожие на куриную жопу.
Да ведь был еще какой-то футболист, инсайд-правый.
В палатке, трепетавшей от проливного дождя, при лазурно-багровом пламени огарка я перебирал в памяти все, что касалось моей любви.
…Однажды во время игры в фанты ее лицо оказалось так близко, что общего его выражения я уже не мог разобрать. Видел только движущиеся коричневые брови и как бы отдельно от них карие глаза и растянутые в улыбке губы. Глаза выражали внимание, губы шевелились, лоб смеялся, брови хмурились, но в одно общее они не складывались. Может быть, это отсутствие общего и вселяло в меня чувство горечи. Для меня у нее нет общего.
Я возвращался к истокам своей любви, когда каким-то непонятным, таинственным образом вдруг почувствовал, что моя судьба теперь как-то связана с ее судьбой, хотя это была всего лишь игра воображения.
После похода за фиалками до конца учебного года мне так и не пришлось видеться с ней, а там начались экзамены, летние каникулы, то да ce, и я перестал о ней думать, хотя во мне все время теплилось сознание, что на свете существует она, и с этим уже ничего нельзя поделать.
У меня в гимназии был верный друг Боря. Характеры у нас были совершенно разные, что, как водится, еще надежнее скрепляло нашу дружбу.
Я, как мне помнится, был нервный, крикливый, жил воображением, а Боря был рассудительный, несловоохотливый, сдержанный, склонный к недоверию, немного ироничный. Он тоже, как мы все в этом возрасте, жил воображением, но в его характере преобладало нечто, постоянно сдерживающее воображение.
Так или иначе, но мы считались самыми близкими друзьями и на большой переменке сидели внизу, в раздевалке, под шинелями, на длинном ящике с отделениями, в которых хранились галоши на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками инициалов. Там я особенно охотно откровенничал.
– Понимаешь, Боря, – говорил я, жуя бублик, купленный в гимназическом буфете за две копейки, – я влюбился.
– В кого? – спросил Боря с ироническим выражением белобрысого лица и улыбнулся, показав свой передний криво выросший крупный зуб, что делало его лицо особенно характерным.
– Ты ее не знаешь, – сказал я. – Я сам с ней только три дня назад познакомился.
– И уже влюбился? – спросил Боря строго.
– Да, – вздохнул я. – Так случилось. Ее зовут Ганзя Траян, из гимназии Бален де Валю.
– Не знаю, – сказал Боря и еще ироничнее улыбнулся. – Ну и что же? Так сразу с места в карьер?
– Ты себе не представляешь, что со мной сделалось!
– Почему же я себе не представляю! Отлично представляю: ты влюбляешься в каждую юбку.
– Ах, Боря, нет. Это совсем не то! Такого со мной еще никогда не бывало. Даже дома заметили. Я о ней все время думаю.
– В то время как тебе не мешало бы подумать об уроках. А то смотри – выкинут за неуспеваемость. Ты и так висишь на волоске.
Я поморщился.
– Ах, боже мой, совсем не о том речь… Понимаешь, у меня вдруг при одной мысли о ней к сердцу приливает такая, знаешь ли, как бы тебе объяснить – горячая, что ли, волна, что, честное благородное, трудно делается дышать. – Ну и врешь, что трудно дышать, – зашептал Боря, по своей привычке хладнокровно отделяя правду от выдумки.
Боря отчасти играл роль Базарова и уже готов был сказать мне великолепные слова: «Аркадий, не говори красиво», но сдержался из уважения к моему чувству любви. Он только делал вид, что все эти мои любовные истории ему совсем не любопытны и просто смешны. На самом же деле разговоры о любви ужасно его волновали.
– Все это, брат, ты выдумываешь, – сказал Боря. – Вот ей-богу, святой истинный крест, я не выдумываю, – почти со слезами на глазах сказал я и перекрестился. – Прямо-таки трудно вздохнуть.
Мы немного помолчали.
Я положил локти на колени, уперся подбородком в вывернутые ладони и, глядя исподлобья на чугунную печку, в слюдяном окошке которой горели золотые слитки раскаленного кокса, обогревая раздевалку, вздохнул:
– Это, кажется, Боря, я в первый раз в жизни так втрескался.
Боря дернул костлявым плечом и прищурился, как следователь, допрашивающий преступника:
– А, собственно, за что ты так сильно в нее влюбился? Что она – лучше других?
– Ах, в том-то и вся штука, что я не знаю, за что я ее полюбил. Просто так. В этом-то все дело.
– Не понимаю, – сказал Боря, и между нами начался один из тех волнующих и бестолковых разговоров, какие обычно происходят между близкими друзьями, которые чувствуют и думают по-разному, но терпеливо стараются понять один другого, потому что любят друг друга, несмотря на свою несхожесть.
Я с жаром доказывал, что когда любят по-настоящему, как я полюбил Ганзю, то эта любовь всегда бывает беспричинной, и если человек любит, то не за что-нибудь – ну там за красоту, или за ум, или за богатство, или за фарфоровые щечки и жемчужные зубки, или за серебристый смех и маленькие ножки, – а любят просто так, потому что это судьба.
– Ты понимаешь – она моя судьба!
Я слушал самого себя и любовался самим собой, своими такими чистыми и возвышенными взглядами на любовь. Однако, утверждая, что настоящая, большая любовь всегда бывает без причин, я сам себе не очень-то верил, потому что трудно, даже невозможно верить чему-нибудь, происходящему без причины. Без причины ничего не бывает. Однако же…
А Боря, для которого любовь была вещью совсем непонятной и туманной, вернее сказать, за отсутствием любовной практики и вследствие прирожденной застенчивости штукой отвлеченной, старался говорить о ней как о вещи простой, ясной и обыденной, лишенной волшебства.
Мы не понимали друг друга, но каждая новая мысль, высказанная в раздевалке под шинелями, все больше и больше разъясняла и определяла для нас понятие любви.
Ох уж эти разговоры гимназистов о любви!
– Если ты утверждаешь, – говорил Боря прокурорским тоном, – что любовь возникает сама собой, без причины, то это надо проанализировать. Опиши мне самым подробным образом свое знакомство с ней с самого начала до того момента, когда ты пришел к выводу, что влюблен. Таким образом нам наверняка удастся обнаружить причину.
Я самым добросовестным образом поведал другу все подробности своего знакомства с Ганзей, поход за фиалками и т. д.
Мы оба, как два ученых-исследователя, сидя под вешалкой, где пахло побывавшими под дождем гимназическими шинелями, старались обнаружить причину моей внезапной любви, но у нас ничего не получалось.
…на румынском фронте, в палатке, потемневшей от дождя, я продолжал сам с собой исследовать причины своей любви к Ганзе. Этих причин могло быть две: красота и ум. Но она, несомненно, была некрасива. А ума ее я не знал. Значит, не в этих очевидных причинах было дел Так в чем же?
Ах, чего бы я не дал, чтобы снова стать пятиклассником и очутиться вместе со своим другом Борей под шинелями! и видеть перед собой печку, похожую на маленький сизо-чугунный замок, в слюдяном окошке которой пылал раскаленный коке, создавая впечатление, что в замке какой-то праздник, торжество, бал, может быть, даже свадьба!
Нет, для любви не надо ни красоты, ни ума, и возникает она сама по себе, без причин.
Волшебство самовозгорания!
Да, но все-таки…
Ведь к Миньоне у меня тоже была любовь. Но она имела причины. Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки… Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь генерала, у нее были сиреневые глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер флёрт. У меня с Миньоной все было более или менее ясно. Ода мне физически нравилась. И ей я нравился до известной степени: все-таки лишний поклонник. Я без труда, легко и бездумно ухаживал за нею. Она принимала мои ухаживания как должное. Мы без затруднения болтали друг с другом. Я считался одним из ее счастливых поклонников. Она явно отличала меня. Все-таки я пописывал любовные стишки, а это всегда нравится.
Оба мы – Миньона и я – были слишком юны и незрелы для серьезного чувства. Но в будущем… Чем черт не шутит. Я мог стать офицером, и тогда…
Но это были лишь детские мечты.
С Ганзей все обстояло совсем по-другому.
Она была моложе Миньоны, но я познакомился с ней годом раньше, когда она только что вышла из отрочества. Она была первая. Первая и единственная: с первого взгляда и на всю жизнь. Я так глубоко любил ее, что мне даже и в голову не могло прийти ухаживать за ней или – еще хуже – флиртовать, добиваться взаимности. При ней я немел. Вероятно, она сначала даже не заметила моего чувства.
Нравился ли я ей? Неизвестно. Мог же я понравиться ее подруге Калерии, которая даже была в меня влюблена. Так почему бы… Но нет. Неизвестно. Вообще ничего не было известно.
Правда, с моей стороны однажды была предпринята попытка выяснить отношения. Боря надоумил меня добиться свидания. В представлении Бори свидание являлось непременным элементом любовного романа, счастливого или несчастного – не имело значения. Я схватился за эту идею. Да, конечно, свидание! Свидание необходимо. Свидание сблизит нас и создаст между нами определенные отношения, возможно, даже любовные.
В сущности, свидание было совершенно не нужно. Я и так виделся с ней почти каждый день то на вечеринке, то у нее дома, то просто на улице по дороге в гимназию, то у Калерии.
Самое слово «свидание» обладало магическим свойством любовного сближения.
…Дождь продолжал сыпать по палатке, вода натекала откуда-то снизу, и солома промокла, свеча догорала, задушенная махорочным дымом, солдаты с шумом дулись в «железку», кидая карты по разостланному брезенту, раскаты грома соперничали со звуками отдаленной канонады, а я в сотый раз прокручивал в воображении это единственное наше свидание, на которое я возлагал большие надежды, впрочем, не оправдавшиеся, так как все равно ничего не определилось.
Устроить свидание по всем правилам оказалось делом весьма не простым, хлопотливым. Сложность его заключалась в том, что уже сам по себе факт свидания предполагал наличие взаимной любви. А так как взаимной любви – увы! – не было, то мне приходилось как-то перед самим собой выкручиваться, усыпляя совесть хитросплетениями вроде того, что еще доподлинно неизвестно, любит она или не любит, а может быть, и любит, только я этого не знаю. Но даже если не любит, то свидание в конце концов может быть вовсе и не любовное, а попросту дружеское, даже, если угодно, деловое. Может быть, у меня к ней есть дело, касающееся только ее и меня – и никого больше.
Но какое же дело? Об этом надо подумать. Вопрос трудный. Надо придумать дело, не имеющее характера любовного и в то же время отчасти все-таки как бы вроде и любовное.
Легко сказать!
Так родилось нечто шитое белыми нитками: я вызываю ее на свидание для того, чтобы решить деликатный вопрос относительно чувств ревнивого Вольдемара. Поскольку общеизвестно, что Вольдемар влюблен до безумия в Ганзю, у меня якобы явилось подозрение, что Вольдемар ревнует Ганзю ко мне, хотя эта ревность совершенно необоснованна. Однако я решил поступить благородно и больше не встречаться с Ганзей ни на вечеринках, ни на прогулках, ни у нее дома, нигде, для того чтобы не давать Вольдемару повода для ревности и страданий. Назначил же я свидание для того, чтобы откровенно объясниться и узнать мнение Ганзи на этот счет.
Я, шестнадцатилетний хитрец, ставил ловушку. Она принуждена будет сказать да или нет, то есть косвенно признаться, что любит или не любит Вольдемара. Если любит, то как бы это ни было мне тяжело, но все-таки легче,: чем неизвестность: мое сердце, несомненно, будет разбито, но, по крайней мере, я предстану перед Ганзей как благородный человек, жертвующий своим счастьем для друга. И я дам слово никогда больше не встречаться c Ганзей.
Можно ли принести большую жертву во имя подлинной печной любви?
…сумбур царил тогда в моей голове!
А если она скажет, что вовсе не любит Вольдемара, и отвергнет мою жертву, то, значит, она вовсе не собирается отказываться от встреч со мной ради ревнивого Вольдемара, которого, очень возможно, вовсе и не любит. Тогда я с чистой совестью смогу наконец произнести заветные слова: «Я вас люблю».
А нет – так нет! Буду любить Калерию.
В сущности, все дело заключалось в самом факте свидания независимо от его содержания.
Она придет ко мне на свидание. Мы будем наедине. Нас свяжет некая тайна. О большем счастье я и не думал. Остальное уже дело техники.
Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает свидание; они встречаются наедине.
Все это напоминало дуэль со всеми ее формальностями. Даже предусматривался секундант, то есть тот, кто будет передавать записки.
В этом заключалась известная трудность: кто передаст ей мою записку? Не так-то легко решался этот вопрос. Самой подходящей для этой цели, конечно, являлась ближайшая подруга Ганзи, упомянутая уже Калерия. Но, во-первых, она была сестрой Вольдемара, а во-вторых, сама была влюблена в меня, так что навязывать ей роль передаточной инстанции казалось невозможным, слишком жестоким. Однако я решился даже на эту жестокость.
– Ты, Пчелкин, просто негодяй, – сказала мне Калерия со слезами на прелестных глазах, но все-таки взяла записку и спрятала ее под нагрудником гимназического фартука.
В ней боролась любовь ко мне и любовь к подруге. Победила любовь к подруге: передача ей любовной записки считалась среди гимназисток делом священным.
Вернувшись после уроков домой, Калерия, как и следовало ожидать, увидела меня. Я шатался возле ворот.
– Ну как? – спросил я.
Поджав губы, Калерия вынула из-за нагрудника фартука и протянула мне ответ – розовую секретку в клеточку.
– Но имей в виду, Пчелкин, – сказала Калерия, глотая слезы, – я для тебя пожертвовала всем, и теперь ты для меня навсегда ноль!
В своем гневе она была прекрасна, однако нос портил все дело.
Мне было все равно. Я весь находился во власти любовного жара. Получить от девушки не что-нибудь, а именно секретку считалось уже как бы доказательством наличия романа.
Я держал в руках секретку, на которой лиловыми школьными чернилами было написано мое имя. Я открыл секретку, то есть оторвал окружающий ее заклеенный купон, и на клетчатом листке прочел следующие незабвенные слова, тщательно выведенные аккуратным почерком добросовестной школьницы-отличницы, однако уже имеющим характерные особенности почти взрослого почерка:
«Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка. Ганзя».
Я торжествовал. Полученная секретка возвышала меня в собственных глазах, превращая из безнадежно влюбленного гимназиста-второгодника в счастливого любовника. Теперь пускай все узнают, что она назначила мне свидание в Александровском парке. И пускай красавец студент с маленьким ротиком не задается! И пускай Вольдемар поет своим фальцетом, глядя на нее умоляющими глазами: «Я вновь пред тобою стою очарован…»
Теперь я уже не буду стоять перед Ганзей как бессловесное животное, а зримо, открыто и бесстрашно скажу ей в боковой аллее Александровского парка: «Я вас люблю» – или даже еще лучше: «Кажется, я вас люблю». Как украсило это магическое «кажется» банальное объяснение в любви!
«Ганзя, кажется, я вас люблю», или даже лучше немного переставить слова: «Я люблю вас, кажется, Ганзя». В таком сочетании еще больше любовной музыки.
В течение двух часов, оставшихся до свидания, я мысленно переиграл все возможные и даже невозможные варианты свидания. Я потерял голову от счастья. В то же время секретка Ганзи вызвала во мне неясные подозрения. Уж слишком содержание записки казалось сухим, деловым. Особенно настораживало упоминание о боковой аллее. Можно подумать, что Ганзя уже не первый раз назначает свидания именно в этой боковой аллее. Возможно, что для нее боковая аллея являлась привычным местом любовных свиданий и встреча со мной вовсе не была исключением. А я так наивно воображал, что это первое ее свидание.
Первое свидание. Первая любовь. Первая аллея. Все должно быть первым. А иначе какой же смысл в свидании?
Но все эти сомнения рассеялись, в то время как я шагал по Французскому бульвару в направлении к Александровскому парку, боясь опоздать, а еще более опасаясь явиться слишком рано.
На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре, когда я, перейдя пустырь с деревянными остатками велосипедного трека, так называемого циклодрома, вступил в боковую аллею Александровского парка, в глубине которого между черных стволов обнаженных деревьев просматривалась Александровская колонна, сооруженная в память пребывания в городе царя-освободителя, собственноручно посадившего здесь дубок, который уже превратился в большое ветвистое дерево. А дальше – море.
На всю жизнь в моей памяти осталась боковая аллея. С годами память ослабела, но вид боковой аллеи держался крепко, разве только исчезали детали, которые, впрочем, только засоряли пейзаж ненужными мелочами.
Хорошая память – фотография. Плохая – живопись.
В конце своей жизни я видел боковую аллею как рисунок углем.
В палатке на румынском фронте моя память была еще безукоризненно свежа, и я видел боковую аллею со всеми подробностями только что спиленных черных веток, еще не убранных с дорожки, покрытой влажным морским гравием, хрустевшим под ногами, как рассыпанная карамель.
Я видел лестницу, прислоненную к стволу дерева, и городского садовника в зеленой форменной фуражке, который спиливал ножовкой ненужную ветку. Опилки сыпались из-под пилы, и свежесрезанный торец ярко желтел.
Теперь я уже не помню, в какое время года обрезают в парке деревья – ранней весной или поздней осенью. Но я помню, что тогда обрезали деревья. Значит, свидание было или ранней весной, или поздней осенью, когда листья уже облетели. Во всяком случае, во всю длинную перспективу боковой аллеи чернели стволы голых деревьев – австралийской разновидности робинии, но только с длинными острыми шипами и перекрученными ремешками стручков с выпуклостями созревших внутри семян. Все-таки, значит, была поздняя осень, октябрь или даже ноябрь, но погода стояла теплая, и я шел налегке, без шинели. От волнения я даже немного вспотел и расстегнул верхний крючок куртки, так что из-под суконного воротника виделась на моей худой, еще почти детской шее цепочка нательного киевского крестика с ладанкой от скарлатины.
Короткий день клонился к вечеру, но было еще светло и воздух печально пахнул опавшей листвой. Безлюдье и тишина обширного парка с полоской моря показались мне оглушающими. Меня терзало сомнение – придет она или не придет? Если она придет, то это будет слишком большим счастьем. Пусть она даже опоздает, я готов ждать ее до темноты, когда зажгут газовые фонари.
Я несмело посмотрел вдоль аллеи и не поверил своим глазам: маленькая знакомая фигурка шла издалека мне навстречу. Она была тоже без пальто, в гимназической форме, в будничном черном переднике, без шляпы, с открытой головкой и волосами, убранными в виде коронки, но с челочкой на лбу, что по гимназическим правилам запрещалось. Значит, она уже успела сбегать домой, оставить там книгоноску и шляпу, наскоро пообедать, перечесаться, наслюнить и напустить челку на лоб, но не переоделась – и без опоздания явилась на место встречи.
Она неторопливо приближалась, но мне все еще не верилось, что все это происходит не во сне, а наяву. Но нет, только наяву у девочки могли быть запачканы чернилами пальчики и в углу прелестного, несколько растянутого рта виднеться засохшая заеда – след недавно съеденного арбуза. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Выражение ее лица было будничным, как и весь ее вид.
Она не высказала ни малейшего удивления по поводу этого неожиданного свидания, как будто бы так оно и должно было быть. Она подошла ко мне, и мы молчаливо пошли по аллее – я смущенный, а она как ни в чем не бывало.
Вот наконец я с нею наедине!
Теперь бы мне и произнести приготовленную фразу. «Кажется, я вас люблю, Ганзя». Но вместо этого я начал с весьма многозначительным видом молоть вздор, еще накануне казавшийся мне весьма тонким и хитрым, насчет ревнивого Вольдемара, для спокойствия которого я готов пожертвовать собой и перестать ходить в гости к Ганзе, а также вообще перестать с ней встречаться, и хотел бы знать ее мнение по этому поводу.
Хитрец, я думал, что действую наверняка.
Выслушав мою горячую чепуху, она дернула худеньким, еще почти совсем детским плечиком и сказала:
– Вот еще! С какой стати? Я вовсе не хочу из-за кого бы то ни было терять знакомых.
На этом свидание так и закончилось ничем.
Я проводил ее домой, по дороге мы болтали о том о сем, об учителях, о знакомых, и все осталось по-старому, кроме некоторого моего удовлетворения тем, что как бы то ни было, а свидание состоялось, на всю жизнь оставив в моей памяти неизгладимый след.
…Затяжной дождь продолжал шуметь по палатке. Ворчал гром. Издали доносились орудийные выстрелы. Солдаты, лежа на мокрой соломе, дулись в «железку».
Я продолжал думать о Ганзе. На этот раз прилив любви был так силен и продолжителен, что ни о чем другом я уже не мог думать.
В памяти беспорядочно возникали картины того счастливого времени, которое я не успел оценить.
…отрывки из моего юношеского романа, написанного еще не устоявшимся полудетским почерком:
«– Разве вы не зайдете к нам? – спрашивает она. – Напьетесь чаю.
Она пошла вперед, повернула направо в парадный ход и стала быстро, не оборачиваясь, подниматься по лестнице, легко перебирая рукой по перилам. Я шел за ней, печально опустив голову.
Подобно тому как все человеческие лица делятся по своему характеру на женственные и мужественные, сказать вернее, на отцовские и материнские, так и все квартиры, в моих глазах делились как бы на женские и мужские.
Женские квартиры, которых меньшинство, отличались уютностью, большим количеством материй, подушек, мягкой мебели, приглушенным светом ламп, старообразными абажурами и каким-то особым будуарным запахом.
Мужские квартиры, которых большинство, всегда чистые, просторные, светлые, сильно освещенные лампами, с прочными удобными столами, твердыми стульями и сизым запахом табачной золы, таящейся в перламутровых недрах тропических раковин, заменяющих пепельницы. К этому запаху примешивается запах натертого мастикой паркета и твердой полированной мебели.
Квартира ее родителей имела явно выраженный тип квартиры мужской. В ней было все определенно, просто, от голубого фонаря, висящего на жиденьких цепях в прихожей, до больших, но плохо написанных масляными красками картин в духе Айвазовского и Шишкина. Картины в довольно толстых золоченых рамах висели в холодной гостиной и не доставляли глазу никакой радости.
Когда мы вместе с Ганзей явились, в столовой уже пили чай. За столом сидела вся семья, кроме отца, который только что встал из-за стола и шел, поскрипывая ботинками, за папиросами, собираясь ехать в клуб. В зеркале мелькнула его стриженная под бобрик голова. Кроме матери и брата, застенчивого тринадцатилетнего гимназиста Васи, за столом сидели еще бабушка в черной кружевной наколке на серебряной голове и глухая девушка в красной турецкой феске.







