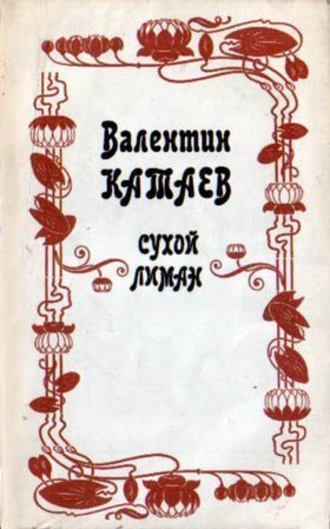
Валентин Катаев
Юношеский роман
«Разбой» по-румынски значит война. А «бун» значит хорошо.
– О, бун! Бун! Трансильвания бун! – кричат нам снизу лодочники-румыны.
Стало быть, дела идут хорошо, наступаем в Трансильвании.
А что оно такое, эта самая Трансильвания, вряд ли кто-нибудь из наших солдатиков знает.
Вообще мало кто понимает, зачем воюют, с кем воюют, для чего и кому это надо.
Изредка мимо нас вниз по течению пробегают сербские пароходики. Мы приветствуем их громкими криками. Сербы – это понятно. Братушки. Братья-славяне».
Ночью мне не спалось. В тысячный раз мучил вопрос, что же такое у меня произошло или даже и сейчас продолжает происходить с Ганзей Траян?
Как все это началось, было ясно. Началось с фиалок. Ну а потом? Потом в свое время наступила осень, желтые листья, ранние сумерки и все та же тесная компания, состоящая из гимназисток, гимназистов и даже одного студента-первокурсника. Компания эта – «наша компания» – кочевала во второй половине дня после уроков по опустевшим приморским дачам с заколоченными ставнями, с мусором на открытых террасах, по обрывам. Мы стояли тесной кучкой по колено в бурьяне, очарованные картиной черноморского шторма.
Норд-ост, срывающий шляпки и фуражки, подбивающий под колени полы серых гимназических, уже зимних шинелей, треплющий подолы зеленых гимназических юбок, несущий в лицо вихри пыли и морские брызги, колючки репейника, пушинки чертополоха.
Прибрежные скалы наполняли воздух бронзовым звоном прибоя.
Маленькая Ганзя Траян казалась совсем незаметной среди этой тесной компании, где каждый и каждая на свой лад переживали красоту шторма: кто с восторгом только что обнаруженной страсти, кто с отчаянием ревности, кто предчувствуя приближение первой любви, кто подозревая измену, кто предвкушая свидание. Студент-первокурсник, раскинув руки с новенькими крахмальными манжетами – поэт, – со слезами на глазах кричал против ветра: «Какой простор! Какой простор!» – вспоминая таинственную картину Репина: офицер и курсистка, взявшись за руки, идут прямо в открытое бушующее серо-зеленое море и уже были по колено в прибое – она размахивая муфтой, – что воспринималось как намек на некое освободительное движение.
Кто-то кому-то жал розовые озябшие ручки.
А одна хорошенькая пятиклассница-вакханка с пылающим от ветра личиком кричала, хохоча:
– Мой идеал – кружиться в вихре вальса!
Конечно, Вольдемар не отходил от Ганзи, как телохранитель, готовый убить каждого, кто покусится до нее дотронуться. Калерия щипала и выкручивала мне руку, а у самой от сора, принесенного бурей, покраснели глаза и слезинки текли по крыльям носа.
Быстро темнело, и казалось, что эту темноту несли с собой бурые облака, низко мчавшиеся над взмыленным морем.
Всем своим видом я изображал презрение к красоте шторма, в то время как сердце у меня ныло от отчаяния, и только одна Ганзя, отворачиваясь и морщась от ветра, как бы находилась по ту сторону человеческих страстей, во всяком случае, так мне казалось.
Чем же это в конце концов разрешилось? Что было потом? А ничего. Компания разошлась по домам, и только…
«Наконец баржи прибыли к месту назначения, в город Черновода. Типичный захолустный городишко восточного типа. Беленький. Пара минаретов. Это уже заграница. Румыния. Здесь через Дунай протянулся длинный ажурный железнодорожный мост вполне европейского вида.
Утро немного туманное, перламутровое, на фоне молочно-голубой реки и лиловатого неба тяжело и черно рисуются наши канонерки, идущие одна за другой куда-то вверх по Дунаю. Зловещие призраки войны и смерти. Нехорошие предчувствия.
Пристани запружены народом и войсками. Пока разгружаются баржи, прибывшие еще до нас, мы обречены на томительное ожидание высадки. С берега доносятся воинственные звуки военного оркестра: румыны приветствуют наши прибывшие войска.
Но вот я уже на берегу вместе со своей поклажей и мешком муки, будь он трижды…
Шумные улицы. Пахнет кофе, бараниной и еще чем-то пряным. Пестрят одеяния молдаван, красные фески, яркие ткани торговок. Продаются с лотков восточные сладости. Все кофейни заполнены румынскими солдатами и офицерами. На нас, русских, они смотрят с любопытством. Задают какие-то вопросы. Но так как ни мы по-румынски, ни они по-русски ни черта не понимаем, то можно только догадываться, о чем идет речь, по отдельным словам: «Галиция», «Трансильвания», «бун», «карашо», «бум-бум», «Германия – бах!» и т. д.
Ну все ясно!
Мы им отвечаем такими же воинственными междометиями и отрывистыми географическими названиями:
– Карпаты. Буковина. Бах-бах!
Вход в кофейни румынским нижним чинам не запрещен, и можно наблюдать группы наших и румынских солдат, сидящих за маленькими чашечками черного турецкого кофе, к которому подается стакан свежей воды и блюдечко с ягодкой вишневого варенья. Союзники обмениваются между собой мнениями по поводу военных событий при помощи жестов, восклицаний, многозначительных подмигиваний.
Столик, за которым я пишу Вам это послание, стоит на площади перед кофейней. Площадь усеяна сеном, соломой, конским навозом. Над входом в кофейню водружен румынский флаг. На маленьком блюдечке одна-единственная вишенка и стакан холодной воды – «апа фреска», – в которой отражается утреннее солнце.
Сейчас пойду искать вокзал, откуда поеду уже поездом на запад, на позиции. Что-то у меня дурные предчувствия. Ах, если бы Вы знали, как тягостно приближаться к роковой черте передовой линии… Не забывайте же меня. Скоро напишу. А мешок с мукой тащу с собой повсюду, не беспокойтесь, доставлю по назначению. Пускай Ваш батюшка побалуется русскими блинами и пышками. Ваш А. П.
А за некоторый мой неловкий поступок на даче Валь-туха великодушно простите. Больше не буду. А.».
Следующее письмо:
«29 августа 916 г. Румынский фронт. Южная Добруджа. Город Меджидие, куда довез меня из Черновод пассажирский поезд, медленный, как черепаха. Однако вагоны на европейский лад: из каждого купе дверь прямо наружу, на перрон. Вагон по-ихнему называется каруцца, что вполне соответствует скрипу, издаваемому им во время движения.
В каруцце, куда я попал вместе с мешком муки, едут вполне мирные румынские обыватели в соломенных и фетровых шляпах и в парусиновых туфлях.
Мое появление в вагоне вызвало нечто вроде сенсации. Еще бы: живой русский воин в полной походной форме, даже со шпорами. Немного, конечно, портил впечатление мешок муки. Но, может быть, румыны подумали, что в мешке динамит. А вообще они приняли меня за офицера и оказывали все виды самого изысканного внимания: угощали початками вареной кукурузы, называемой у них папушой, свежей брынзой, помидорами и даже отличным виноградом.
Ну, конечно, разговор о войне. На каком языке? Вообразите, что мне пригодился французский, по которому я в гимназии не вылезал из двоек. Но кое-что в памяти застряло. Так что незаконченное среднее образование пригодилось.
Мирные румынские пассажиры весьма воинственно настроены и готовы совместно с доблестной русской армией поколотить не только немцев, но главным образом своих соседей – болгар и венгров, с которыми у них, оказывается, какие-то застарелые территориальные счеты.
Почти у всех пассажиров в руках газета «Адеверуль», где помещается большое количество военных сводок и патриотических корреспонденций. Среди пассажиров обращает на себя внимание одна довольно смазливенькая русинка из Черновод в голубом кружевном платье, с голубой вуалью на голове, полузакрывающей белобрысое личико с голубыми глазками. Она с нескрываемым обожанием смотрит на меня, на мою выгоревшую гимнастерку, на мои шпоры, на пушечки на моих боевых погонах с бомбардирской лычкой, все время на странном полурусском языке благословляет меня на ратные подвиги и беспрерывно крестит меня своей худенькой ручкой, как бы желая сохранить мою жизнь.
Но, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь… Это чисто патриотические порывы таинственной славянской души хорошенькой и очень молоденькой белобрысенькой русинки.
Но так или иначе, румынская каруцца наконец с божьей помощью дотащила меня до Меджидие. Это маленький южно-добруджский городок совершенно турецкого типа: базар, шашлыки, небольшие белые мечети с низенькими минаретами.
В одной из мечетей я обнаружил ящики с имуществом нашей бригадной канцелярии, над распаковкой которых трудились знакомые мне писаря. Оказалось, что все батареи уже ушли вперед, и мне указали маршрут, по которому я должен их догонять. С облегчением оставив в канцелярии изрядно надоевшие посылки и особенно тягостный мешок с мукой, я пустился в путь, пристроившись к какому-то обозу с патронами. В обозе уже работал солдатский телеграф, сообщая, что наш экспедиционный корпус, называемый теперь румынским фронтом, придвинулся вплотную к болгарской границе, а кое-где даже и перешел ее, так что с наших наблюдательных пунктов в стереотрубу кто-то из наблюдателей видел болгарский город Базарджик. Но это сомнительно. До Базарджика еще очень далеко: обычные преувеличения разведчиков-наблюдателей. А пока что, сидя на обозной повозке, я приближался к своей батарее, расположенной где-то в степной балке.
Вокруг ни одного деревца. Ровная сухая степь, милая моему сердцу. Вдруг послышался зловещий треск авиационных моторов. Обозные лошади, задрав оглобли, шарахнулись в сторону. Над нами пронеслась эскадрилья немецких самолетов с черными крестами на крыльях. Самолеты пронеслись так низко, что можно было рассмотреть фигурки авиаторов в кожаных шлемах и очках, что делало их похожими на каких-то опасных насекомых. Я спрыгнул с повозки, бросился в степь и лег на жнивье, закрыв голову руками, как будто это могло меня спасти. Все обозные сделали то же самое. Однако немецкие самолеты пронеслись мимо и скрылись за горизонтом, не заметив нас. Как говорится, на этот раз я опять отделался легким испугом.
Может быть, меня охранило крестное знамение, сделанное маленькой ручкой белобрысой русинки?
Однако когда я прибыл на место назначения, выяснилось, что утром эскадрилья немецких аэропланов сделала налет на наше расположение, обстреляв из пулеметов несколько батарей резерва, и сбросила до сорока бомб. Только благодаря счастливой случайности лошади в это время были на водопое за восемь верст, а то всех бы их покалечило. Впрочем, налет не причинил нам никакого вреда.
Наши авиаторы, конечно, поспешили отдать неприятелю визит вежливости и в обед вернулись обратно, принеся известие, что в ближайших тыловых деревнях противника замечено накапливание крупных сил. Немедленно же пехотой была произведена разведка, установившая смену неприятельских полков и прибытие приблизительно двух свежих дивизий – турецкой и немецкой. Серьезного наступления противника не ждем, но все-таки приняли меры предосторожности: подтянули резервы, выставили заставы, а наша артиллерия выслала на наблюдательные пункты кроме обычных наблюдателей-солдат также и офицеров.
Меня с места в карьер назначили телефонистом, и я спешно заканчиваю письмо, так как приходится взваливать на спину телефонные катушки и тянуть провод на наблюдательный пункт, так что пока до свидания. Не забывайте. Ваш А. П.
P. S. Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за неразумный поступок на даче Вальтуха. Я заметил, что у Вас очень горячие руки. Не больны ли Вы? Берегите себя. Ведь у Вас слабые легкие. А.».
«29 августа 916 г. Южная Добруджа. Дорогая Миньона, кажется, я Вам уже писал, что здесь города восточного типа. Пыль, жара, запах кофе и жареной баранины. Ни один черт по-русски не говорит. Ужас! Жалованье нам выдают румынскими бумажными леями. В данный момент мы стоим на позиции возле самой болгарской границы. Население – болгары, которые иногда постреливают в нас из-за угла.
Солдатский телеграф сообщает, что надо быть осторожным, так как некоторые колодцы отравлены. Уже были случаи. Почти все население бежало. Но в одной брошенной деревне я видел старуху всю в черном, страшную, похожую на сушеную грушу. Она смотрела с ненавистью нам вслед и посылала проклятья на своем непонятном языке. Такая старуха может и колодец отравить.
Вокруг от горизонта до горизонта голая степь и больше ничего. Что-то в этом есть древнее, может быть, даже скифское, сарматское. Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах под палящим августовским солнцем, со страхом озираясь по сторонам.
Наша артиллерийская бригада, оставившая свою пехоту под Сморгонью, теперь придана сербским бригадам.
Сербы дерутся как львы! Сербские душки офицеры в своих красных бархатных шапочках, которые так пленяли одесских барышень, оказались на поле боя настоящими храбрецами, оправдали доверие прекрасного пола: пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!
Пишу, примостившись на каком-то ящике. Были эффектные бои и стычки с болгарской кавалерией. Подробности скоро, а сейчас не до писем. Ваш Пчелкин».
Это было, кажется, последнее более или менее регулярное письмо. Армия все время находилась в движении. Полевая почта работала плохо. Письма и посылки часто пропадали, не находя адресата.
Теперь, вспоминая об этом времени, я с Трудом восстанавливаю последовательность событий, менявшихся с поразительной быстротой, так же, как менялось мое душевное состояние. Из мальчишки, юноши я медленно превращался в молодого человека.
Под Сморгонью я прослужил почти полгода. Нельзя сказать, чтобы боевые действия там были менее опасны, чем теперь, в Добрудже. Но под Сморгонью велась война окопная, позиционная, и боевые действия имели (если так позволительно сказать) более упорядоченный характер, так что образовался некий быт, привязанный к одному определенному месту: лесному массиву возле разбитого снарядами небольшого белорусского города.
Воинские части укрывались в хвойных густых лесах, солдаты жили в надежных блиндажах и глубоких землянках, покрытых в три, а то и в четыре наката толстыми сосновыми бревнами, почтовая связь с тылом действовала довольно быстро, надежно. А красота северной природы, знакомая мне только по картинкам, рассказам отца и по «Временам года» Чайковского, так сильно поразила мою душу, и без того потрясенную первой мальчишеской любовью, что я долго не мог очнуться.
Однако очнулся, привык, и мне уже стала в тягость позиционная война.
«…и как бы ни любил я вас, привыкнув, разлюблю тотчас…»
Я даже привык к тому, к чему, казалось бы, невозможно привыкнуть: к постоянному страху смерти. Чувство самосохранения приучило меня мгновенно разбираться во всех звуках прифронтовой полосы, которые безошибочно определялись как безопасные и опасные. Я научился совершенно точно угадывать отдаленный, еще очень слабый звук неприятельского орудийного выстрела и потом улавливать приближающийся свист немецкого снаряда, заранее и безошибочно определяя перелет, недолет или точное попадание, что давало возможность своевременно броситься в блиндаж или, равнодушно посмеиваясь, следить за невидимой траекторией перелета, сверлящей воздух над головой, заканчивающейся тупым ударом в землю и безопасным взрывом, протянувшим издали во все стороны звенящие струны осколков – тоже безопасных, если вовремя лечь на землю.
Своевременно приходили письма и посылки. Своевременно по расписанию приезжала на позицию походная кухня с обедом и ужином. Своевременно укладывались спать на земляные нары, покрытые пахучим ельником, в глубоком блиндаже под тремя накатами, и почти каждую ночь меня будили странные сухие, скрежещущие звуки! Это во сне скрежетал зубами немец-колонист Веварт, которого мучили глисты, и этот звук был похож на то, будто кто-то ходил в сапогах по скрипучему морозному снегу.
Не хватало воздуху.
Спящие солдаты громко бредили во сне. Распространялся тяжелый запах, тогда кто-нибудь просыпался и сердито бормотал:
– А ну кто тут пускает шептуна?
А вокруг была все та же ставшая уже привычной несказанно прекрасная русская природа, и неподвижно виднелся на горизонте полуразрушенный костел, среди развалин которого валялось деревянное распятие.
Позиционная жизнь надоела мне, так же как некогда, совсем недавно, еще в мирное время, жарким, пыльным июльским днем надоела мне длинная улица с угрюмой гранитной мостовой и тягостно блестящими трамвайными рельсами, где на неотразимо скучном полуденном солнце в бесконечных витринах выгорала галантерея, одуревший от тоски, от неразделенной любви, от переэкзаменовок, я проклинал мирное время и желал войны.
Мое желание исполнилось как по волшебству. А теперь мне наскучила позиционная война, благонамеренная переписка с генеральской дочкой, фронтовые будни, и я пожелал какой-то другой войны, более романтической, войны полевой, с быстрыми передвижениями, внезапными атаками и контратаками, фланговыми охватами, окружениями, взятиями городов, с биваками под открытым небом и всем тем, что казалось таким прекрасным.
Судьба, которая почему-то никогда не отказывала мне в исполнении самых глупых, самых безрассудных желаний, и на этот раз пошла мне навстречу, подарила мне самую что ни на есть полевую войну.
Меня зовут Александр Сергеевич Пчелкин. Я старик. Даже старик глубокий. Сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, я прочел у одного известного писателя следующее любопытное место:
«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле».
Если так, то почему бы мне не говорить о себе? Вот я и говорю, рассказываю кое-что из своей молодости, перечитываю старые письма, кусочки дневника.
«3 сентября 916 года. Южная Добруджа. Действующая армия. Дорогая Миньона! Можете меня поздравить. Только что мне присвоено звание младшего фейерверкера, то есть нашита на погоны вторая лычка, неуклюжий бебут заменен шашкой – впрочем, не менее неуклюжей, – шпоры я уже ношу на законном основании, как имеющий право на верховую лошадь из конского состава, которую мне также присвоили приказом Пятой батареи, где я числюсь уже не в качестве орудийного номера, а телефонистом-наблюдателем, о чем я всегда так мечтал.
Теперь мне до прапорщика один шаг.
Пишу Вам наскоро в турецкой деревушке, покинутой жителями, где остановился на отдых наш взвод телефонистов и конных разведчиков.
Подобные турецкие деревушки, кое-где еще сохранившиеся в Добрудже, – всего лишь жалкие остатки некогда блистательной Порты, в течение многих лет, а может быть, даже веков властвовавшей здесь над сербскими, болгарскими и румынскими землями, владевшей почти всем Черным морем.
Вокруг плоская равнина, местами совсем дикая, а местами возделанная под пашни, огороды и фруктовые сады. Хлеб давно уже убран, и у нас под ногами колючее жнивье, успевшее зарасти ежевикой – спелой, черной, удивительно вкусной, сладкой.
Особенно отличаются наши лихие конные разведчики, способные в одну минуту изловить брошенного хозяевами большого белоснежного гуся с оранжевым клювом.
Как он ни старался убежать, как ни размахивал своими могучими сизыми крыльями, как ни гоготал отчаянно на всю степь, можно сказать, на весь румынский фронт, как ни отбивался, как ни щипался и шипел, многоопытные разведчики быстро его скрутили, отрубили ему шашкой голову, грубо ощипали, разрубили на куски, сунули в ведро, посолили крупной солью и сварили на костре вместе с остатками перьев и красными перепончатыми лапами. Мне тоже достался квадратный кусок с толстой пупыристой кожей. Хотя мясо оказалось не вполне доваренным, жестким, я смолотил его с громадным удовольствием, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра и заедая гусятину ежевикой.
Должен сознаться, что я тоже немного помародерствовал – пошел шарить по жалким турецким мазанкам с плоскими крышами и в одной из них в плетеном, мазанном глиной чулане нашел персиковую пастилу, полупрозрачную, темно-зеленую, скатанную в длинный рулон, как линолеум. При виде этого восточного лакомства у меня потекли слюнки. Я оторвал кусочек и осторожно лизнул. Вкуснота неописуемая! Однако, помня об отравленных колодцах, воздержался от дальнейшего.
Впрочем, не думаю, чтобы персиковая вяленая на солнце пастила была отравлена и нарочно оставлена для нас. Ведь гусь-то не был отравлен! Теперь мне до слез жалко, что я не поел восточного лакомства.
Никого из Ваших еще не видел. Армия находится в постоянном движении. Воинские части перемешались. Полный бедлам.
Письмо это пошлю Вам, как только найду полевую почту. А пока прощайте, пора двигаться дальше. Подтягиваю подпругу и сажусь в седло. То есть сейчас сяду. Возможно, уже к вечеру придется тянуть телефонный провод на самую что ни на есть передовую, в пехотную цепь, а это довольно щекотливое занятие, особенно если по тебе в это время стреляют. Ваш мародер А. П.».
Предчувствие не обмануло меня. То, что я написал для красного словца, желая покрасоваться, обернулось истинной правдой. На следующее же утро я был назначен в наряд на дежурство в седьмую роту поддерживать связь пехоты с артиллерией.
Дежурство в седьмой роте пользовалось дурной славой. В течение предыдущих двух суток на наблюдательном пункте в седьмой роте был убит один наблюдатель и ранены пулями два телефониста. Все трое артиллеристы.
Получив приказание идти на дежурство в седьмую роту, я похолодел, но сделал вид, что даже рад такому серьезному боевому заданию, и лихо козырнул мало мне знакомому подпоручику, начальнику команды телефонистов-наблюдателей.
После того как меня произвели в младшие фейерверкеры, меня посылали в самые опасные места, проверяли мои боевые качества: гожусь ли я в офицеры?
Со мною в роковую седьмую роту отправились наблюдатель и еще один телефонист с запасной катушкой черного кабеля за спиной и эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре. Дежурство начиналось с наступлением вечерней темноты.
Пройдя впотьмах версты полторы по неубранному кукурузному полю, задевая сухие стебли и шуршащие листья, сказавши вполголоса пароль пехотному часовому, появившемуся во тьме, мы все трое спрыгнули в траншею и пошли гуськом по глубокому ходу сообщения к артиллерийскому наблюдательному пункту, где, сидя, как в могиле, нас с нетерпением ждали наблюдатель и два телефониста, которых мы пришли сменить.
– Как дела?
– Как сажа бела.
– Спокойно?
– Пока что.
– А что?
– Разведка доносит, что у них смена полков. Пришли две новые дивизии: одна немецкая, другая турецкая.
– Вот это номер! А турки как – в своих фесках?
– В фесках, да только не в красных, а в защитного цвета.
– Смотри ты: турки, турки, а тоже понимают.
– Вместо «ура» у них полагается кричать «алла».
– Идут в атаку на «алла»?
– Пока молчат.
Весь этот разговор шел шепотом.
Мне вспомнились две консервные банки с тушеной говядиной на троих и паек хлеба, но не русского житного, а белого пшеничного румынского – несвежего, залежавшегося на складе, с бирюзовой плесенью в разломе, но все же довольно вкусного.
Кипяточком мы разжились у пехотинцев, а заварка и сахар были свои.
Обычное предчувствие неминуемой смерти именно сегодня продолжало томить меня.
Сидя на земле, я придвинул к себе телефонный аппарат и несколько раз проверил связь. Я позуммерил и поговорил с телефонистом, дежурившим на батарее. Звук телефонного зуммера напоминал утиное кряканье. Кроме голоса дежурного телефониста в кожаной телефонной трубке слышалось множество незнакомых и даже иногда не вполне понятных микроскопических голосов, принесенных по телефонной сети из разных, даже самых отдаленных участков фронта, как бы представляя тончайший звуковой чертеж театра военных действий. Иногда прослушивались писклявые позывные немецких телефонов и немецкая речь, как будто бы набранная мельчайшим звуковым готическим шрифтом. Значит, где-то случайно русские провода пересеклись с немецкими.
Прислушиваясь к ним, можно было составить некоторое представление о зловещем передвижении и накоплении войск Макензена, готовящихся к внезапному наступлению по всему фронту.
Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе затерявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звезду, даже, собственно, не звезду, а звездочку.
У неприятеля было тихо, и это еще более усиливало тревогу.
Ротный командир не спал, готовый ко всяким случайностям. Видно, его тоже томила тревога, тайное предчувствие смерти. Плохо различаемый в потемках, он ходил взад-вперед по узкому глубокому окопу, на дне которого в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках спали солдаты его роты, положив под голову вещевые мешки и сами похожие на эти вещевые мешки.
Позади на фоне звездного неба маячили фигуры часовых, торчали их винтовки с примкнутыми штыками. Видно, их тоже томило предчувствие верной смерти.
Я вздремнул, но в полночь меня разбудил осторожный шум. Сменялись секреты. Пришедшие из разведки солдаты донесли, что неприятель работает над возведением проволочных заграждений: вбивает колья и ставит рогатки.
Действительно, в ночной тишине слышался отдаленный стук деревянных молотков.
Это немного успокоило: перед наступлением никто не стал бы ставить заграждения. Очевидно, Макензен готовился к обороне. Или, во всяком случае, выжидал нашего наступления. А может быть, это была всего лишь военная хитрость – усыпить наше внимание?
Под утро, угревшись под шинелью с расстегнутым хлястиком как под одеялом, я заснул, и мне в первый раз в жизни приснилась Ганзя. Я ее не видел. Она лишь как бы незримо присутствовала – бесплотная, неуловимая, может быть, даже несуществующая.
В этом сне не было событий. Было только одно чувство печали и неизбежной смерти. Я часто видел этот сон без событий, но только без присутствия Ганзи. Такой сон всегда предвещал начало прилива старой любви.
Я проснулся на рассвете. Меня разбудила неприятельская граната, резанувшая воздух над траншеей и разорвавшаяся далеко позади, сделав перелет.
Наблюдатель уже стоял у бруствера, прильнув к своей двурогой стереотрубе, и вглядывался в голубоватый предутренний сентябрьский туман. Слышалось учащенное утиное кряканье эриксоновского телефона, вселявшее тревогу. В небе над всей изломанной линией наших окопов белели дымки неприятельской шрапнели. Звуки ее разрывов сливались с беспорядочным ружейным треском, становящимся с каждым мигом все гуще, компактнее, тревожнее.
Против боевого участка шестой роты, расположенной рядом с нами, несколько неприятельских мортирных и гаубичных батарей открыли ураганный навесной огонь, и яма, в которой, съежившись, сидел я со своим телефонным аппаратом, тряслась, осыпаясь и трескаясь. Один или два тяжелых снаряда разорвались совсем близко. На голову и за шиворот посыпалась земля.
Ясно: немцы нас обманули и сейчас пойдут в атаку. Закрякал мой «эриксон». С батареи приказ: не отнимать телефонную трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.
Из своей норы выполз ротный командир: показавшийся мне ночью неуклюжим и пожилым, на самом деле при утреннем свете это был молоденький поручик в зеленых наплечных ремнях, со свистком в чехольчике на груди.
– Рота, в ружье! – закричал он петушиным мальчишеским голосом. – Сейчас, ребята, пойдем вперед! Будем передовой заставой!
Из тумана появился солдат и, перевалившись через бруствер, упал на дно траншеи. Это был связной из секрета. '
– Ну что там? – строго спросил его поручик.
– Пока ничего, ваше высокоблагородие. Видать, герман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает.
Артиллерийский огонь усилился.
Соседнюю роту вывели в ход сообщения, потому что находиться в окопах не стало никакой возможности.
Наступила тишина. Зловещая пауза.
Туман рассеялся. Наблюдатель уже стал кое-что видеть более отчетливо. Он обернулся ко мне и сказал:
– Передайте на батарею, что правее цели номер три показались неприятельские цепи.
Очевидно, эти цепи были замечены и с других наблюдательных пунктов, потому что до того времени наша безмолвная артиллерия вдруг открыла по всей линии беглый огонь.
Немцы яростно отвечали.
Каждый миг в узкую щель нашего окопа мог влететь шальной снаряд и разорваться, превратив меня в клочья, в ничто. Никогда еще не испытывал я такого животного, безумного ужаса, как в то утро после нежного, безысходно-грустного любовного сна, так грубо прерванного.
Помню, что вместе со страхом смерти я испытывал необъяснимое чувство своей личной вины за все то, что совершается не только непосредственно вокруг меня, но также и во всем мире, охваченном пожаром всеобщей войны, всеобщего истребления людьми друг друга, хотя ни один из миллионов этих людей не хочет войны. Даже наверное, злая воля управляла человечеством. Кто был виновником? Неужели это был я сам?
Вместе с тем я испытывал жалость к себе, к своей погибшей молодости.
Но все это таилось в глубине моей души, а внешне я полулежал на дне траншеи, одной рукой обняв кожаный футляр телефонного аппарата, а другой изо всех сил прижав к уху слуховую трубку, и подавал каким-то несвойственным мне механическим голосом команды, которые сообщал мне наблюдатель:
– По цели номер восемь! Прицел сто двадцать, трубка сто пятнадцать, шрапнелью, два патрона беглых!
Все остальное вспоминалось теперь как бред: выползающие из своих земляных нор пехотинцы с вещевыми мешками за спиной, с саперными короткими лопатами, с котелками, прицепленными к поясам, отягощенным патронными сумками и противогазами, в касках, которые недавно появились в русской армии, с винтовками с примкнутыми штыками в черных, как картошка, руках.
Многие крестились.
Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.
Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, подсаженный сзади солдатами, перевалился через бруствер ротный командир, отчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты – некоторые бородатые, а большинство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора – и становились полупрозрачными.
Окоп зловеще опустел.
…со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.
Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.
Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.
Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издалека долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:







