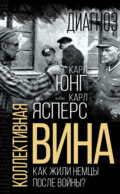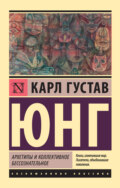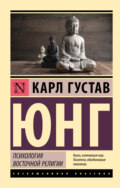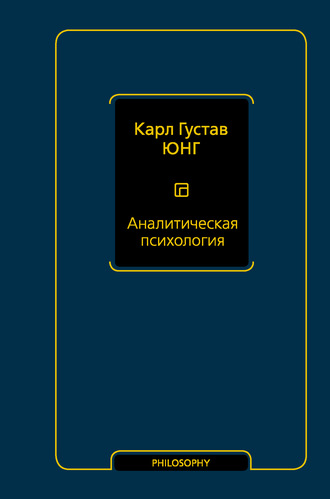
Карл Густав Юнг
Аналитическая психология
80 Как я уже упоминал, существует много высших принципов как в жизни, так и в философии, и, следовательно, столь же много различных форм компенсации противоположностями. Выше я выделил два, как мне кажется, главных типа противоположностей, которые я обозначил как интровертный и экстравертный. Уже Уильям Джеймс[41] отмечал существование обоих этих типов среди мыслителей. В частности, он различал «мягкий» и «твердый» характеры. Оствальд[42] обнаружил аналогичное разделение на «классический» и «романтический» типы среди ученых. Таким образом, я отнюдь не одинок в своих представлениях о типах, даже если упомянуть только эти два хорошо известных имени. Исторические изыскания показали, что немало великих духовных споров коренятся в противоположности данных двух типов. Наиболее значимый случай такого рода – противостояние номинализма и реализма. Это противостояние, начавшись с разногласий между платоновской и мегарской школами, было унаследовано схоластической философией. В своем «концептуализме»[43] Абеляр по крайней мере попытался объединить две противоположные точки зрения. Этот спор продолжается по сей день, проявляясь в противопоставлении идеализма и материализма. Опять-таки, не только человеческий разум вообще, но и каждый индивид участвует в данном противопоставлении типов. Более тщательное исследование показало, что представители обоих типов склонны вступать в брак со своими противоположностями, при этом один бессознательно дополняет другого. Рефлексивная природа интроверта заставляет его всегда думать и размышлять перед тем, как действовать. Это, естественно, обусловливает его относительную медлительность. Его стеснительность и недоверие к вещам порождают нерешительность; как следствие, он с трудом приспосабливается к внешнему миру. Экстраверт, напротив, относится к вещам положительно. Они его, так сказать, привлекают. Новые незнакомые ситуации очаровывают его. Чтобы поближе познакомиться с неизвестным, он буквально прыгает в него обеими ногами. Как правило, он сначала действует и только потом думает. По этой причине он быстро принимает решения и не склонен к опасениям и колебаниям. Таким образом, два типа кажутся созданными для симбиоза. Один занимается размышлениями, другой берет на себя инициативу и практические действия. Когда представители двух типов вступают в брак, высока вероятность, что их союз будет идеальным. Пока они всецело заняты приспособлением к разнообразным внешним потребностям, они отлично уживаются друг с другом. Но если, например, мужчина заработал достаточно денег или если судьба послала им большое наследство, в силу чего внешнее давление ослабевает, у них появляется время заняться друг другом. До этого они стояли спиной друг к другу и оборонялись от нужды. Теперь же они поворачиваются лицом к лицу, ища понимания, однако вскоре обнаруживают, что никогда не понимали друг друга. Каждый говорит на своем языке. Как следствие, возникает конфликт двух типов. Начинается жестокая, яростная борьба, ведущая к взаимному обесцениванию, ибо ценность одного всегда есть отрицание ценности другого. Разумно предположить, что каждый, сознавая собственную ценность, мог бы мирно признать ценность другого, а значит, любой конфликт был бы избыточен. Я наблюдал много случаев, когда такого рода аргументация признавалась убедительной, но при этом не давала удовлетворительных результатов. Если речь идет о нормальных людях, такие критические переходные периоды преодолеваются более или менее гладко. Под «нормальным» я разумею человека, который может существовать при любых обстоятельствах, обеспечивающих ему необходимый жизненный минимум. Однако многие на это неспособны; посему нормальных людей не слишком много. Чаще всего под «нормальным человеком» мы подразумеваем некую идеальную личность, чье счастливое сочетание черт – большая редкость. До сих пор подавляющее большинство более или менее дифференцированных людей требует жизненных условий, гарантирующих не только пищу и сон. Для них конец симбиотических отношений оборачивается тяжелым потрясением.
81 Понять, почему все обстоит так, а не иначе, непросто. И все же, если учесть, что ни один человек не является сугубо интровертом или экстравертом, но потенциально содержит в себе обе установки – хотя только одна из них получила развитие в качестве функции приспособления, – мы немедленно придем к выводу, что у интроверта экстраверсия дремлет где-то на заднем плане в неразвитом состоянии, а у экстраверта аналогичное теневое существование ведет интроверсия. Так и есть. Интроверт в самом деле обладает экстравертированной установкой, но она бессознательна, ибо его сознательный взор всегда направлен на субъект. Конечно, он видит объект, но имеет о нем ложное представление и по возможности держит дистанцию, как будто объект представляет собой нечто страшное и опасное. Поясню, что я имею в виду, на следующем примере.
Предположим, двое молодых людей путешествуют по сельской местности. Они подходят к прекрасному замку, и оба хотят зайти внутрь. Интроверт говорит: «Интересно, как он выглядит изнутри». Экстраверт отвечает: «Давай войдем» – и направляется к воротам. Интроверт пятится назад: «Возможно, туда нельзя ходить», – говорит он, представляя полицейских, штрафы и злых собак. «Что ж, тогда давай спросим. Уверен, нас пропустят», – возражает экстраверт, воображая добрых старых привратников, радушных хозяев и романтические приключения. Благодаря оптимизму экстраверта они в конце концов оказываются внутри замка. И тут наступает dénouement[44]. Внутри замок оказывается перестроен; в нем осталась лишь пара залов с коллекцией старых манускриптов. Естественно, рукописи приводят в восторг юношу-интроверта. Увидев их, он словно преображается. Он погружается в созерцание сокровищ, временами громко выражая свое изумление. Он вовлекает в разговор смотрителя, желая узнать от него как можно больше. Поскольку тот может сообщить не так уж много, юноша просит разрешения увидеться с хранителем, дабы задать ему все интересующие его вопросы. Его застенчивость исчезает, объекты обретают соблазнительный блеск, и мир предстает в новом обличье. Между тем настроение экстраверта все больше и больше ухудшается. Лицо его вытягивается, и он начинает зевать. Здесь явно нет ни добрых привратников, ни рыцарского гостеприимства, ни намека на романтические приключения – это просто замок, переделанный в музей. Зато есть манускрипты, но их можно рассматривать и дома. Пока энтузиазм одного нарастает, воодушевление другого сменяется унынием: замок кажется ему скучным, рукописи напоминают о библиотеке, библиотека ассоциируется с университетом, университет – с учебой и зловещими экзаменами. Постепенно мрачная пелена окутывает замок, еще недавно казавшийся таким интересным и заманчивым. Объект приобретает явно негативный аспект. «Разве это не чудо, – восклицает интроверт, – что мы совершенно случайно наткнулись на такую прекрасную коллекцию?». «Я умираю от скуки», – жалуется второй, не скрывая дурного расположения духа. Это раздражает интроверта, который мысленно клянется больше никогда не путешествовать с экстравертом. Экстраверт, в свою очередь, видит раздражение друга и тоже начинает злиться. Он говорит себе, что всегда знал, что его спутник – бесцеремонный эгоист, готовый в угоду своим личным интересам испортить прекрасный весенний день, просто созданный для прогулок на свежем воздухе.
82 Что же произошло? Оба гуляли в счастливом симбиозе друг с другом, пока не подошли к роковому замку. Склонный сначала думать и только потом действовать (прометеевский) интроверт сказал, что замок хорошо бы осмотреть изнутри, а склонный сначала действовать, а потом думать (эпиметеевский) экстраверт распахнул двери[45]. В этот момент происходит инверсия типов: интроверта, который сначала не хотел заходить внутрь, уже не выманишь наружу, а экстраверт, который мечтал оказаться внутри, теперь горько сожалеет о том, что переступил порог замка. Первый увлечен объектом, второй – своими негативными мыслями. Как только интроверт увидел рукописи, он пропал. Его робость исчезла, объект завладел им, и он охотно отдался ему. Экстраверт, напротив, почувствовал нарастающее сопротивление объекту и в итоге оказался пленником своей собственной раздраженной субъективности. Интроверт стал экстравертом, а экстраверт – интровертом. Однако экстраверсия интроверта отличается от экстраверсии экстраверта, и наоборот. Пока оба бродили по дорогам в радостной гармонии, они не мешали друг другу, ибо каждый оставался верен своему естественному характеру. Оба были настроены доброжелательно, ибо их установки взаимно дополняли друг друга. Однако подобная комплементарность была обусловлена тем, что установка одного включала в себя установку другого. Мы видим это в коротком разговоре у ворот. Оба юноши хотели войти в замок. Сомнение интроверта по поводу того, возможно ли это, также было свойственно и экстраверту, а инициативность экстраверта – интроверту. Таким образом, установка одного включает в себя установку другого; в той или иной степени это справедливо всегда, когда человек придерживается естественной для него установки, ибо эта установка более или менее коллективно адаптирована. То же относится и к установке интроверта, хотя она всегда исходит от субъекта. Установка интроверта просто переходит от субъекта к объекту, а установка экстраверта – от объекта к субъекту.
83 Однако как только, в случае интроверта, объект пересиливает и притягивает субъект, его установка теряет свой социальный характер. Он забывает о присутствии друга, погружается в объект и не замечает, как скучно его товарищу. Аналогичным образом и экстраверт перестает обращать внимание на своего спутника; он разочаровывается в своих ожиданиях и погружается в субъективность и хандру.
84 Посему мы можем сформулировать следующий вывод: у интроверта влияние объекта порождает низшую экстраверсию, тогда как у экстраверта место его социальной установки занимает низшая интроверсия. Тем самым мы возвращаемся к тому положению, с которого начали: «Ценность одного есть отрицание ценности другого».
85 Как положительные, так и отрицательные события могут констеллировать низшую противофункцию. Когда это происходит, возникает особая чувствительность. Чувствительность – верный признак наличия чувства неполноценности. Последнее обеспечивает психологический базис для разногласий и недопонимания, причем не только между двумя людьми, но и внутри нас самих. Отличительное свойство низшей функции[46] – автономия; она независима, она нападает, очаровывает и опутывает нас так, что мы перестаем быть хозяевами самих себя и уже не можем верно проводить грань между собой и другими.
86 И все же для развития характера необходимо, чтобы мы дали возможность другой стороне, низшей функции, найти свое выражение. Мы не можем долго позволять одной части нашей личности симбиотически заботиться о другой, ибо момент, когда у нас возникнет нужда в другой функции, может наступить в любое время и застать нас врасплох, как это показывает вышеприведенный пример. Последствия могут быть плачевными: экстраверт теряет необходимую ему связь с объектом, а интроверт – с субъектом. В то же время интроверту равно необходимо найти такой образ действий, который бы исключил вечные сомнения и колебания, а экстраверту – научиться рефлексировать, не ставя под угрозу свои отношения с миром.
87 В основе экстраверсии и интроверсии, несомненно, лежат две антитетические естественные установки, или тенденции, которые Гете назвал диастолой и систолой. Своим гармоничным чередованием они придают жизни определенный ритм, однако достижение этого ритма, судя по всему, требует особого искусства. Человеку надлежит либо действовать бессознательно, дабы естественный закон не нарушали никакие сознательные акты, либо стать сознательным в гораздо более высоком смысле, что позволит ему обрести способность к осуществлению антитетических движений. Поскольку мы не можем развиваться в обратном направлении, к животному бессознательному, остается более трудный путь вперед, к более высокому сознанию. Разумеется, сознание, которое позволило бы нам жить согласно великим Да и Нет нашей собственной свободной воли, есть сверхчеловеческий идеал. И все же, такова цель. Возможно, наша современная ментальность позволяет нам лишь сознательно жаждать Да и мириться с Нет. Если это действительно так, многое уже достигнуто.
88 Проблема противоположностей как принципа, внутренне присущего человеческой природе, – следующий этап нашего процесса реализации. Как правило, большинство из нас сталкиваются с ней в зрелом возрасте. Практическая работа с пациентом едва ли начнется с этой проблемы, особенно если этот пациент – молодой человек. Неврозы у молодых обычно возникают вследствие коллизии между силами реальности и неадекватной, инфантильной установкой, которая с каузальной точки зрения характеризуется аномальной зависимостью от реальных или воображаемых родителей, а с телеологической точки зрения – неосуществимыми фикциями, планами и притязаниями. В таких случаях уместны редуктивные методы Фрейда и Адлера. Тем не менее существуют многочисленные неврозы, которые либо проявляются только в зрелом возрасте, либо усиливаются до такой степени, что пациенты теряют способность к работе. Естественно, и в таких случаях можно указать на необычную зависимость от родителей, которая существовала уже в юности, а также всевозможные инфантильные иллюзии; однако все это не помешало таким людям выбрать профессию, успешно трудиться на своем поприще и жить семейной жизнью вплоть до того момента, когда прежняя установка вдруг дала сбой. Таким больным осознание детских фантазий, зависимости от родителей и т. д. принесет мало пользы, хотя и является неотъемлемой частью процедуры и часто дает положительные результаты. Настоящая терапия начинается только тогда, когда пациент понимает, что у него на пути стоят уже не отец и мать, а он сам, т. е. бессознательная часть его личности, которая взяла на себя роль отца и матери. Даже это понимание, сколь бы полезным оно ни было, по-прежнему носит негативный характер; оно просто говорит: «Я осознаю, что мне противостоят не отец и мать, а я сам». Но кто этот внутренний противник? Что это за таинственная часть личности, которая скрывается за имаго отца и матери и годами заставляет пациента верить, что причина его бед каким-то образом попала в него извне? Эта часть – антипод его сознательной установки; он не оставит его в покое и будет мучить до тех пор, пока не будет принят. В случае молодых людей зачастую достаточно освободиться от прошлого: впереди лежит манящее будущее, богатое возможностями. Нужно только разорвать оковы – жажда жизни сделает все остальное. Совсем иная задача стоит в работе с людьми, у которых большая часть жизни уже позади, которым будущее не улыбается восхитительными возможностями и которых впереди не ждет ничего, кроме привычных обязанностей и сомнительных удовольствий старости.
89 Освободив молодых людей от прошлого, мы увидим, что они всегда переносят имаго своих родителей на более подходящие замещающие фигуры. Так, чувство, которое ранее было связано с матерью, теперь переходит на жену, а авторитет отца – на уважаемых учителей, начальников или институты. Это не фундаментальное решение проблемы, но путь, по которому бессознательно и, следовательно, без выраженных внутренних препятствий и сопротивления идет нормальный человек.
90 Проблема взрослого кроется в другом. Так или иначе – с большими или меньшими трудностями – он уже прошел эту часть пути. Он уже отмежевался от своих родителей (возможно, давно умерших) и нашел мать в жене, или в случае женщины – отца в муже. Он, как и должно, почитал своих отцов и их институты, сам стал отцом, и теперь, пережив все это, возможно, пришел к пониманию того, что все, что ранее означало прогресс и удовлетворение, ныне обернулось тягостной ошибкой, частью заблуждений юности, на которую теперь он оглядывается со смесью сожаления и зависти, ибо впереди его не ждет ничего, кроме старости и конца всех иллюзий. Здесь уже нет ни отцов, ни матерей; все иллюзии, которые он проецировал в мир и вещи, постепенно возвращаются к нему, истрепанные и разбитые. Энергия, проистекающая из всех этих многообразных отношений, устремляется в бессознательное и оживляет в нем то, развитием чего он пренебрег.
91 Молодому человеку высвобождение скованных неврозом инстинктивных сил приносит душевный подъем, надежду и возможность раздвинуть жизненные рамки. Для человека, находящегося во второй половине жизненного пути, развитие функции противоположностей, дремлющих в бессознательном, означает возрождение, обновление; но это развитие уже не происходит через растворение инфантильных связей, через разрушение инфантильных иллюзий и перенос старых имаго на новые фигуры: оно происходит через проблему противоположностей.
92 Принцип противоположностей, безусловно, является фундаментальным даже в подростковом возрасте, и психологическая теория подростковой психики склонна признавать этот факт. Следовательно, взгляды Фрейда и Адлера противоречат друг другу лишь тогда, когда их выдвигают в качестве общеприменимых теорий. Оставаясь техническими, вспомогательными концепциями, они не противоречат друг другу и не исключают друг друга. Таким образом, психологическая теория, если она стремится стать чем-то большим, нежели техническим паллиативом, должна базироваться на принципе противоположностей. В ином случае все, на что она будет способна, – это восстановление невротически неуравновешенной психики. Без противопоставления нет равновесия, нет системы саморегуляции. Психика как раз и есть такая саморегулирующаяся система.
93 Если мы теперь вернемся к рассуждениям, которые оставили ранее, то увидим, почему ценности, которых не хватает индивиду, обнаруживаются в неврозе. Вернемся к упомянутому выше случаю молодой женщины и применим к нему полученные знания. Предположим, что эта пациентка «подверглась анализу», т. е. благодаря лечению осознала природу бессознательных мыслей, скрывавшихся за ее симптомами, в результате чего вновь овладела той бессознательной энергией, которая составляла силу этих симптомов. Возникает вопрос: что же делать с этой так называемой свободной энергией? Учитывая психологический тип пациентки, было бы разумно перенести эту энергию на объект – например, благотворительность или какую-нибудь другую полезную деятельность. У особенно энергичных натур, которые, возникни такая необходимость, не боятся смертельно устать, или у людей, которые находят удовольствие в тяжелом труде, такой путь возможен, хотя в большинстве случаев он неприемлем. Не будем забывать, что либидо (так по-научному называется эта психическая энергия) уже обладает объектом бессознательно, в виде молодого итальянца или какого-либо равно реального человеческого субститута. В этих обстоятельствах сублимация столь же желательна, сколь и невозможна, ибо реальный объект обычно предлагает энергии значительно лучший градиент, чем самая похвальная этическая деятельность. К несчастью, слишком многие из нас говорят лишь о том, каким человеку желательно быть, но никогда о том, каков он на самом деле. Доктор, однако, вынужден иметь дело с реальным человеком, который упрямо остается самим собой, пока не будут осознаны все стороны его реальности. Подлинное просвещение может строиться только на голой действительности, а не на иллюзорном идеале.
94 К несчастью, человек не в силах придать так называемой свободной энергии то или иное направление по своему усмотрению. Энергия следует собственному градиенту. На самом деле она нашла этот градиент еще до того, как мы освободили ее из непригодной формы. Ибо мы обнаруживаем, что фантазии пациентки, которые прежде были направлены на молодого итальянца, теперь перенесены на доктора[47]. Доктор сам стал объектом бессознательного либидо. Если больной напрочь отказывается признавать факт переноса[48] или если доктор не понимает или толкует его неверно, то возникает яростное сопротивление. Последнее направлено на то, чтобы сделать отношения с доктором абсолютно невозможными. В результате пациент уходит и ищет другого врача или человека, который его поймет; если же он воздерживается от таких поисков, то «зацикливается» на своей проблеме.
95 В тех случаях, однако, когда перенос на врача распознан, энергия принимает естественную форму, которая не только заменяет прежнюю, но и обеспечивает ее относительно бесконфликтный выход. Посему если предоставить либидо свободу, то оно найдет собственный путь к предначертанному ему объекту. Там, где этого не происходит, причина всегда кроется в намеренном нарушении законов природы или в неком возмущающем влиянии.
96 При переносе проецируются самые разные инфантильные фантазии. Они должны быть выжжены, т. е. устранены с помощью редуктивного анализа. При этом энергия снова высвобождается из непригодной формы, и мы вновь сталкиваемся с проблемой ее утилизируемости. Здесь нам не остается ничего другого, кроме как опять довериться природе в надежде на то, что заранее будет избран объект, который обеспечит благоприятный градиент.