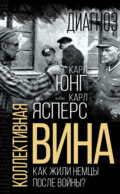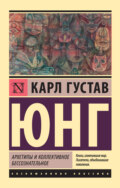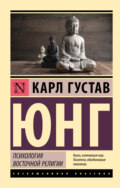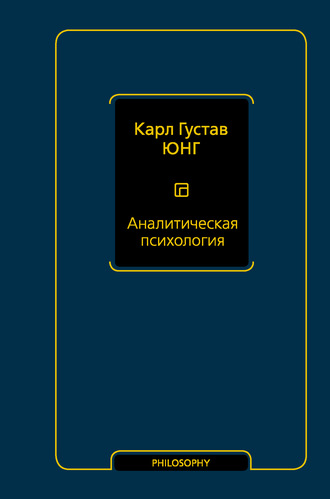
Карл Густав Юнг
Аналитическая психология
III. Другая точка зрения: воля к власти
35 До сих пор мы рассматривали проблему этой новой психологии преимущественно с точки зрения Фрейда. Несомненно, он показал нам нечто истинное, нечто в высшей степени реальное, чему наша гордость, наше цивилизованное сознание может сказать «нет», хотя что-то другое в нас говорит «да». Многие люди находят данный факт крайне раздражающим; он вызывает у них враждебность или даже страх; как следствие, они не желают признавать конфликт. В самом деле, мысль, что человек обладает теневой стороной, которая состоит не просто из маленьких слабостей и причуд, а из демонического динамизма, пугает. Индивид редко это осознает; ему, как индивиду, кажется невероятным, чтобы он при любых обстоятельствах мог выйти за пределы себя. Но стоит этим безобидным существам сбиться в толпу, как рождается исступленное чудовище; каждый есть лишь крошечная клеточка в теле этого чудовища, а значит, ему приходится сопровождать сего зверя в его кровавых бесчинствах, а то и оказывать ему всяческую помощь. Смутно подозревая об этих мрачных возможностях, человек закрывает глаза на теневую сторону человеческой природы. Он слепо борется против целительной догмы о первородном грехе, хотя она поразительно правдива. Более того, он даже не решается признать конфликт, который столь мучительно ощущает. Неудивительно, что психологическая школа, акцентирующая нашу темную сторону – даже если она предвзята в том или ином отношении – будет неугодной, если не сказать пугающей, ибо она заставляет нас открыто взглянуть в бездонную пропасть данной проблемы. Смутное предчувствие подсказывает нам, что без этой отрицательной стороны мы не можем достичь цельности, что мы обладаем телом, которое, как и все тела, отбрасывает тень, и что если мы отрицаем это тело, то утрачиваем трехмерность и становимся плоскими, нематериальными. Однако это тело – зверь со звериной душой, организм, беспрекословно подчиняющийся инстинкту. Объединиться с этой тенью – значит сказать «да» инстинкту, тому непреодолимому динамизму, который вечно таится на заднем плане. Именно от этого стремится нас спасти аскетическая мораль христианства, рискуя, однако, дезорганизовать животную природу человека на самом глубинном уровне.
36 Прояснил ли кто-либо для себя, каково сказать «да» инстинкту? Именно это желал и проповедовал Ницше, причем со всей свойственной ему серьезностью. С необычайной страстью он принес в жертву себя, всю свою жизнь идее Сверхчеловека, который, подчиняясь инстинкту, выходит за пределы себя. И как же прошла эта жизнь? Так, как сам Ницше пророчил в «Заратустре», в том фатальном падении канатного плясуна, «человека», который не желал быть «превзойденным». Заратустра говорит умирающему канатоходцу: «Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело!» Позже карлик скажет Заратустре: «О Заратустра, ты камень мудрости, ты камень, пущенный пращою, ты сокрушитель звезд! Как высоко вознесся ты, но каждый брошенный камень должен упасть! Приговоренный к самому себе и к побиению себя камнями: о Заратустра, как далеко бросил ты камень, но на тебя упадет он!» Когда же прокричал он над собой свое «Ессе homo!»[28], было уже слишком поздно, как и тогда, когда это выражение произнесли впервые, и распятие души началось еще до того, как умерло тело.
37 Необходимо в высшей степени критически взглянуть на жизнь того, кто учил говорить «да», дабы оценить влияние этого учения на собственную жизнь учителя. Рассматривая жизнь Ницше с данной точки зрения, нельзя не признать, что он жил по ту сторону инстинкта, в недосягаемых высях героического величия. Эту возвышенность он поддерживал благодаря строжайшей диете, тщательно выбранному климату и большому количеству снотворного – до тех пор, пока напряжение не разрушило его мозг. Он призывал говорить «да», но сам говорил «нет». Его отвращение к людям, к человеческому животному, который живет инстинктом, было слишком велико. Вопреки всему, он так и не смог проглотить жабу, которую часто видел во сне. Рычание льва Заратустры загнало обратно в пещеру бессознательного всех «высших» людей, которые требовали жить. Посему его жизнь не убеждает нас в его учении. Ибо «высший» человек хочет засыпать без хлорала, жить в Наумбурге и в Базеле, несмотря на «туманы и тени». Он хочет иметь жену и потомство, пользоваться особым положением и уважением среди стада, он жаждет бесчисленного множества самых обыкновенных вещей. Ницше не следовал этому инстинкту, не питал животное стремление к жизни. Несмотря на все свое величие и важность, Ницше был патологической личностью.
38 Но чем же он жил, если не инстинктом? Можно ли действительно обвинить Ницше в том, что на практике он отрицал свои инстинкты? Едва ли он согласился бы с этим. Более того, он мог бы без труда показать, что жил инстинктивной жизнью в самом высоком смысле. Но как это возможно, удивленно спросим мы, чтобы инстинктивная природа привела человека к отрыву от ему подобных, к абсолютной изоляции от всего человечества, к отчужденности от стада, поддерживаемой отвращением? Мы привыкли считать, что инстинкт объединяет человека, побуждает его совокупляться и рожать детей, стремиться к наслаждению и благополучию, удовлетворению всех чувственных желаний. Мы забываем, что это лишь одно из возможных направлений инстинкта. Существует не только инстинкт сохранения вида, но и инстинкт самосохранения.
39 Именно об этом последнем инстинкте, воле к власти, очевидно и говорит Ницше. Все остальные инстинкты, с его точки зрения, вторичны. С позиций сексуальной психологии Фрейда это вопиющая ошибка, ложная трактовка биологии, заблуждение декадента-невротика. Ибо любой сторонник сексуальной психологии легко может доказать, что все возвышенное и героическое в ницшевских взглядах на жизнь и мир не более чем следствие вытеснения и неверного понимания «инстинкта», который эта психология признает фундаментальным.
40 Случай Ницше показывает, с одной стороны, последствия невротической односторонности, а с другой – те опасности, которые влечет за собой выход за рамки христианства. Ницше, без сомнения, остро чувствовал христианское отрицание животной натуры, а потому искал более высокую человеческую цельность за гранью добра и зла. Но тот, кто всерьез критикует базовые установки христианства, лишается и защиты, которую они ему даруют. Он неизбежно и всецело отдается во власть животной психики. Это момент дионисийского буйства, всепоглощающей манифестации «белокурой бестии»[29], которая рождает в ничего не подозревающей душе невыразимый трепет. Он превращается в героя или богоподобное существо, в сверхчеловеческую сущность. Он по праву ощущает себя «по ту сторону добра и зла».
41 Наблюдателю-психологу это состояние известно под названием «идентификация с тенью» – явление, которое с завидной регулярностью возникает в подобные моменты столкновения с бессознательным. Единственное, что может здесь помочь, – осторожная самокритика. Во-первых, крайне маловероятно, чтобы некая поразительная истина была открыта только что, ибо подобные вещи случаются во всемирной истории очень редко. Во-вторых, необходимо тщательно исследовать, не произошло ли нечто подобное в другом месте. Например, Ницше как филолог мог бы привести некоторые четкие классические параллели, которые наверняка бы успокоили его разум. В-третьих, следует учитывать, что дионисийский опыт может быть не чем иным, как возвратом к языческой форме религии; в этом случае ни о каких новых открытиях не может быть и речи – история просто повторяется сначала. В-четвертых, нельзя не предвидеть того, что за радостным взлетом духа к героическим и богоподобным высям неизбежно последует равно глубокое падение в бездну. Такие рассуждения – выгодная позиция: приняв ее, мы можем свести всю эту фантасмагорию к масштабам отчасти утомительного восхождения в горы, которое сменяется рутинной повседневностью. Подобно тому как всякий ручей ищет долину и широкую реку, несущую свои воды в низины, жизнь не только протекает в рутине, но и превращает в нее все остальное. Необычное, если оно не заканчивается катастрофой, может проскользнуть в нашу жизнь, но это происходит не часто. Если героизм становится хроническим, он заканчивается спазмом, а спазм ведет к катастрофе, к неврозу или к тому и другому одновременно. Ницше застрял в состоянии высокого напряжения. Однако в этом экстазе он мог бы с равным успехом существовать и под сенью христианства. Разумеется, это отнюдь не отвечает на вопрос о животной психике, ибо экстатическое животное – это чудовище. Животное исполняет закон своей собственной жизни, не больше и не меньше. Мы можем назвать его послушным и «хорошим». Экстатическое животное, напротив, обходит этот закон и ведет себя, с точки зрения природы, неуместно. Данная неуместность есть исключительная прерогатива человека, чье сознание и свободная воля могут периодически contra naturam[30] отрываться от своих корней в животной природе. Такова непременная основа всякой культуры, которая, тем не менее, в своей гипертрофированной форме ведет к духовной болезни. Человек может вынести лишь определенное количество культуры без вреда для себя. Бесконечная дилемма культуры и природы – это всегда вопрос слишком многого или слишком малого, а не либо того, либо другого.
42 Случай Ницше ставит перед нами следующий вопрос: что открыло ему столкновение с тенью, а именно с волей к власти? Следует ли рассматривать ее как нечто фальшивое, как симптом вытеснения? Воля к власти подлинна или вторична? Если бы конфликт с тенью вызвал поток сексуальных фантазий, то все было бы ясно; однако случилось иначе. «Kern des Pudels»[31] была не в Эросе, а во власти эго. Отсюда вытекает следующий вывод: то, что было вытеснено, не Эрос, а воля к власти. На мой взгляд, нет никаких оснований полагать, что Эрос является подлинным, а воля к власти – фиктивной. Определенно, воля к власти – такой же великий демон, что и Эрос; она так же стара и первична.
43 Жизнь, подобную жизни Ницше, прожитую до своего фатального конца в согласии с инстинктом власти, нельзя счесть просто фальшивкой. В противном случае нас можно было бы обвинить в том же несправедливом приговоре, который Ницше вынес своему антиподу Вагнеру: «Все в нем фальшиво. То же, что подлинно, скрыто или приукрашено. Он – актер во всех, хороших и плохих, смыслах этого слова». Откуда такое предубеждение? Вагнер воплощает собой другой фундаментальный импульс, который не заметил Ницше и на котором построена вся психология Фрейда. Если мы спросим, знал ли Фрейд об этом другом инстинкте, стремлении к власти, то обнаружим, что он рассматривал его под названием «эго-инстинкта». Однако эти эго-инстинкты занимают в его психологии весьма скромный уголок по сравнению с широко – даже слишком широко – представленным сексуальным фактором. В действительности человеческая природа несет бремя ужасного и бесконечного конфликта между принципом эго и принципом инстинкта: хотя эго – это сплошные барьеры и ограничения, а инстинкт безграничен, оба принципа одинаково сильны. В определенном смысле человеку повезло, что ему «знакомо лишь одно стремленье»; следовательно, с его стороны в высшей степени разумно всячески избегать осознания другого. Ежели такое все-таки произойдет, он пропал: он вступает в фаустовский конфликт. В первой части «Фауста» Гете показал нам, что значит принять инстинкт, а во второй части – что значит принять эго с его странным бессознательным миром. Все незначительное, мелочное и трусливое в нас ежится и отступает перед этим. И для этого есть веские основания: мы вдруг обнаруживаем, что этот «другой» в нас – еще один реальный человек, который мыслит, делает, чувствует и желает все то, что презренно и омерзительно. В этом смысле мы можем схватить этот призрак и, к своему удовлетворению, объявить ему войну. Отсюда вытекают те хронические идиосинкразии, примеры которых сохранила история нравов. Наиболее очевидный пример приведен выше – «Ницше против Вагнера, против Павла» и т. д. Однако даже повседневная жизнь пестрит аналогичными случаями. Благодаря этому хитроумному приему человек может спастись от фаустовской катастрофы, перед лицом которой смелость и сила могут оставить его. Цельный человек, однако, знает, что его злейший враг, даже целое полчище врагов не сравнятся с его худшим противником, «другой самостью», которая живет в его груди. Ницше носил Вагнера внутри; вот почему он завидовал его «Парсифалю»; хуже того, он, Савл, носил в себе и Павла. Поэтому Ницше был стигматизирован духом; подобно Савлу, он пережил христификацию, тогда как «другой» шептал ему на ухо «Ессе Homo». Кто же из них «пал перед крестом» – Вагнер или Ницше?
44 Судьба распорядилась так, что один из первых учеников Фрейда, Альфред Адлер, сформулировал концепцию невроза[32], базирующуюся исключительно на принципе власти. Весьма любопытно и даже увлекательно наблюдать, насколько по-разному выглядят одни и те же вещи с противоположных точек зрения. Рассмотрим основной контраст: если у Фрейда все проистекает из антецедентных обстоятельств в рамках строгих каузальных взаимосвязей, то у Адлера все построено на телеологическом принципе. Возьмем простой пример. Одну молодую женщину начинают мучить приступы тревоги. Ночью ей снятся кошмары, после которых она просыпается с душераздирающим криком, подолгу не может успокоиться, прижимается к мужу, умоляет его не оставлять ее, требует заверений, что он действительно ее любит и т. п. Постепенно у нее развивается нервная астма, а приступы начинают происходить и в дневное время.
45 Фрейдовский метод требует немедленного погружения во внутреннюю каузальность болезни и ее симптомов. Каково было содержание первых тревожных снов? На пациентку нападали разъяренные быки, львы, тигры, злодеи. Каковы ассоциации пациентки? Вот одна из историй, которая произошла с ней, когда она еще не была замужем. Она отдыхала на горном курорте, много играла в теннис, заводила обычные знакомства. В числе таких новых знакомых оказался один молодой итальянец, который превосходно владел теннисной ракеткой, а по вечерам чудесно играл на гитаре. Завязался невинный флирт. Во время прогулки при луне итальянец «неожиданно» дал волю своему темпераменту, немало встревожив этим ничего не подозревавшую девушку. Он одарил ее «таким взглядом», который она не могла забыть. Этот взгляд преследует ее даже во сне; дикие звери, которые гонятся за ней в кошмарах, смотрят на нее точно так же. Но действительно ли этот взгляд исходит только от итальянца? В этой связи весьма поучительно другое воспоминание. Когда пациентке было около 14 лет, ее отец погиб в результате несчастного случая. Он обладал богатым жизненным опытом и много путешествовал. Незадолго до своей смерти он взял ее с собой в Париж, где они, помимо прочего, посетили и «Фоли-Бержер». Произошедшее там произвело на нее неизгладимое впечатление. При выходе из театра ее отца самым возмутительным образом толкнула какая-то размалеванная девица. Девушка испуганно взглянула на отца в ожидании, что он сделает, и увидела тот самый взгляд, тот самый звериный огонь в его глазах. Это необъяснимое «нечто» преследовало ее день и ночь. С тех пор ее отношение к отцу изменилось. Иногда она раздражалась и становилась язвительной, иногда проникалась к нему непомерной любовью. Позже ее начали мучить внезапные и беспричинные приступы плача. Всякий раз садясь с отцом за стол, она давилась едой. Такие случаи обычно сопровождались приступами удушья, из-за которых на один-два дня она теряла голос. После известия о внезапной кончине отца ее охватила невыразимая скорбь, которая затем уступила место приступам истерического смеха. Вскоре, однако, она успокоилась; ее состояние быстро улучшилось, и невротические симптомы практически исчезли. На прошлое была наброшена вуаль забвения. Лишь эпизод с итальянцем всколыхнул в ее сердце нечто, чего она страшилась. Спустя несколько лет она вышла замуж. Первые проявления ее текущего невроза возникли после рождения второго ребенка – именно тогда она обнаружила, что ее муж питает нежные чувства к другой женщине.
46 Эта история вызывает много вопросов: например, а что насчет ее матери? Об этой женщине известно, что она отличалась излишней нервозностью и испробовала все возможные санатории и методы лечения. Кроме того, она также страдала нервной астмой и повышенной тревожностью. Отношения с супругом, насколько помнила пациентка, были крайне холодными. Мать плохо понимала отца; пациентке всегда казалось, что она понимает его гораздо лучше. Она была явной любимицей отца и в глубине души относилась к матери весьма прохладно.
47 Этих сведений вполне достаточно, чтобы дать нам общее представление о болезни. За имеющимися симптомами кроются фантазии, непосредственно связанные с итальянцем, но четко указывающие на отца, чей неудачный брак очень рано дал дочери возможность занять то место, которое надлежало занимать матери. В основе этого завоевания, конечно, лежит фантазия о том, что именно она – более подходящая жена для отца. Первый приступ невроза случился в тот момент, когда эта фантазия получила тяжелый удар, по всей вероятности такой же, какой получила ее мать, хотя ребенок и не мог об этом знать. Сами симптомы можно легко понять, если рассматривать их как выражение разочарованной и ущемленной любви. Кашель и удушье во время еды были вызваны ощущением сдавливания в горле, часто сопутствующим сильным эмоциональным реакциям, которые нельзя просто «проглотить». (Метафоры повседневной речи, как известно, часто содержат отсылки к таким физиологическим явлениям.) Когда отец умер, ее сознательный разум горько оплакивал утрату, но ее тень смеялась подобно Тилю Уленшпигелю. Последний впадал в уныние, когда все шло под откос, и преисполнялся веселья, как только дорога начинала идти в гору. Когда отец был дома, она была подавлена и больна; когда его не было, она всегда чувствовала себя гораздо лучше, подобно тем бесчисленным мужьям и женам, которые тщательно скрывают сладкую тайну, что вполне могут обойтись друг без друга.
48 То, что бессознательное в этот момент имело некоторые основания смеяться, подтверждается последующим периодом вполне удовлетворительного состояния. Пациентке удалось предать прошлое забвению. Лишь эпизод с итальянцем угрожал вновь воскресить этот темный мир. Однако она быстро захлопнула дверь и оставалась здорова до тех пор, пока дракон невроза не пробрался обратно, причем именно тогда, когда она уже мнила себя в безопасности, в идеальном качестве, так сказать, жены и матери.
49 Сексуальная психология утверждает: причина невроза состоит в базовой неспособности пациентки освободиться от своего отца. Вот почему эти переживания вновь поднялись на поверхность, когда она обнаружила в итальянце таинственное «нечто», которое произвело на нее столь сильное впечатление в связи с отцом. Эти воспоминания были, естественно, возвращены к жизни аналогичным опытом с ее мужем, непосредственной причиной невроза. Таким образом, можно сказать, что содержанием и причиной невроза в данном случае явился конфликт между инфантильно-эротическим отношением к отцу и любовью к мужу.
50 Если, однако, мы посмотрим на ту же клиническую картину с точки зрения «другого» инстинкта, воли к власти, то она примет иное обличье. Несчастливый брак родителей дал пациентке отличную возможность удовлетворить ее детское стремление к власти. Инстинкт власти требует, чтобы эго было «первым» при любых обстоятельствах, причем для достижения этой цели все средства хороши. «Целостность личности» должна быть сохранена любой ценой. Любая – пусть даже кажущаяся – попытка окружающей среды получить малейшее господство над субъектом встречает, по выражению Адлера, «маскулинный протест». Крушение иллюзий матери и ее уход в невроз создали благоприятные условия для демонстрации власти и утверждения господства. Любовь и хорошее поведение являются, с точки зрения инстинкта власти, лучшим средством для достижения цели. Добродетельность часто вызывает признание и одобрение окружающих. Уже ребенком пациентка знала, как обеспечить себе привилегированное положение в глазах отца с помощью вкрадчивости и ласки и взять верх над матерью – не из любви к отцу, но потому, что любовь отличный способ добиться превосходства. Приступ смеха, охватившего ее при известии о смерти отца, – неопровержимое тому доказательство. Мы склонны видеть в подобном объяснении ужасную девальвацию любви, если не сказать злонамеренную инсинуацию, но стоит нам на минуту задуматься и заставить себя увидеть мир таким, какой он есть, как мы понимаем, что ошиблись. Разве мы не видели бесчисленное множество людей, которые любят и верят в свою любовь, но, достигнув цели, отворачиваются, словно никогда и не любили? И наконец, разве сама природа не поступает так же? Возможна ли вообще «незаинтересованная» любовь? Если да, то она принадлежит к тем высшим добродетелям, которые, как известно, встречаются крайне редко. Возможно, существует общая тенденция как можно меньше думать о цели любви; в противном случае мы можем увидеть нашу любовь в менее благоприятном свете.
51 При известии о смерти отца пациентку охватил приступ смеха – она наконец-то достигла вершины. Это был истерический смех, психогенный симптом, нечто возникшее из бессознательных мотивов, а не из мотивов сознательного эго. Это важное различие подсказывает нам, откуда и как возникают определенные человеческие добродетели. Их противоположности снизошли в ад или, выражаясь современным языком, в бессознательное, где издавна аккумулировались антиподы наших сознательных добродетелей. Соответственно, мы не желаем ничего знать о бессознательном; вершина добродетельной мудрости – провозгласить, что бессознательного вообще не существует. Но увы! Оно существует во всех нас; мы все подобны Медарду из «Эликсира сатаны» Гофмана: у каждого есть где-то страшный брат, зловещий двойник, который удерживает и накапливает все то, что мы столь охотно «спрятали бы под столом».
52 Первая вспышка невроза у нашей пациентки случилась в тот момент, когда она осознала, что в ее отце было нечто, над чем она не имела власти. И тогда на нее снизошло великое озарение: теперь она поняла, для чего ее матери был нужен невроз – когда сталкиваешься с препятствием, которое нельзя преодолеть рациональными методами и шармом, остается еще один, прежде не известный способ – невроз. Результат: пациентка начинает имитировать невроз матери. Но какая же польза от невроза, удивленно спросит читатель. Что он может дать? Любой, кто сталкивался с четкими случаями невроза среди своих близких, знает что. Лучшего средства тиранить домашних не существует. Сердечные приступы, приступы удушья, всевозможные спазмы и судороги производят невероятный эффект, который едва ли можно превзойти. Больной купается в океанах сочувствия, родители мучаются от тревоги, слуги снуют туда-сюда, неумолчно звонит телефон, врачи спешат на помощь. Все это, разумеется, сопровождается страшными диагнозами, тщательными обследованиями, длительным лечением, большими расходами. Посреди всей этой суматохи лежит невинный страдалец; когда же ему, наконец, удается выздороветь от своих «спазмов», окружающие преисполняются к нему искренней благодарности.
53 Именно эту непревзойденную схему или «устроение», как писал Адлер, и открыла для себя наша пациентка и успешно применяла всякий раз, когда отец находился рядом. После его смерти все это стало ненужным. Итальянец был выброшен за борт сразу после того, как имел неосторожность подчеркнуть ее женственность, напомнив о собственной мужественности. Однако как только представилась подходящая возможность выйти замуж, она полюбила и безропотно покорилась судьбе жены и матери. Пока сохранялось ее превосходство, все шло как по маслу. Но когда однажды у супруга появилось несерьезное увлечение на стороне, она, как и раньше, прибегла к тому же чрезвычайно эффективному «устроению», ибо вновь столкнулась с препятствием, на этот раз в муже, которое в случае с отцом ей так и не удалось преодолеть.
54 Так выглядит ситуация с точки зрения психологии власти. Боюсь, читатель неизбежно уподобится тому кади, который, выслушав представителя одной стороны, сказал: «Ты говорил хорошо. Я вижу, что ты прав». Но затем слово взял защитник другой стороны; когда он умолк, кади почесал за ухом и сказал: «Ты говорил хорошо. Я вижу, что ты тоже прав». Безусловно, стремление к власти играет крайне важную роль. Несомненно и то, что невротические симптомы и комплексы суть искусные «устроения», преследующие собственные цели с невероятным упорством и хитростью. Как установил Адлер, невроз телеологически ориентирован.
55 Какая же из этих двух точек зрения верная? Над этим вопросом, вероятно, придется немало поломать голову, ибо они абсолютно противоречат друг другу. В первом объяснении главным и решающим фактором является Эрос и его судьба, во втором – власть эго. В первом случае эго выступает лишь своего рода придатком Эроса; во втором – любовь есть просто средство для достижения цели, т. е. господства. Те, кто ставят во главу угла власть эго, воспротивятся первой концепции; те же, кому больше важна любовь, никогда не примирятся со второй.