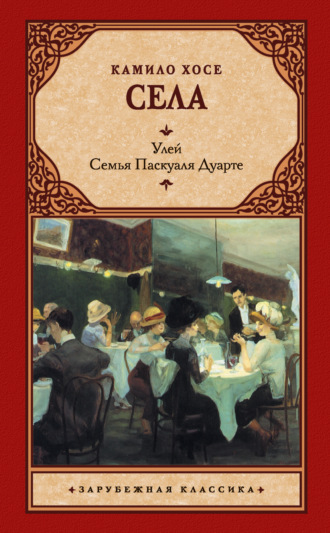
Камило Хосе Села
Улей. Семья Паскуаля Дуарте
Чистильщик обуви зовет:
– Сеньор Суарес! Сеньор Суарес!
Сеньор Суарес – он тоже здесь случайный гость – поднимается с места и идет к телефону. Он прихрамывает, раскачивая бедрами. Одет в модный светлый костюм, на носу пенсне. По виду ему дашь лет пятьдесят, он похож на дантиста или парикмахера. Если приглядеться, можно, пожалуй, принять его и за коммивояжера по сбыту химикатов. У сеньора Суареса вид очень занятого человека, из тех, кто не переводя дыхания выпаливает: «Чашку кофе. Чистильщика. Мальчик, сбегай за такси». Когда такие вот всегда занятые господа заходят в парикмахерскую, они там сразу бреются, стригутся, делают маникюр, велят чистить им обувь да еще газету читают. Прощаясь с другом, они предупреждают: «С такого-то по такой-то час я буду в кафе, потом должен зайти в контору, а к вечеру загляну к своему шурину – если будете мне звонить, то именно в таком порядке. Сейчас я должен идти, у меня сотня мелких дел». Только взглянуть на таких людей, и сразу понимаешь – это победители, это избранные, это люди, привыкшие повелевать.
Сеньор Суарес говорит по телефону голосом тихим, пискливым, глуповато хихикая и жеманничая. Пиджак на нем коротковат, брюки узехонькие, как у тореро.
– Это ты?
– ………
– Нахал, ну прямо-таки нахал! Бесстыдник!
– Да ладно… Как хочешь.
– ………
– Договорились. Ладно, не беспокойся, еду.
– ………
– Пока, дорогуша.
– ………
– Хи-хи! Вечные твои шуточки! Будь здоров, голубок, сейчас заеду за тобой.
Сеньор Суарес возвращается к своему столику. На лице улыбка, хромота у него теперь какая-то подрагивающая, чуть судорожная – в ней даже есть что-то задорное, кокетливое, легкомысленное. Он расплачивается за кофе, требует такси, и, когда такси подъезжает, сеньор Суарес выходит на улицу. Выходит с гордо поднятой головой, как римский гладиатор, выходит, излучая самодовольство, сияя радостью.
Кое-кто провожает его взглядом, пока он не скрывается за вращающейся дверью. М-да, есть люди, которые обязательно привлекают внимание. Их сразу узнаешь среди прочих, как будто у них отметина на лбу.
Хозяйка делает пол-оборота и направляется к стойке. Никелированная кофеварка «экспресс» выдает, булькая, одну за другой чашечки кофе, а касса, отсвечивающая от старости медью, то и дело щелкает.
Несколько официантов с изможденными, бледными, унылыми физиономиями стоят в мешковатых, измятых фраках, оперев край подноса на мраморную доску, и ждут, пока шеф выдаст им заказанные блюда и медные и серебряные монетки сдачи.
Шеф вешает телефонную трубку и начинает отпускать заказы.
– Опять вы тут болтаете по телефону, как будто делать нечего?
– Да видите ли, сеньорита, просят еще молока.
– Еще молока? Сколько привезли сегодня утром?
– Как всегда, сеньорита, шестьдесят.
– И этого не хватает?
– Да, кажется, будет мало.
– Но послушай, милый мой, здесь же не ясли! Сколько ты затребовал?
– Еще двадцать.
– Не слишком ли много?
– Не думаю.
– Что значит «не думаю»? Хорошенькое дело! А если останется, что тогда?
– Нет, не останется. Ручаюсь.
– Да, как всегда, «ручаюсь, ручаюсь», это для вас очень удобно. А если останется?
– Да нет, вот увидите, не останется. Взгляните, зал битком набит.
– Ну да, зал битком набит, битком набит. Говорить проще всего. А почему набит? Потому что у меня подают по-честному, сколько положено, а не то я бы всех вас разогнала! Лодыри этакие!
Официанты, потупив глаза, стараются проскользнуть незаметно.
– А ну-ка поглядим, что у вас там! Это почему на подносах так много кофе без сладкого? Разве люди не знают, что у нас есть булочки, и бисквиты, и кексы? Ну конечно, не знают! Ведь вам трудно рот раскрыть! Хотите, чтобы я по миру пошла, на улице каштанами торговала? Хоть лопните, не бывать этому! Уж я-то знаю, на какую ногу вы хромаете. Хороши субчики! А ну-ка, поживей шевелите ногами да молитесь всем святым, чтобы я еще больше не рассердилась.
Официантам ее речи – как шум дождя, они молча отходят с подносами от стойки. Ни один не взглянет на донью Росу. Ни один даже не думает о ней.
Посетитель, из тех, что, как я уже говорил, сидят, облокотясь на столик и подперев рукою бледный лоб – взгляд у них унылый, горестный, выражение лица озабоченное и как бы испуганное, – беседует с официантом. Он силится кротко улыбаться, он похож на беспризорного ребенка, который зашел попросить стакан воды в дом при дороге.
Официант отрицательно качает головой и подзывает вышибалу.
Луис, вышибала, идет от него к хозяйке.
– Сеньорита, Пепе говорит, что сеньор не желает платить.
– Пусть делает с ним что хочет, да только чтобы деньги мне были. Это его дело. Скажи, если не вытянет денег, я вычту из его жалованья, и дело с концом. До чего мы докатились!
Хозяйка поправляет пенсне и приглядывается.
– Это который?
– Да вон он сидит, очки в металлической оправе.
– Вот это тип! Очень мило! Да еще с каким видом! Слушай, а по какому праву он отказывается платить?
– Да так… Говорит, что пришел без денег.
– Ну и ну, только этого недоставало! Да, чего в нашей стране хоть отбавляй, так это жуликов!
Вышибала, не глядя в глаза донье Росе, произносит чуть слышно:
– Он говорит, что, когда будут деньги, он обязательно рассчитается.
В ответе доньи Росы каждое слово звенит, будто отлитое из бронзы:
– Так говорят все, а потом на одного, что вернется заплатить, приходится сотня таких, что улизнут и поминай как звали. Да что говорить! Пригреешь ворона, а он тебе глаза выклюет! Скажи Пепе – он сам знает, что делать: на улицу выставить поаккуратней, а там – пару добрых пинков куда придется. Хорошенькое дело!
Вышибала поворачивается, но донья Роса окликает его:
– Слушай, скажи Пепе, чтобы запомнил лицо!
– Скажу, сеньорита.
Донья Роса стоит и смотрит на эту сцену. Луис, с молочником в руках, подходит к Пепе и шепчет ему на ухо:
– Так она сказала. Ей-богу, слово в слово.
Пепе приближается к посетителю, тот медленно встает… Это истощенный, бледный, хилый человечек в дешевых металлических очках. Потертая куртка, обтрепанные брюки. Поверх костюма темно-серый плащ с засаленным поясом, под мышкой завернутая в газету книга.
– Если хотите, я оставлю вам книгу.
– Не надо. Уходите, не действуйте на нервы.
Человек направляется к дверям, Пепе идет следом. Оба выходят на улицу. Холодно, прохожие ускоряют шаг. Газетчики выкрикивают названия вечерних газет. По улице Фуэнкарраль, печально, надрывно, почти зловеще грохоча, идет трамвай.
Человек этот не из простых, не какой-нибудь бродяга, невежда, не серый, незаметный человек из толпы, какими хоть пруд пруди. У него на правой руке татуировка, в паху шрам. Он кончил курс в университете, переводит кое-что с французского. Внимательно следит за всеми приливами и отливами интеллектуальной и литературной жизни, кое-какие статьи из «Эль соль»[7] он мог бы еще и теперь чуть не наизусть повторить. В юности у него была невеста швейцарка, тогда он сочинял ультрамодернистские стихи.
Чистильщик беседует с доном Леонардо.
– Мы, Мелендесы, – говорит ему дон Леонардо, – древний ствол, находящийся в родстве с самыми исконными кастильскими фамилиями; некогда мы распоряжались судьбами и достоянием людей. Теперь же, видите сами, я почти выброшен на la rue[8]!
Чистильщик смотрит на дона Леонардо с восхищением. Тот факт, что дон Леонардо его ограбил, присвоил его сбережения, видимо, наполняет его восторгом и преданностью. Нынче дон Леонардо разговорился, и чистильщик, млея от счастья, кружит у его стула, как комнатная собачонка. Правда, бывают дни менее удачные, когда дон Леонардо и не глядит на него. В такие злополучные дни чистильщик подходит на цыпочках, заговаривает униженно, еле слышным голосом:
– Что вы сказали?
Дон Леонардо даже не отвечает. Но чистильщик, не смущаясь, снова обращается к нему:
– Ну и холодный же денек!
– М-да.
Тогда чистильщик расплывается в улыбке. Он счастлив, он готов отдать еще шесть тысяч дуро, только чтобы с ним были любезны.
– Позвольте немного навести глянец?
Чистильщик становится на колени, и дон Леонардо, который обычно даже не удостаивает его взглядом, нехотя ставит ногу на железную подставку на его ящике.
Но сегодня все по-иному. Сегодня дон Леонардо в хорошем настроении. Наверно, у него наметился в общих чертах предварительный проект какого-нибудь крупного акционерного общества.
– В былые времена, о, mon Dieu[9], если кто-нибудь из нашей семьи появлялся на бирже, ни один человек не покупал и не продавал, пока не увидит, что делаем мы.
– Да, удивительное дело!
Дон Леонардо неопределенно кривит рот, выписывая рукой в воздухе какие-то иероглифы.
– Нет ли у вас курительной бумаги? – спрашивает он у человека за соседним столиком. – Хотел, видите ли, свернуть сигарету и, вдруг оказывается, не захватил бумаги.
Чистильщик молчит, не вмешивается – он знает, что ему так положено.
Донья Роса подходит к столику Эльвириты, которая тоже наблюдала за препирательством официанта с человеком, не заплатившим за кофе.
– Вы видали, Эльвирита?
Сеньорита Эльвира мгновение медлит с ответом.
– Бедный парень. Наверное, весь день ничего не ел.
– Вы тоже с сантиментами? Хороши бы мы были! Клянусь, сердце у меня мягкое, как мало у кого, но терпеть такую наглость!..
Эльвира не знает, что ответить. У бедняжки и впрямь добрая душа, она ведет такую жизнь, только чтобы не умереть с голоду, по крайней мере не умереть слишком быстро. Трудиться она не научилась, к тому же у нее ни красоты, ни тонких манер. Ребенком она в своей семье ничего, кроме унижений и горя, не видела. Родом Эльвирита из Бургоса, ее отец был забулдыга и буян, звали его Фидель Эрнандес. Этого Фиделя Эрнандеса, который убил свою жену Эудосию сапожной колодкой, присудили к гарроте и казни в 1909 году. Он еще сказал: «Кабы я подсыпал ей мышьяку в суп, так сам Господь Бог ни о чем бы не проведал». Эльвирите, когда она осталась сиротой, шел двенадцатый год, и ее взяла к себе в Вильялон бабушка, которая кормилась тем, что ходила с кружкой по домам побираться. Старуха изрядно бедствовала, а когда казнили ее сына, стала вся опухать и вскоре умерла. Девчонки на улице дразнили Эльвириту, показывали ей на позорный столб, приговаривая: «Вот у такого же столба твоего папашу удушили, дрянь паршивая!» Пришел день, когда Эльвирите стало невмоготу, и она сбежала из деревни с астурийцем, приезжавшим по праздникам торговать засахаренным миндалем. Два долгих года странствовала она с ним, но так как он нещадно ее избивал, то в один прекрасный день, очутившись в Оренсе, она ушла в публичный дом Плешивой на улице Вильяр, а там сдружилась с дочкой некой Супоросой, жены дровосека во Франселосе, близ Рибадавии, – у той было двенадцать дочерей, и все гулящие. С тех пор пошла у Эльвиры жизнь веселая – пой, пляши да с голодухи в кулак свищи.
Эта жизнь ее несколько ожесточила, но не слишком. По натуре она была доброй и по-своему даже гордой.
Дону Хайме Арсе наскучило сидеть без дела, откинувшись на спинку стула, глядя в потолок и размышляя о всякой чепухе, он выпрямляется и заговаривает с молчаливой женщиной, схоронившей сына, с той самой женщиной, которая смотрит на суету человеческую из-под винтовой лестницы, ведущей в бильярдную.
– Все это выдумки… Организация плоха… Конечно, не отрицаю, бывают и ошибки. Но это не так важно, поверьте. Банки работают из рук вон плохо, нотариусы перед всеми лебезят, торопятся скорей покончить с делом и устраивают такую неразбериху, что сам черт ногу сломит.
Дон Хайме с изысканной скорбью прикрывает глаза.
– Потом начинается: протесты, споры и прочая мура.
Дон Хайме Арсе говорит медленно, немногословно, почти торжественно. Он следит за своими жестами, делает между словами паузы, как бы наблюдая за эффектом, который они производят, и при этом взвешивая и рассчитывая каждое слово. По-своему он даже искренен. Мать погибшего сына слушает его молча, с видом совершенной дурочки – таращит глаза, да так странно, будто вовсе не слушает, а только старается не заснуть.
– Вот так-то, сеньора, а все прочее, скажу я вам, все прочее – это сущая дребедень.
Дон Хайме Арсе говорит очень гладко, хотя, случается, вставляет в отлично скроенную фразу грубоватые словечки, вроде «мура», «дребедень» и тому подобное.
Дама глядит на него, ничего не говоря. Она только качает головой вперед-назад, но и эти кивки ничего не выражают.
– А теперь – сами посудите! – я стал притчей во языцех. Если бы моя покойница матушка это видела!
Когда дон Хайме дошел до «скажу я вам», женщина, вдова Санса, донья Исабель Монтес, начала думать о своем покойном муже, каким она с ним познакомилась – изящном, стройном молодом человеке двадцати трех лет, с красивой осанкой и нафабренными усами. Смутное ощущение счастья согрело ее душу, и лицо доньи Исабели озарилось робкой, мимолетной улыбкой. Затем она вспомнила о бедняжке Пакито, о том, какое у него было во время менингита бессмысленное выражение лица, и вдруг погрустнела.
Дон Хайме Арсе, который было прикрыл глаза, чтобы придать выразительность фразе «Если бы моя покойница матушка это видела!», воззрился на донью Исабель и участливо спросил:
– Вы себя плохо чувствуете, сеньора? Вы немного бледны.
– Нет, ничего, спасибо. Так, всякое приходит в голову!
Дон Пабло, будто против воли, нет-нет да и взглянет искоса на сеньориту Эльвиру. Хоть у них все кончено, он не может забыть времени, проведенного с нею. Да, надо признать, она была с ним мила, покорна, предупредительна. Перед людьми дон Пабло делал вид, будто презирает ее, называл грязной тварью и проституткой, но в душе чувствовал иное. Когда дону Пабло случалось втайне разнежиться, он думал: «Нет, это не от похоти, это говорит сердце». Потом тут же о ней забывал и, наверно, ничуть бы не потревожился, если б она умирала от голода или проказы. Таков уж дон Пабло.
– Слушай, Луис, что там произошло с этим молодым человеком?
– Ничего, дон Пабло. Он просто не хотел уплатить за кофе.
– Никогда бы не подумал, на вид такой приличный.
– Не судите по внешности – жуликов да нахалов сейчас полно.
Донья Пура, жена дона Пабло, говорит:
– Конечно, жуликов да нахалов сколько угодно, это правда. Да как их отличишь! А надо было бы, чтобы все люди трудились, как бог велит. Верно, Луис?
– Пожалуй, да, сеньора.
– То-то же. Тогда бы все было ясно. Трудишься – заказывай себе кофе, а если хочешь, и сдобную булочку; а кто не трудится… Ну что ж, кто не трудится, тех и жалеть нечего. Мы-то все не сидим сложа руки.
Донья Пура очень довольна своей тирадой – отлично прозвучало.
Дон Пабло оборачивается к даме, которую напугал кот.
– С этими типами, не желающими платить за кофе, нужно быть очень, очень осторожным. Никогда не знаешь, на кого нападешь. Вот выставили его на улицу, а он, может, гений, настоящий, как говорится, гений, какой-нибудь там Сервантес или Исаак Пераль[10], а может, и плут бессовестный. Да я бы сам уплатил за его кофе. Для меня это не вопрос, чашкой кофе больше или меньше.
– Конечно.
Дон Пабло ухмыляется, как человек, вдруг осознавший свою бесспорную правоту.
– Да, с бессловесными тварями такого не бывает. Бессловесные твари – они честнее, они никогда не обманут. Вот этот красавец котик – хе-хе! – вы так испугались его, а он ведь божья тварь, он просто хотел поиграть, всего только поиграть.
Лицо дона Пабло расплывается в благодушной улыбке. Если бы вскрыть ему грудь, оказалось бы, что сердце у него черное и вязкое, как деготь.
Пепе возвращается через несколько минут. Хозяйка ждет, держа руки в карманах фартука, расправив плечи и расставив ноги; она подзывает его скрипучим, хриплым голосом, который напоминает дребезжащий звук надтреснутого колокола.
– Иди-ка сюда.
Пепе не смотрит ей в глаза.
– Что прикажете?
– Всыпал ему?
– Да, сеньорита.
– Сколько?
– Два.
Хозяйка щурит глазки за стеклами пенсне, вынимает руки из карманов и гладит себя по лицу, где из-под слоя пудры пробиваются щетинки бороды.
– Куда дал?
– Куда пришлось, по ногам.
– Правильно. Чтоб запомнил. Теперь ему в другой раз не захочется воровать деньги у честных людей.
Донья Роса стоит, сложив пухлые руки на вздутом, как мех с оливковым маслом, животе – воплощение враждебности сытого к голодному. Наглецы! Собаки! На ее сосископодобных пальцах весело, почти злорадно играют блики от лампочек.
Пепе удаляется, смиренно опустив глаза. Совесть у него спокойна, хотя он сам этого не сознает.
Дон Хосе Родригес де Мадрид беседует с двумя друзьями, играющими в шашки.
– Ну что вам сказать, восемь дуро, восемь паршивых дуро. А люди уж растрезвонили.
Один из игроков улыбается.
– И смотреть не на что, так ведь, дон Хосе?
– Тьфу, пустяк. Куда пойдешь с восемью дуро?
– Ясное дело. На восемь дуро много не купишь, это верно. Но все-таки, скажу я вам, в доме все сгодится, кроме пощечины.
– Да, и это правда. К тому же достались они мне безо всякого труда…
Скрипачу, которого выставили на улицу за спор с доном Хосе, восьми дуро хватило бы на неделю. Ел он мало, брал что подешевле, курил, только когда угощали, восьми дуро ему, конечно, хватило бы на целую неделю. Но что говорить, нашлись бы люди, которым и на дольше бы хватило.
Сеньорита Эльвира подзывает продавца сигарет:
– Падилья!
– Иду, сеньорита Эльвира!
– Два «Тритона», завтра уплачу.
– Пожалуйста.
Пепе достает два «Тритона» и кладет на стол перед сеньоритой Эльвирой.
– Одну я беру на потом, после ужина, понимаешь?
– Да-да, вы же знаете, вы у меня пользуетесь кредитом. – Продавец сигарет галантно осклабился. Сеньорита Эльвира тоже улыбнулась.
– Слушай, можешь передать Макарио мою просьбу?
– Конечно.
– Скажи ему, пусть сыграет «Луису Фернанду», я очень прошу.
Продавец сигарет, шаркая, идет к эстраде, где музыканты. Один из посетителей уже несколько минут переглядывается с Эльвиритой и наконец решается завязать разговор.
– Сарсуэлы[11] очень приятно смотреть, не правда ли, сеньорита?
Сеньорита Эльвира отвечает гримаской. Мужчину это не смутило, он толкует гримаску как выражение симпатии.
– Очень трогательные бывают, правда?
Сеньорита Эльвира прикрывает глаза. Мужчина воодушевляется.
– Вы любите театр?
– Если пьеса хорошая…
Мужчина разражается смехом, будто услышал остроумнейшую шутку. Слегка закашлявшись, он предлагает огоньку сеньорите Эльвире и говорит:
– Конечно, конечно. А кино? Кино вы тоже любите?
– Иногда…
Мужчина делает невероятное усилие, от которого краснеет до ушей, и произносит:
– Когда в зале темно-темно, да?
Сеньорита Эльвира отвечает осторожно и с достоинством:
– Я хожу в кино, только чтобы смотреть фильм.
Мужчина поспешно соглашается.
– Ну ясно, конечно, я тоже… Я это сказал, имея в виду молодежь, знаете, молодые парочки… Все мы были молодыми!.. Я замечаю, сеньорита, что вы много курите. Мне нравится, когда женщины курят, право же, очень нравится. В конце концов, что в этом дурного? Самое правильное – предоставить каждому жить, как он хочет, вы согласны? Я это говорю, потому что, если разрешите – сейчас-то я должен уйти, я очень спешу, но надеюсь, мы в другой раз еще встретимся и продолжим нашу беседу, – так вот, если разрешите, я хотел бы… хотел бы преподнести вам пачку «Тритона».
Мужчина говорит торопясь, сбивчиво. Сеньорита Эльвира отвечает ему несколько свысока, с видом женщины, уверенной в себе.
– Пожалуйста… Я не против. Если уж вам так вздумалось!
Мужчина подзывает продавца, берет пачку сигарет; вручив ее с любезнейшей улыбкой сеньорите Эльвире, надевает пальто, шляпу. Перед уходом он говорит:
– Очень, очень был рад познакомиться, сеньорита. Леонсио Маэстре, к вашим услугам. Как я уже сказал, мы еще встретимся. Уверен, что мы будем добрыми друзьями.
Хозяйка зовет шефа. Его фамилия Лопес, Консорсио Лопес, родом он из Томельосо в провинции Сьюдад-Реаль – большой, красивой и зажиточной деревни. Лопес молод, недурен собой, одет даже изящно, у него крупные кисти рук и низкий лоб. Он чуточку лодырь, на гневное брюзжание доньи Росы и ухом не ведет. «Этой бабе, – говорит он, – надо дать выговориться – сама умолкнет». Консорсио Лопес – философ, и, надо сказать, его житейская философия идет ему на пользу. Еще до приезда в Мадрид, лет десять-двенадцать тому назад, в Томельосо, брат девушки, с которой он крутил любовь и на которой, сделав ей двух близнецов, не захотел жениться, сказал ему: «Или ты женишься на Марухите, или я при первой же встрече отчекрыжу тебе кое-что». Жениться Консорсио не хотел, но и кастратом ему тоже стать не улыбалось – он сел на поезд и прикатил в Мадрид; дело это, видимо, постепенно забылось, больше никто его не тревожил. В своем бумажнике Консорсио всегда носил две фотографии малюток-близнецов – одну, где они в возрасте всего нескольких месяцев голенькие лежат на подушке, и другую, сделанную после первого причастия; прислала фотографии его бывшая возлюбленная Марухита Ранеро, ныне сеньора де Гутьеррес.
Как мы уже говорили, донья Роса позвала шефа:
– Лопес!
– Иду, сеньорита.
– Как там у нас с вермутом?
– В порядке, пока в порядке.
– А с анисовой?
– Не очень. Уже на исходе, а спрашивают.
– Пусть пьют что-нибудь другое! Я теперь не намерена влезать в расходы, просто не желаю. Подумаешь, еще требуют! Слушай, ты закупил это самое?
– Сахар?
– Вот-вот.
– Завтра доставят.
– И они согласились по четырнадцать с половиной песет?
– Да. Просили по пятнадцать, но мы договорились, что на круг скинут по два реала.
– Хорошо. А там – сам знаешь: в лапу, и все шито-крыто. Понятно?
– Да, сеньорита.
Юный поэт, глядя в потолок, грызет кончик карандаша. Он из тех, кто сочиняет стихи «с идеей». На сегодняшний вечер идея у него есть. Не хватает рифм. Кое-что он уже набросал. Теперь подбирает хорошую рифму к слову «новь», только не «бровь» и не «морковь». «Любовь» уже звучит у него в ушах. «Кровь» тоже.
– Я заключен в темницу будней, в раковину пошлых будней. Твои лазурные глаза… Я сильным быть хочу, могучим. Лазурные, как небо, глаза… Творенье убивает человека, иль человек убивает свое творенье. О ты, златокудрая… Умереть! Да, умереть! И оставить небольшую книжечку стихов. О, как ты прекрасна, прекрасна!..
Юный поэт бледен, очень бледен, на скулах горят два красных пятна, два небольших красных пятна.
– Твои лазурные глаза… Новь, новь, новь. Лазурные, как небо, глаза… Бровь, морковь, бровь, морковь. О, златокудрая… Любовь. Вернулась вдруг любовь. Твои лазурные глаза… Трепещет радостно любовь. Лазурные, как небо, глаза… Как бурный водопад, любовь. Твои лазурные глаза… И вот она, безбрежная любовь. Твои лазурные глаза… Струится жарко в жилах кровь. Твои лазурные глаза… Твои лазурные… Какие у нее глаза?.. Опять закат багрян, как кровь. Глаза… При чем тут глаза?.. Тара-тара-тара-тата, любовь…
Юноша вдруг чувствует, что зал плывет у него перед глазами.
– Обнять весь мир готова моя любовь. Прекрасно…
Он слегка пошатывается, как в опьянении, ему кажется, что кровь горячей волной прилила к вискам.
– Мне что-то не… Может быть, мама… Да, кровь, кровь… Парит мужчина в высоте над обнаженной девой… Что, бровь?.. Нет, не бровь… И я скажу ей: никогда!.. Весь мир, весь мир… Прекрасно, превосходно…
За столиком в глубине зала две пенсионерки, размалеванные, как клоуны, беседуют о музыкантах.
– Он настоящий артист, слушать его – истинное наслаждение! Покойный мой Рамон, царство ему небесное, говорил: «Ты только обрати внимание, Матильда, как изящно он подносит скрипку к подбородку». Подумайте, что за жизнь! Были бы у этого юноши покровители, он бы далеко пошел.
Донья Матильда закатывает глаза. Она толста, неопрятна и с претензиями. От нее дурно пахнет, чудовищный водяночный живот выпирает горой.
– Это настоящий артист, художник!
– О да, вы правы. Я весь день думаю о той минуте, когда услышу его. Я тоже считаю его настоящим артистом. Когда он играет вальс из «Веселой вдовы», это умопомрачительно, слушаешь и чувствуешь себя другим человеком.
Донья Асунсьон по-овечьи покорно со всеми соглашается.
– Не правда ли, прежде музыка была другая? Более изящная, трогательная.
У доньи Матильды есть сын, мечтающий стать знаменитостью, он живет в Валенсии.
У доньи Асунсьон – две дочери: одна замужем за мелким служащим в министерстве общественных сооружений, зовут его Мигель Контрерас, он любит выпить; другая незамужняя, но характер у нее боевой, она живет в Бильбао с женатым преподавателем.
Ростовщик утирает мальчику рот носовым платком. У малыша блестящие, живые глазки, одет он небогато, но довольно нарядно. Он выпил две чашки кофе с молоком, съел две булочки и, видно, не прочь еще.
Дон Тринидад Гарсиа Собрино сидит с невозмутимым видом. Он человек мирный, любит порядок, хочет жить спокойно. Внучек его похож на тощего цыганенка со вздутым животиком. На малыше вязаная шапочка и рейтузы – этого ребенка очень кутают.
– Молодой человек, что с вами? Вам дурно?
Юный поэт не отвечает. Глаза у него широко раскрыты, взгляд блуждает, он будто онемел. Поперек лба повисла прядь волос.
Дон Тринидад усаживает малыша на диван и берет поэта за плечи.
– Вы больны?
Несколько голов поворачивается к ним. Поэт улыбается тупой, бессмысленной улыбкой.
– Послушайте, помогите мне его приподнять. Видно сразу, человеку дурно.
Ноги поэта скользят, он валится под стол.
– Да поддержите же его, я не могу справиться один.
Кто-то встает из-за столика. Донья Роса у стойки глядит на происшествие.
– Есть из-за чего шум подымать…
Падая под стол, поэт сильно стукнулся лбом.
– Поведемте его в туалет, у него, верно, обморок.
Пока дон Тринидад и еще три-четыре посетителя волокут поэта в уборную, чтобы он там пришел в себя, внучек жадно подбирает оставшиеся на столе крошки сдобной булочки.
– Запах дезинфекции приведет его в чувство, это, конечно, обморок.
Поэт сидит в уборной на унитазе и, опершись головой о стенку, блаженно улыбается. Сам того не сознавая, он счастлив в душе.
Дон Тринидад возвращается к своему столику.
– Прошло у него?
– Да, прошло, это просто обморок.
* * *
Сеньорита Эльвира возвращает продавцу две сигареты.
– А вот еще одна для тебя.
– Спасибо. Подвезло, а?
– Ха! С таким везением…
Падилья как-то обозвал одного кавалера сеньориты Эльвиры кобелем, и сеньорита Эльвира обиделась. С тех пор он держится более почтительно.
Дона Леонсио Маэстре чуть не переехал трамвай.
– Осел!
– Сам ты осел, дурак несчастный! О чем задумался?
Дон Леонсио Маэстре задумался об Эльвирите.
«Миленькая, очень миленькая. О да! И на вид девушка не простая. Нет, она не шлюха. Сразу заметно! Да, любая жизнь – это целый роман. Видимо, девушка из хорошей семьи, поссорилась с родными. Теперь, наверно, служит в конторе, возможно, какой-то фирмы. Лицо у нее грустное, нежное; ей, видно, больше всего нужна ласка, чтобы ее баловали, чтобы весь день ею любовались».
Сердце дона Леонсио Маэстре так и прыгает под сорочкой.
«Завтра опять пойду туда. Да, да, обязательно. Если она будет в кафе, это хороший знак. А если нет… Если нет… Будем ее искать!»
Дон Леонсио Маэстре поднял воротник пальто и легонько подскочил два раза.
«Эльвира, сеньорита Эльвира. Приятное имя. Надеюсь, пачка «Тритона» доставила ей удовольствие. Как закурит, вспомнит обо мне… Завтра повторю ей свое имя. Леонсио, Леонсио, Леонсио. Она-то, наверное, придумает для меня что-нибудь понежней, уменьшительное от Леонсио. Лео. Онсио. Онсете… Выпью-ка стаканчик, что-то вдруг захотелось».
Дон Леонсио Маэстре зашел в бар и выпил у стойки стакан вина. Рядом, сидя на табурете, ему улыбалась девушка. Дон Леонсио повернулся к ней спиной. Смотреть на эту улыбку было бы изменой, первой изменой его Эльвирите.
«Нет, не Эльвирите – Эльвире. Простое, красивое имя».
Девушка, сидевшая на табурете, все же обратилась к нему.
– Дашь мне огоньку, ты, хмурик?
Дон Леонсио чуть не с дрожью поднес ей зажигалку. Уплатил за вино и торопливо выбежал на улицу.
«Эльвира… Эльвира…»
Донья Роса, прежде чем отпустить шефа, спрашивает:
– Ты музыкантам дал кофе?
– Нет.
– Так распорядись, они, кажется, устали. Бездельники никчемные!
Музыканты на эстраде тянут последние такты отрывка из «Луисы Фернанды», той прелестной песенки, которая начинается словами:
Среди дубовой рощи в Эстремадурн милой стоит мой домик старый, где мир и тишина.
До этого они играли «Музыкальный момент», а еще раньше – «Девушку с пучком роз» по заказу одной из «красоток Мадрида, прелестных, как вербена».
К ним подходит донья Роса.
– Я велела, чтобы вам принесли кофе, Макарио.
– Благодарю, донья Роса.
– Не за что. Вы же знаете, мое слово свято, я говорю только один раз.
– Конечно, знаю, донья Роса.
– То-то же.
У скрипача большие, выпуклые глаза скучающего быка. Свертывая сигарету, он глядит на хозяйку – рот его презрительно кривится, руки дрожат.
– И вам, Сеоане, тоже принесут кофе.
– Хорошо.
– Послушайте, милый мой, да вы не слишком вежливы!
Макарио вмешивается, чтобы разрядить атмосферу.
– У него желудок болит, донья Роса.
– Но это не причина, чтобы быть грубияном. Нечего сказать, воспитание у этих людей! Когда хочешь им слово сказать, они тебя по зубам, а когда оказываешь любезность и они, кажется, должны быть довольны, только изволят сказать «хорошо», будто маркизы какие. Да, дела!
Сеоане молчит, меж тем как его товарищ заискивающе улыбается донье Росе. Потом Сеоане спрашивает у посетителя за ближайшим столиком:
– Ну, как тот парень?
– Он в туалете, приходит в чувство. Так, пустяк.
* * *
Вега, издатель, протягивает кисет угодливому человечку за соседним столиком.
– Берите, сверните сигарету и не хнычьте. Мне приходилось хуже, чем вам, и я, знаете, что сделал? Начал трудиться.
Сосед заискивающе улыбается, как ученик перед учителем, совесть у него нечиста, и, что еще хуже, он этого не сознает.
– Значит, честно заслужили!
– Верно, приятель, верно, надо трудиться и больше ни о чем не думать. Теперь, сами видите, у меня всегда и сигара есть и рюмочка к ужину.
Собеседник кивает головой, смысл этого кивка неясен.
– А если я вам скажу, что хотел бы трудиться, да места нет?
– Вот еще! Чтобы трудиться, нужно только одно – желание. Вы уверены, что у вас есть желание трудиться?
– Что тут спрашивать!
– Так почему бы вам не взяться подносить чемоданы на вокзале?
– Я бы не смог, через три дня надорвался бы. Я бакалавр…
– И какой вам с этого толк?
– Да по правде сказать, небольшой.
– То, что с вами происходит, друг мой, происходит со многими из тех, что сидят сложа руки в кафе и пальцем не шевельнут. В конце концов в один прекрасный день они падают в обморок, как этот блажной мальчишка, которого увели в туалет.
Бакалавр возвращает кисет, спорить он не собирается.
– Благодарю.
– Пустяки, не за что. Вы на самом деле бакалавр?
– Да, сеньор, имею диплом по третьему циклу.
– Прекрасно, так я вам предоставлю возможность не подохнуть в приюте или в очереди у ночлежки. Хотите трудиться?







