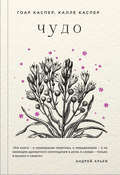Калле Каспер
Ода утреннему одиночеству
От переводчика
Эта рукопись попала ко мне случайно. Мне позвонила актриса К., сказала, что некий ее знакомый, армянский писатель, прислал ей экземпляр своего нового романа и попросила, чтоб я его прочел. Я ответил, что не знаю армянского, но К. объяснила, что вещь эта написана на русском языке. Уже из-за проведенных некогда вместе прекрасных мгновений я не смог отказать ей в просьбе. К своему удивлению я обнаружил, что роман довольно любопытен. Одна из его частей, к сожалению, не очень большая, была посвящена Эстонии, да и в прочем тексте нашлось немало параллелей с нашей жизнью.
Вот почему я перевел рукопись на эстонский язык. Я проделал и работу комментатора, что было нелегко, и дало мне повод самокритично поразмышлять над тем, как мало я знаю о народе, с которым прожил столько лет в одном государстве. Намеки на творчество русских поэтов Сергея Есенина и Осипа Мандельштама из-за нехватки времени остались без комментариев.
Ю. Ю.
Часть первая
Академия
Что знает публика, широкая, но лишенная способности наблюдать публика, которая только с огромным трудом узнает по зубам ткача и по большому пальцу левой руки наборщика, о тончайших оттенках анализа и дедукции?
А. Конан-Дойль
1
Когда-то я был писателем. Правда, моментами я начинаю в этом сомневаться, но на такой случай у меня всегда под рукой членский билет Союза писателей некого канувшего в Лету государства, я раскрываю его и встречаю взгляд молодых, немножко наивных глаз армянина – лица кавказской национальности, как нас ныне и здесь принято называть. Свое трудно произносимое имя Трдат я унаследовал от армянского царя, которого превратили в вепря за то, что он не хотел принять христианства. Случилось это почти тысячу семьсот лет назад, но о прогрессе в том, что касается свободы мысли, лучше говорить не будем, потому что если на сей день для навязывания своих убеждений подобными методами не пользуются, то не от недостатка желания, а лишь из-за утери навыков.
О своих родителях и истории рождения я рассказывать не стану, не потому что я согласен с тем американским писателем, который именует это «бредом в духе Дэвида Копперфильда» – наоборот, скорее, его манеру повествования можно назвать дикостью в духе Холдена Коулфилда, а просто оттого, что писатель, по моему мнению, должен писать о том, что ему причиняет боль, отец и мать же для меня, как и большинства армян вообще, были источником только так называемых положительных эмоций. Впрочем, одно обстоятельство, а именно, то, в каком государстве я родился, мне все-таки придется отметить отдельно, поскольку оно в моей жизни определило очень многое. Если бы Советского Союза не существовало, я, скорее всего, появился бы на свет либо в маленькой армянской республике, либо в Эриванской губернии Российской империи, либо, наконец, в государстве, созданном младотурками, притом в последнем случае меня легко могло вообше не быть, сейчас же я есть, и ничто не мешает мне смело говорить о детстве, как о счастливейшей поре своей жизни. Правда, оно ничем не напоминало знакомую нам по русской или французской литературе идиллию, где вокруг тебя вьются служанки и гувернантки, кучер сажает тебя на пони, а мать, перед тем, как ехать на бал, заглядывает мимоходом в детскую, целует твой лобик и желает спокойной ночи, но, как воспитанный в духе советских идеалов ребенок, я себе такой роскоши и не пожелал бы.
Проблемы, если воспользоваться одним из самых модных слов двадцатого века, возникли позже, в сущности, лишь тогда, когда у меня обнаружились определенные, скажем так, литературные способности. В независимой Армении из меня писателя, скорее всего, не вышло б вовсе, поскольку экономические возможности вряд ли позволили б этому осуществиться. Теперь же мой отец, простой советский инженер, оказался в состоянии заполнить шкафы в нашей гостиной книгами, с чего все и началось. Больше всего мне нравились научно-фантастические рассказы, и мои первые подражания были именно в этом жанре. Писать я, кстати, стал не на армянском языке, а на русском, потому что, как многие из моего поколения, ходил в русскую школу, а потом учился в университете русской филологии. Когда я начал сочинять более самостоятельно, я сохранил верность избранному однажды жанру и стал изображать окружающее так, словно все происходит на какой-то другой планете. Впрочем, кажется, я писал слишком правдиво, потому что редакторы вечно делали в моих рассказах множество исправлений, и только уважение к людям, старшим по возрасту, удерживало меня от того, чтобы с ними ссориться.
Вот и получилось, что моя первая книга весьма меня разочаровала, но от литературы я все-таки не отказался. Возможно, это было и наперекор жене – после окончания университета я успел жениться – которая хотела отвадить меня от писательства. Это может показаться странным, женщины ведь тщеславны, и им должно быть приятно показать подругам только что вышедшую книгу мужа, но моя Анаит была армянской патриоткой, и муж, пишущий на русском языке, не соответствовал ее идеалам. Нас свел пыл юности, но к тому времени, когда в Союзе писателей мне предложили поехать в Москву учиться на киносценариста (с чего я, собственно, и начну свой рассказ), у нас не было более ничего общего, кроме квартиры и Геворка, которому тогда уже исполнилось пять лет.
Метрополию я наивно представлял себе, как место, где цензура либеральнее, а возможностей прославиться больше, посему был готов немедленно отправиться в путь. Анаит, возможно, и отпустила бы меня с миром, но вмешалась ее младшая сестра Жизель, которая меня совершенно не выносила. Главный аргумент, был, естественно, подсказан ревностью: нельзя ведь надеяться, что мужчина вдали от дома сможет столь долго хранить супружескую верность. Но nota bene! Если жена хочет, чтобы муж ради нее по доброй воле от чего-то отказался, ей не следует ныть и ворчать, ибо это может вызвать в мужчине лишь отвращение. Анаит надеялась найти себе союзницу в лице моей матери, но и это у нее не получилось. Для мамы все связанное с моей писательской профессией было свято, она даже устроила в углу гостиной небольшую выставку из моих книг и фотографий всех возрастов, что, конечно, уже чересчур, но при всем при том меня умиляет до сегодняшнего дня. Поэтому понятно, что на жалобы Анаит она не отреагировала, а, вернее, даже попеняла невестке, что та смеет мешать самореализации мужа.
– Он ведь не веселиться туда едет, а учиться! – выговаривала она Анаит и была права, по крайней мере, частично, учитывая, что я был практически трезвенником. Однако, против встречи, к примеру, с Катрин Денев я не имел бы ровно ничего.
2
Наверно, долго распространяться насчет того, как в начале последних десяти лет существования советского государства выглядела его столица, смысла нет, объяснять какому-либо действительно новому, не из нуворишей, которые не что иное, как те же советские люди, а русскому новой генерации, начавшему ходить в школу только после августовской революции, что могли быть времена, когда иностранным пивом и не пахло, слишком неблагодарная задача: человечество никогда не славилось даром фантазии. Архитектурно город ведь почти тот же, нескольких новых банков и церквей еще недостаточно, чтоб изменить общие очертания, и повторяется один из парадоксов мировой истории, согласно которому всякое новое поколение вынуждено жить в среде, созданной его предшественниками.
Особенно скверно в этом городе жили женщины, которым вечно приходилось толкаться в какой-нибудь очереди, чтобы кормить семью, но разве хоть в каком-то уголке того государства они жили иначе? По сравнению с остальной территорией Советского Союза в Москве и тогда, конечно, было немало товаров, например, советских макарон, описывать которые мои эстетические принципы не позволяют, или бюстгальтеров того же происхождения, одним своим видом заставлявших потухнуть эротический огонек в каждом нормальном мужчине.
И все же в этой цитадели аскетизма было и свое очарование, по крайней мере, для человека, чьи удовольствия не обязательно связаны с американскими сигаретами, готового ковылять на работу и обратно в туфлях фабрики «Скороход» и отдыхать не на Канарах, а у бабушки в деревне, если только он может спокойно отдаться своему призванию, например, литературе, и не должен зарабатывать на хлеб, интервьюируя идиотов, как я в своей новой, постсоветской жизни.
Выделка советского человека, в процессе которой вместо рубанка использовались лагеря, а наждачную бумагу заменил моральный кодекс строителя коммунизма, к тому времени, о котором идет речь, то есть последней стадии речевого дефекта Брежнева, была если не завершена, ибо завершение художественного произведения вообще вещь сомнительная, то по крайней мере доведена до такой степени обработки, когда наиболее близким друзьям уже позволяют мельком взглянуть на результат; и знаете, там даже было на что посмотреть. Возьмем хотя бы абсолютную послушность новосозданного существа, которое позволяло составлять из себя всевозможные многофигурные композиции, начиная от майской демонстрации и кончая слезинкой олимпийского медвежонка Миши, но в тоже время в большинстве своем не убивало и не грабило, крало, в основном, у государства, а развратничало и вовсе бесплатно, от спонтанной жажды жизни. Трогательно также то, как это государство стимулировало многочисленные виды деятельности, не имевшие ничего общего с реальной жизнью и ее нуждами: десятки, если не сотни тысяч людей изучали античную историю, языки индейцев, астроорнитологию и балетный синтаксис, либо просто играли в шахматы вместо того, чтобы продавать на углу мороженые куриные ножки или, напялив форму охранника, стоять в почетном карауле рядом с входом в универмаг. Никто не способен сосчитать, сколько юношей и девушек получали зарплату только за то, что бегали стометровку лишь на две секунды медленнее мирового рекорда и потому были необходимы заводам и фабрикам для участия в городском чемпионате, так же, как и сопрано и баритоны, одолевавшие в составе хоров тысячи километров, дабы блеснуть на фестивале самодеятельности.
Про нашу Киноакадемию писатели самых разных национальностей за несколько десятилетий понаписали столько, что я не осмелился бы к этому что-либо добавить, если бы именно там не подняли бы мою самооценку хотя бы тем особым вниманием, которое нам оказывали, демонстрируя заснятые тайком на различных кинофестивалях и рекламных показах, иными словами, украденные фильмы.
Руководство Академии, ее, если можно так выразиться, директорат, состояло из жен и родственниц государственных мужей, которые не имели дворянских титулов только по нелепой прихоти системы – ведь при трезвом размышлении нельзя не признать, что самый наистарейший из аристократов неизбежно является потомком парвеню. В каретах наши Меровинги и Каролинги, ввиду развития науки и техники, на работу уже не ездили, а пользовались для этой цели самыми обыкновенными черными «Волгами», от которых изрядно несло бензином, но от этого неудобства можно было избавиться с помощью личного источника аромата, французского, естественно, происхождения. Осенью лица великой княгини Кукушкиной, княгини Сулейменовой и графини Ермоловой украшал крымский загар, и благодаря запланированному (плановое хозяйство!) курортному роману, им даже удавалось некоторое время производить впечатление, что находятся они здесь из интереса к учебной работе, а не ради удовольствия опекать молодых талантливых мужчин. Свою благодарность власти, которая одарила их как механическими каретами и парфюмами, так и морскими купаниями, директорат выражал, воспитывая в нас верность кремлевской мумии и ее идеям. Исторический прогресс был налицо: поколение наших родителей валило в Сибири лес, мы же смотрели, сидя на мягких сидениях в теплом зале, подозрительные фильмы. Пока никто не высказывал по этому поводу никаких сомнений, директорат относился к нам нежно, я бы даже сказал, по-матерински, и вздыхал вместе с нами: ах Висконти, ах, Феллини! Но достаточно было какому-либо академисту задеть бровь генерального секретаря, как пресмыкание перед Западом немедленно прекращалось, и перед нами возникала разъяренная фурия. Рассеянно позванивавшие ключами от кабинетов члены директората и без того больше всего напоминали самых обыкновенных советских тюремщиков, да и чем еще была Академия, если не тюрьмой. Ведь Советский Союз в целом был схож со средневековой Данией, почему же учреждение, созданное по завету Клавдия Второго, назвавшего кино наиважнейшим из всех искусств, должно было выпадать из общего правила.
К счастью, мы были все же как бы на свободном поселении и могли передвигаться без конвоя и поодиночке, хотя большинство курсантов все равно предпочитало циркулировать между общежитием и зданием Академии группами типа обезьяньих стай. Заведение это было сродни знаменитой шарашке, только вместо изобретателей атомной бомбы там собирали будущих авторов намного более сильнодействующей, идеологической. Меня даже удивило, насколько серьезно в Москве относились к борьбе с империализмом – у нас в Армении над этим подшучивали даже апаранцы. Шутливый девиз «миру мир, армянам – деньги», приобретавший у нас нешуточный характер, мне, правда, никогда не нравился, но еще меньше понравилась мне напряженная тишина, наступившая в курилке, когда мой сосед по общежитию литовец Альгирдас стал рассказывать новейший политический анекдот.
Наших преподавателей можно было разделить на две группы: политические и неполитические. К числу первых относился, например, преподаватель такой изящной науки, как научный коммунизм, прочим же надлежало делиться с нами опытом по специальности. Этим они и занимались, всем своим поведением выказывая, что такой пустяк, как общественные проблемы, им, художникам, неинтересен. Однако, хотя эскапистское мировоззрение было избрано ими для выражения жизненной мудрости, со стороны это выглядело обыкновенным страхом. Чтоб спрятать безвольную линию подбородка, преподаватели по мастерству, как один человек, отрастили себе бороды, что при желании можно сервировать и как признак богемности. Петр Аполлинариевич Петухов или Петух, как его для краткости называли, только что завершил съемки в эстетическом смысле филигранного декадентского фильма-баллады о борьбе коренного населения некого южноамериканского государства с колонизаторами. Было нечто особо абсурдное в том, что советский режиссер снимает фильм о прелестях свободы на другом материке. Смуглые метиски выставляли свои стройные конечности из французской (предположительно) пены для ванны, по их фиолетовым соскам текли прощальные слезы верных помощников местной герильи, храбрых советских разведчиков, любовь и долг сталкивались на пейзаже, изобиловавшем кактусами и ослами, столь же драматично, как до этого уже, по крайней мере, в пяти тысячах фильмов. Любимая актриса (в том числе) Петуха, хрупкая Диана Трубецкая спускала – дабы посредством сексуальной жертвы спасти жизнь героя свободы – со своих тонких, похожих на балеринские, ног черные шелковые чулки на фоне белоснежных занавесок, развевавшихся на имитированном с помощью вентиляторов ветру, что символизировало ее душевную чистоту. Увиденное произвело на академистов сильное впечатление, и каждый раз, когда Диана сопровождала Петуха на лекцию, они буквально пожирали ее глазами.
Второго преподавателя, Вениамина Дориановича Нужду, абстракции наподобие свободы не интересовали вообще, он считал, что фильм тем лучше, чем меньше в нем мыслей и чувств, и чем больше инстинктов. «В киноискусстве существует лишь один жанр – вульгарная мелодрама! Главная обязанность режиссера – это поднять уровень адреналина в крови зрителя!» – буквально скандировал он на лекции. Чтобы иллюстрировать свои идеи, он десятками показывал нам американские фильмы, из которых я особо запомнил один со сценой, где молодоженам, обедающим на террасе пятизвездочного отеля, принесли на блюде голову прежней любовницы жениха. Нужда как будто очень жалел, что общество, в котором он живет, недостаточно инспирирует творческий процесс, но поскольку сам он отнюдь не был заинтересован даже в преподнесенном без всякого блюда простеньком выговоре, в своих фильмах он ограничивался изображением героической работы советских спасательных служб.
Моя комната в общежитии находилась высоко, под самым небом, и из нее можно было свободно лицезреть окружающий здание беспросветный урбанистический пейзаж с домами, напоминавшими книжные тома, коробки для обуви и вынутые из комода ящики. Что касается удобств, нельзя не сказать, что тут из душа текла в изобилии как холодная, так и горячая вода, не то что у меня в Ереване, где второй не было совсем, а первую давали четыре часа в сутки, так что приходилось набирать ее в ванну и расходовать с бережливостью. Сама комната была безлична, как любое казенное помещение, но расстелив на диване привезенное из Еревана стеганое одеяло и прикнопив к стене фотографию с изображением Арарата, я почувствовал себя вполне уютно. Правда, мне не очень нравились одинаковые желтые занавески во всех здешних комнатах, но я подумал о том, сколько одинаковых людей пытается отличить себя от других с помощью тканей разного цвета и рисунка, и успокоился. В конце концов, главным было то, что под окном стоял письменный стол – не сравнишь с нынешними временами, когда мне приходится делать эти свои торопливые заметки на свободном от посуды краешке кухонного стола.
Коридор общежития можно было уподобить длинной железной дороге, пересекавшей весь Советский Союз – БАМу, где на каждой паре метров располагалась новая станция (иными словами, еще одна комната), и обитал новый народ. Мир, в котором мы жили, имел свою мифологию – богов, героев и святых, к которым можно было относиться очень по-разному, серьезно или с иронией, с почтением или с презрением, даже с ненавистью (если вы, по несчастью, оказались в родстве с кем-то из миллионов, укоканных властью во имя своих целей), но которые существовали независимо от вашей воли, и спасение от них нельзя было найти даже в тайге. Кремлевская мумия и ее философские тетради, маниакальное возвеличивание пролетариата бородатым стариком-евреем, развитый социализм и диалектический материализм, социалистическое соревнование и нормативы ГТО – все это играло в нашей жизни примерно такую же роль, как олимпийское семейство и его причуды в Древней Греции. Воззрения советского Зевса включали, помимо прочего, и такую ранее известную мысль, что нет эллина (иудеи, увы, все-таки попадались), есть только дружба народов. Наша Академия представляла собой один из храмов такой религии, скрытой целью ее существования было, полагаю, заставить представителей некой науки, которую в одно время вообще не признавали, потому что ее теория исключала массовую талантливость пролетариата (я говорю о генетиках), поверить в рождение новой человеческой породы – советского человека. Казахов посылали учиться мореходству в Риге, украинцев побуждали разводить верблюдов в Туркмении, а эвенкам и ливам объясняли, что такое крупный и что такое общий план. Имеется в виду не план пятилетки, разумеется, а изображение на экране. Наше учебное заведение работало во имя идеала вывести на Каннский фестиваль как осетинское, так и марийское киноискусство. Дело дошло до того, что самих русских в академии было кот наплакал. Некоторым из провинции место еще находилось, но москвич мог попасть сюда, лишь имея родителя – члена ЦК партии или союза кинематографистов. Я ведь тоже был из союзной республики, так сказать, нацмен, и хотя Армения – страна с древней культурой, мне кажется, что будь она независимым государством, там вряд ли бы серьезно занимались кино.
Все это оказалось возможным и потому, что просторы Советского Союза были доступны каждому его гражданину. Называть то общество закрытым совершенно неверно, наоборот, во всем мире не существовало иной территории, взаимно открытой стольким народам. Граница была только одна – та, которая отделяла меня от Катрин Денев, но какая из сторон крепче держала ее на замке, это еще вопрос.
Национальная пестрота представляла интерес и с точки зрения межполового общения. В нашем общежитии (где проживали учащиеся разных академий) мельтешили и малюсенькие желтокожие, словно страдавшие болезнью Боткина, азиатки, и длиннокосые и густобровые украинки, и самоуверенные, с холодным взглядом, прибалтийки и много еще кого. Они вечно катались на лифте вверх-вниз, одним своим присутствием превращая это средство передвижения в нечто вроде будуара, и вели по стоявшим на лестничных площадках телефонам-автоматам, если таковые оказывались в порядке, столь долгие и эмоциональные переговоры, что каждый молодой студент, ранее даже не ведавший, что из себя представляет женский пол, умнел на глазах.
Мой вечно мрачный сосед по секции Альгирдас, встречаясь в коридоре с девицами, мрачнел еще больше, потому что уже трижды состоял в браке и все три раза неудачно. Странным образом все жены Альгирдаса оказались филологинями и отличались друг от друга только по языку, если я правильно помню, очередность была такая: немецкий, французский и литовский. Я посоветовал Альгирдасу поменять, наконец, специализацию, но он только буркнул, что это ни к чему не приведет, потому что «все они одинаковы». Альгирдас смирился с мыслью, что личное счастье не его удел в этой жизни и полностью посвятил себя ниспровержению государства. Даже в Академию его привело намерение бороться впоследствии с властью посредством снятых по собственным сценариям фильмов.
Альгирдас появился на свет в товарном вагоне по дороге в Сибирь, что мне сразу напомнило историю брата моего деда Самвела, родившегося в арбе, когда мои прадед с прабабкой бежали от турков. Наверное, чувства дяди Самвела к младотуркам были сравнимы с отношением Альгирдаса к Сталину – наверное, расспросить об этом дедова брата я не мог, потому что лет за десять до моего рождения он погиб под Сталинградом, защищая, таким образом, именно то государство, которое Альгирдас ненавидел. То ли Альгирдас подсознательно стремился вновь посетить места, где провел свое детство (откуда его, впрочем, уже через год отправили обратно домой), то ли в ходе бракоразводных процессов он успел свыкнуться с судебным залом, но ругая власти, слов он не выбирал, и мне частенько приходилось пихать его локтем на семинарах, когда он начинал слишком уж откровенничать.
Говоря, что Альгирдас посвятил себя не искусству, а свержению власти, я, конечно, позволил себе некоторую гиперболу, вообще-то сценаристом хотел стать и он, но при том считал нонконформизм более важным профессиональным качеством, чем умение владеть интригой. Ему казалось, что у наших преподавателей-приспособленцев учиться нечему, и потому на лекциях он бывал редко, только на тех, где проверяли посещаемость, но, словно по иронии судьбы, самые обязательные лекции были по предметам политическим, и потому ненависть Альгирдаса к власти все росла. Это был заколдованный круг: пропускать занятия по, допустим, научному коммунизму, он побаивался, поскольку это могло стоить ему стипендии, как талантливый человек, он осознавал свой страх и сердился на себя за него, но поскольку долго держать злость на себя невозможно, то он и переносил это чувство на власть.
Свое бесповоротное мнение, что однажды продавшийся человек уже неспособен ни на одну ценную мысль, Альгирдас распространял и на книги – к писателям, которых в Советском Союзе издавали, он относился с большим подозрением, к Бальзаку в том числе. И наоборот, если ему попадал в руки самиздат, то пальцы Альгирдаса сразу начинали дрожать, но не от страха, как у многих, а от волнения.
Хотя я считал советскую власть примерно такой же неизбежностью, как четыре времени года, это не мешало нам сохранять добрососедские и даже дружеские отношения. Альгирдас был далеко не глуп и прекрасно понимал, что армяне русский империализм в определенном роде приветствовали, ибо в ином случае нас, может, уже и не существовало бы. Но приложить это к себе он не мог. Он рассказывал мне о депортациях, а я ему о геноциде, и так мы и жили как будто в двух разных мирах. Я поведал ему, как в двадцать первом году, когда мои прадед с прабабкой бежали через покрытый льдом Аракс, одна из сестер моего прадеда упала в прорубь и утонула, Альгирдас же с грустью поминал отца, который потерял в Сибири здоровье и умер вскоре после возвращения в Литву. Один из моих довольно близких родственников тоже, кстати, остался лежать в Магадане, как, наверно, почти у всех советских семей, но несмотря на это, я относился к идеологическим речам директората всего лишь с холодным равнодушием, Альгирдас же, наоборот, прямо-таки кипел от ярости, доказывая этим, что северяне иногда бывают темпераментнее южан.
Устав от антисоветской агитации, я шел через коридор играть в шахматы к бессарабскому русскому Аполлону Карликову. Рост Аполлона полностью соответствовал не имени его, но фамилии и был обратно пропорционален самооценке, исторические примеры чего наблюдались и раньше, например, в случае с неким корсиканцем. Вместо меча Аполлон старался пробить дыру в вечность пишущей машинкой, будучи убежден, что именно на нем лежит обязанность написать нового «Мастера и Маргариту». Но для этого, по мнению Аполлона, надо было вначале заложить должную экономическую основу. Он намеревался написать и продать несколько киносценариев, и лишь после этого отдаться настоящему творчеству.
Аполлон был настоящим франтом и уделял непомерно большое внимание своей одежде. В наши дни в джинсах ходит каждый грузчик, но в те времена этот предмет был большим дефицитом. У Аполлона была целая коллекция джинсов разного оттенка и покроя, которые он менял соответственно погоде. С дождем, по его мнению, хорошо сочетались чернильные, с солнцем – небесного цвета. К Соединенным Штатам, как родине джинсов, он относился с большим почтением и не уставал рассуждать о том, какой богатой могла бы стать Россия, если бы Корнилову удалось подавить большевистский бунт и восстановить конституционный порядок. Когда я заметил, что наиприятнейшим следствием этого оказалось бы то, что Арарат остался бы в пределах Армении, Аполлон улыбнулся и гордо сказал: «России!» В шахматы он играл плохо, и я его легко переигрывал.
Еще одна комната, куда я нередко захаживал, принадлежала Юрию и Мэри Архангельским. Юрий приехал в Москву из провинции, взяв с собой жену Марианну, которую под влиянием одного небезызвестного стихотворения перекрестил в Мэри. От шерри-бренди Мэри действительно отказывалась редко, но помимо того, она была настоящей домашней феей и любила мужа столь самоотверженной любовью, что сердца тех академистов, которым в жизни повезло меньше, полнились горькой завистью. Но как это часто бывает, за полное единодушие Юрия и Мэри было дорого заплачено. Родителям Юрия не нравилась Мэри, а родителям Мэри Юрий, и никто из них не хотел видеть молодую пару под своей крышей. При том, что крыш имелось целых четыре, ибо родители как Юрия, так и Мэри давно разошлись и обзавелись новыми мужьями и женами. Для меня это было полной экзотикой, потому что в Армении, во всяком случае, что касается поколения моих родителей, развод это редкость. И даже расходясь, у нас родители все делают для того, чтобы дети жили если и не с ними вместе, то, по крайней мере, хорошо. Юрий и Мэри же в своем родном городе снимали комнату где-то на окраине, откуда уже сама поездка на работу стоила стольких усилий, что после нее надо было час отдыхать. Родители им совершенно не помогали и были только рады, когда вносившие самим своим существованием сумятицу и неудобство в их частную жизнь дети, в конце концов, уехали в какую-то непонятную московскую академию. В общежитии Мэри проживала инкогнито, ее нельзя было прописать в Москве, потому что она тут не работала (в Академии учился Юрий), а работу она не могла найти, поскольку не была прописана. Будь она нужным для общества человеком, например, милиционером или водителем трамвая, проблема, наверно, как-то решилась бы, но она, бедняжка, была окулистом, а разве советское государство нуждалось в чересчур зорких гражданах? Сейчас утверждают, что в Советском Союзе не было демократии, но это совершенно не соответствует истине, на самом деле, властвовал в этой стране именно демос или, другими словами, плебс. Поступая в университет или вступая в коммунистическую партию, каждый человек на собственной шкуре узнавал, что происходить от простолюдина это хорошо, а от интеллигента – плохо. Ученым в очках прививали как бы чувство вины перед токарями, натиравшими мозоли у станков, и колхозницами, которые с серпом с руке и платочком на голове торопились на поле, ибо те якобы работали. Что именно работяги-токари на своих заводах точили, это уже никого не интересовало, а вытачивали они, извините, главным образом, те самые куски железа, из которых потом собирали танки и истребители. Теоретически все это неисчислимое оружие должно было служить для защиты от других народов, например, от турков, но поскольку на практике на каждого Трдата получалось примерно три ракеты и одна атомная бомба, приходилось думать, что процесс явно вышел из-под контроля и стал самоцелью. Излишек старались продать в Африку, но судя по пустоте фруктовых прилавков Москвы, один бронетранспортер шел в обмен на один банан. Какие народы в итоге убивали друг друга где-то в пустыне Сахара, этого уже никто не знал. Но было бы наивно полагать, что подобный ход мировой истории давали на заседаниях Политбюро, нет, в действительности все чертежи оружия и само оружие заказывались с полного одобрения народа: пролетариата, коллективизированных крестьян, доблестной Советской армии и военно-морского флота, работников милиции и КГБ и всех прочих. Каждому нормальному интеллигенту следовало бы это понимать и недолюбливать народ, который во имя артиллерийских маневров под красным флагом был готов ходить в лохмотьях, но мы только жалели его и если кого-то тайком ненавидели, то лишь это самое Политбюро и, возможно, КГБ. Будто до советской власти тайной полиции вовсе не существовало. Нет ведь большой разницы, при чьем посредстве народ над собой властвует, царя или генсека. И если правитель устраивал народу тяжкую жизнь, это тоже выражало желание собственно народа. Не зная, как обуздать свои инстинкты, народ делает это суровой рукой полиции. Народ не читает Платона, но он интуитивно ощущает, что насилие и цензура вещи нужные. Если бы советская косметическая промышленность получала такой госзаказ, как оборонная, наши женщины не выглядели б так, как они выглядели. И повторяю: мы, будущие киносценаристы, тоже кротко сидели на лекциях, слушали, что нам втолковывают про служение народу и чувствовали если не жгучий стыд, то по крайней мере легкую неловкость перед уборщицами, которые шлепали нас в метро тряпкой по штанам, поскольку они, так сказать, вкалывали во имя того, чтобы мы могли смотреть кино. Когда в столовой нам швыряли грязную тарелку с несъедобными котлетами, мы отнюдь не выражали свое недовольство, а вежливо говорили спасибо и даже улыбались – за что? Наверно, в благодарность за то, что нас там же не ставили к стенке.