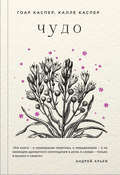Калле Каспер
Буриданы. Катастрофа
Но куда их везли? Неужели в Сибирь, как полагал Септембер?
Скоро выяснилось, что пока поезд движется в сторону Пскова. Где-то перед Печорами в вагоне стало оживленнее, люди, стоявшие у окон, приметили юношу на белом коне, с сине-черно-белым флагом, некоторое время скачавшего рядом с поездом. Кто-то на радостях, что «дух народа не сломлен», даже вынул из чемодана тайно прихваченную бутылку вина, которую пустили по кругу. Муж Матильды отхлебнул большой глоток, но Эрвин приложил горлышко к губам только для вида, он уже понял, что поездка предстоит тяжелая и алкоголи здесь не место. И действительно, за коротким всплеском эйфории вскоре последовала перебранка, ибо чем дальше, тем больше всех мучили жажда и нехватка воздуха.
Так они ехали целую неделю, потные, вонючие, голодные и ошалевшие от жажды, когда с короткими, а когда с длинными остановками, от которых было больше вреда, чем пользы, поскольку выйти им все равно не разрешали, хорошо если совали жестяную кружку с водой или миску какой-то похлебки. Изнеможенный Эрвин, тем не менее, каждое утро обводил в календарике-закладке кружочком очередное число, чтобы не потерять счет времени, а потом снова впадал в забытье.
На рассвете восьмого дня умер муж Матильды. Перед этим фабрикант много часов сидел без движения рядом с Эрвином и жаловался на сильные боли в сердце, но все, что Эрвин мог для него сделать, – это щупать время от времени пульс и уговаривать «еще немножко продержаться» (врачей в вагоне тоже не было). Момент смерти Эрвин зафиксировать не смог, потому что в это время спал и проснулся, вздрогнув, только когда почувствовал, что тело рядом с ним похолодело. Это его мобилизовало, и на следующей остановке ему удалось объяснить конвойным, что в вагоне мертвец и нужно вынести тело. После этого его силы иссякли, и он впал в бредовое состояние.
Ему мерещилось, что он в густом лесу, откуда не может выбраться, вокруг рычат звери, и единственное, что удерживает его от полного отчаяния, это витающий перед ним хрупкий образ Эрны.
Наконец поезд остановился, двери открылись, и люди буквально вывалились из вагонов, естественно, опять под охрану красноармейцев, но уже других, – в них не было ни капельки той спокойной самоуверенности, которая характеризовала предыдущий конвой.
Эшелон за это время усох, от него не осталось и половины, и, когда Эрвин оглядел перрон, он не увидел ни одной женщины или ребенка, только мужчин. Среди них оказался и Томас-Тыну Септембер, с которым они во время построения оказались рядом, и на чьем изнуренном лице с лихорадочно горящими глазами играла какая-то жуткая ухмылка.
– Радуйся, Буридан!
– Чему?
– За нас отомстят.
– Каким образом?
– Война началась.
Вагон Тыну на предыдущей остановке оказался вблизи от столба, на котором висел громкоговоритель. По-русски Тыну не очень кумекал, но что Гитлер напал на Советский Союз, он-таки разобрал.
– Голос у этого подонка Молотова аж дрожал от страха.
Потом их разделили, и Эрвин никогда больше не видел своего товарища по команде.
Глава третья
Неизвестность
Всю неделю после ареста Эрвина Лидия не выходила из дома. Словно лунатик, она ходила по комнате, сотни раз задавая себе единственный вопрос: «За что?» Среди депортированных было немало чиновников, неужели Эрвину ставили в вину, что он в течение полутора месяцев трудился в министерстве иностранных дел? Но ведь это случилось уже после отставки буржуазного правительства, при «своих», при социалистах. А может, НКВД не понравилось, что брат на процессе «вапсов» защищал дядю Адо? Так это же долг адвоката – защищать всех независимого от того, в чем их обвиняют. Ничего другого в голову не приходило, разве что кто-то оклеветал Эрвина, такое случалось, Густав даже знал историю о том, как донос написали в надежде завладеть чужой квартирой. В любом случае депортация Эрвина была ошибкой, трагической ошибкой, которую необходимо как можно скорее исправить. Но как?
Тут их с Густавом мнения разошлись. Лидия порывалась бежать по инстанциям, стучаться в двери знакомых коммунистов, обивать пороги кабинетов, прорваться даже в здание НКВД с одним вопросом: «Что же вы делаете, вы что, хотите, чтобы люди вас возненавидели?» – но Густав строго запретил куда-либо идти, сказав, что этим Лидия только навредит брату. «Я думаю, тебе лучше вообще не выходить, пока не успокоишься. Я позвоню твоему начальнику и скажу, что ты больна, а сам попытаюсь выяснить, в чем дело, и предпринять все возможное, чтобы Эрвина освободили». Каждое утро Лидия провожала Густава на работу с надеждой в сердце, и каждый вечер, взглянув в мрачное лицо уставшего за день мужа, понимала без слов: опять ничего.
– Ты ведь знал, знал, да? – выпытывала она у него сразу после того, как звонок квартирной хозяйки Эрвина разбудил их в субботу утром. Густав не стал ничего отрицать, правда, списков он не видел и тоже был поражен тем, что в них оказался шурин, но что депортация будет, знал: – Как ты думаешь, почему я не пустил тебя в Гранд Марину?
Лидия не поняла, что Густав хочет этим сказать, и он объяснил: членов партактива созвали пятницу вечером в кинотеатре, чтобы они помогали НКВД как переводчики и провожатые в чужом городе. Лидия тоже получила приглашение явиться, но Густав тогда возразил: время позднее, не ходи, если спросят, почему не пришла, вали на меня.
Теперь Лидия винила себя, что послушала Густава и поленилась идти: если бы только она оказалась там и случайно попала именно в группу, поехавшую за Эрвином, то…
Что дальше, она себе не представляла, но была уверена: что-нибудь обязательно предприняла бы, и это могло спасти Эрвина.
– А остальные? – закралась в душу неприятная мысль. – С тем, что их увезли, ты бы смирилась?
Густав, пытаясь ее успокоить, объяснил причины депортации: международная обстановка напряженная, не исключено, что скоро начнется война, поэтому необходимо вывезти из приграничных районов тех, у кого есть причины ненавидеть новую власть, но его аргументы не убедили Лидию.
– А что, женщины и дети тоже представляли опасность для Красной армии?
Муж не ответил, но его молчание помогло Лидии понять, что он разделяет ее сомнения, только не хочет в этом признаться.
В другую крайность, казалось ей, впал Герман. Брат зашел, прихрамывая, полный гнева, и принялся неистово ругать коммунистов:
– Ну, сволочи! Мама права, это не рабочая власть, а банда преступников.
– Герман, не преувеличивай! То, что случилось, не преступление, а ошибка, огромная ошибка.
– Знаем мы эти ошибки! А что нацисты со мной в Германии сделали, тоже ошибка?
То, что брат равняет коммунистов с нацистами, Лидия решительно не могла принять; по ее мнению, между ними не было ничего общего. Она так и сказала, добавив, что сама член Коммунистической партии и, следовательно, разделяет ответственность за случившееся.
– Не говори глупости! – бросил Герман сердито. – Если я проектирую театр, а кто-то поставит на сцене гильотину и начнет ею пользоваться, виноват буду я, что ли?
Они договорились, что родителям о случившемся пока писать не надо: зачем их волновать, может, все еще образуется. Софию Лидия об этом уже попросила, она сразу написала ей в надежде, что сестре удастся увидеть Эрвина – Густав говорил, что поезда с депортированными движутся очень медленно. Виктория с детьми отдыхала в Лейбаку, и Арнольд вел с ней оживленную переписку, поэтому Герман обещал предупредить зятя, чтобы тот не проболтался.
Пока они все это обсуждали, Лидия вернулась в более или менее нормальное состояние, но стоило брату уйти, как опять нахлынули горестные раздумья – самообвинения, мучительное стремление понять, почему между идеалами и действительностью зияет пропасть.
– Неужели это и есть социализм? Разве о таком я мечтала?
Она вспомнила, как Эрвин за несколько дней до ареста приходил к ней и задал примерно тот же вопрос – а что если он еще с кем-то поделился своими сомнениями? Может, в этом и кроется причина его депортации? Если так, то все гораздо хуже. Лидия всегда считала, что коммунизм и честность – синонимы, следовательно, коммунист должен говорить то, что думает. Правда, Эрвин не состоял в партии; брат полагал, что адвокат должен сохранять независимость, но разве свобода мысли не распространяется на всех?
Неразрешенных вопросов накопилось столько, что, когда Густава в следующее воскресенье неожиданно вызвали на работу и он позвонил оттуда и сообщил, что началась война с Германией, Лидия на это вообще не отреагировала. Война так война, подумала она равнодушно: о ней столько говорили, что острота восприятия притупилась. Только когда Густав пришел вечером домой мрачный и сказал: «Надеюсь, ты понимаешь, что поиски Эрвина придется временно прекратить?» – что-то стало доходить до нее.
– Но это ведь ненадолго? Если их депортировали в ожидании скорой войны, значит, мы к ней готовы…
Лидия пыталась себя хоть немного утешить, но, взглянув на мужа, поняла, что тот не разделяет ее оптимизма.
После этого разговора она почти не видела Густава: он приходил около полуночи и сразу валился в постель или не ночевал вообще. Не выдерживая нервного напряжения, Лидия решила вернуться на работу, но облегчения не почувствовала. Все обсуждали эвакуацию произведений искусства, создавали истребительные батальоны и налаживали защиту Таллина, но до нее это словно не доходило. Спросил бы кто-нибудь, какое сейчас время года, она и на этот вопрос не смогла бы ответить.
Однажды Густав пришел к ней на работу, велел идти домой и упаковывать вещи.
– Немцы приближаются быстрее, чем мы ожидали. Возможно, правительству придется эвакуироваться в Москву. Туда послали Лаазика, подготовиться к нашему прибытию, но он плохо знает русский. Мы договорились, что ты поедешь к нему в качестве переводчика. Торопись, поезд отправляется через пару часов.
– А ты?
– Я пока останусь здесь.
– Без тебя я никуда не поеду.
– Поедешь! Это приказ.
Лидия впервые увидела Густава в таком состоянии, она была уверена, что ее хладнокровный, умудренный опытом муж никогда не потеряет самообладания, а сейчас он почти кричал на нее.
Правда, Густав быстро успокоился: наверное, устыдился своей несдержанности.
– Пойми, это один из последних поездов. Потом останется только пароход.
Лидия страдала морской болезнью; когда-то она рассказала о своей слабости Густаву и теперь была благодарна, что даже в такой ситуации, в военное время, он помнил об этом.
– Хорошо, но хотя бы проводи меня домой.
Она не ожидала, что Густав найдет на это время, но неожиданно он согласился, наверное, боялся, что иначе жена не уедет.
Молча они прошли через центр в сторону Вышгорода. За окнами кафе сидели люди, курили, беседовали и, кажется, даже смеялись. Не верилось, что идет война, пока прямо перед их носом по улице Харью в сторону Ратушной площади не промчался грузовик с красноармейцами. Лидия в рассеянности чуть не ступила на мостовую, и Густав резко схватил ее за руку:
– Осторожно!
Этот возглас стал последней каплей, Лидия почувствовала, как что-то в ней сломалось, и заплакала навзрыд. Густав не стал, как обычно, утешать ее, даже не обнял; сперва Лидия подумала, что он стесняется прохожих, но потом поняла, что его мысли где-то далеко.
Она проглотила слезы и вытащила из сумочки носовой платок.
– Я не могу уехать, не сообщив об этом родителям и не попрощавшись с ними, но что я им напишу об Эрвине? – объяснила она причину своих слез. – Я боюсь за маму, такая новость может сломить ее, но и утаить все не могу.
Густав молчал, и, глядя на него, Лидия поняла, что муж знает что-то такое, о чем она понятия не имеет.
– Я думаю, ты зря беспокоишься, – сказал он наконец. – Писать не имеет смысла, почтовое сообщение прервалось.
– То есть как прервалось? – не поняла Лидия. – Не может быть, чтобы немцы дошли до Лейбаку!
На работе она слышала по радио, что советские войска ведут героическую борьбу, не пуская агрессоров дальше границы.
– Еще нет, но это может случиться в любой момент.
Только теперь Лидия догадалась, что радио врет и положение на фронте намного хуже, чем она думала.
Она убрала платочек и решительно обернулась.
– Тогда я точно никуда не поеду, я не могу оставить родителей.
Густав взял ее за руку, причем так крепко, что Лидия ойкнула от боли.
– С твоими родителями ничего не случится, – сказал он приглушенно, подавляя гнев, – а вот тебя немцы, если схватят, убьют.
– Почему?
– Потому, что ты коммунистка.
Я не коммунистка, я больше не хочу быть коммунисткой, чуть не вырвалось у Лидии, но она промолчала: Густав не понял бы ее.
– А что будет с тобой? – спросила она тихо, покорно.
– За меня не беспокойся, нас в беде не оставят.
Так это или не так, у Лидии больше не было сил спорить. Она высвободила руку, повернулась и хотела, наконец, перейти улицу, но вдруг увидела, что со стороны Ратушной площади на бешеной скорости возвращается тот самый грузовик с красноармейцами. Тупо и отрешенно глядели солдаты перед собой, и, по их лицам никак нельзя было сказать, что они с нетерпением ждут минуты, когда попадут на фронт и смогут перенести войну на территорию врага, в чем, как Лидия неоднократно слышала на политучениях, состояла стратегия советской армии.
Словно слепые, подумала Лидия, провожая взглядом одиноко блуждающую машину, пока та не скрылась за липами аллеи Карли.
Глава четвертая
Самосуд
Зерно и другие продукты Алекс стал прятать с первого дня войны, справедливо предполагая, что, когда начнется отступление (а что оно начнется, Марта ему внятно объяснила), большевики все, что годится есть, захватят с собой, но совхозных лошадей он трогать не посмел: их было немного, и с пересчетом оставшегося тяглового скота новоиспеченный директор, он же бывший батрак, справлялся. Правда, скоро он, как коммунист, пошел добровольцем в Красную армию, но к тому времени конюшня уже опустела, последнюю клячу утащили прямо от ворот кладбища, пока хоронили первую жертву войны, бывшего главу волости, у которого случился инфаркт за приемником, когда он слушал речь Молотова. «Есть еще справедливость на земле!» – успел он сказать перед тем, как упал на пол. Своего хуторского мерина Алекс на похороны не вывел, спрятал в лесу, хотя и существовала опасность, что кто-нибудь его уведет, потому что в лесу народу стало больше, чем в деревне, одни скрывались с начала депортации, другие ушли, как только объявили мобилизацию.
Так прошел первый этап смуты, но от того, что произошло дальше, даже у много повидавшего на своем веку Алекса мурашки побежали по спине: выяснилось, что у тех, кто спрятался в лесу, чешутся руки, и, увы, не по косе. У одних национализировали землю, у других – дом, у третьих забрали родственников и увезли непонятно куда, теперь настало время за все это отомстить. Вот и случилось, что как-то утром в канаве у дороги нашли велосипед, а рядом с ним – того самого председателя исполкома, бывшего деревенского пьяницу, который отрезал немалый кусок и от хутора Алекса; теперь он лежал тихо, совсем холодный, с пулей в животе. Новость распространилась быстро и дошла до уездного города, откуда немедленно прибыл истребительный батальон. Столкновение между коммунистами и «партизанами», как называла ушедших в лес Марта, произошло недалеко от Лейбаку и закончилось поражением последних. Оставив трупы на поле боя, «партизаны» отступили, и по пути зашли выпить водички во двор мызы, где бесстрашная или, вернее, беззаботная Виктория как раз вешала подгузники Пээтера на веревку. Услышав громкие голоса, Алекс вышел на крыльцо и увидел, что несколько ружей направлены на его дочь.
– Это и есть твоя красная сука, Буридан? – спросил главарь «партизан», и Алексу пришлось долго объяснять, что это не она; одна дочь, к несчастью, действительно пошла не той дорогой, но она в Таллине, и о ее судьбе он не знает ничего (что было правдой, потому что ни от Лидии, ни от других детей уже две недели не приходили письма). Вряд ли одно это «отречение от коммунизма» спасло бы дочь, но весной Алекс, за спиной директора, помог нескольким из этих молодцев – кому посевным зерном, кому лошадью, и когда он им об этом напомнил, Викторию великодушно оставили в живых, «пока не выяснится, кто она такая».
Через час произошел еще один неприятный инцидент, теперь во двор въехал грузовик с истребительным батальоном, и, когда водитель заглушил мотор, разгоряченные недавним сражением каратели ясно услышали из открытых окон немецкую речь – там тесть Алекса рассказывал дочери о значении города Ростова в товарообмене между Россией и Германией.
– Шпионы?
Старого Беккера вывели вместе с двумя женщинами, Мартой и Викторией, удивительно спокойными, и теперь Алексу пришлось объяснять вооруженным людям обратное: что вся его семья лояльна действующему (он не стал добавлять «пока») порядку, доказательством чему служили и его работа главным агрономом совхоза, и родственник, коммунист Густав Кордес.
После двух таких происшествий Алекс понял, что женщин с детьми надо из этого опасного места «эвакуировать», а поскольку Таллин и Тарту в качестве убежищ в начавшемся хаосе отпадали, выбор пал на хутор: можно было надеяться, что туда война, в том числе и гражданская, как происходящее окрестила Марта, не дойдет. Сама Марта от переселения отказалась, аргументируя свое решение тем, что должна заботиться об отце, хотя Алекс догадывался, что главная причина состояла в отсутствии на хуторе необходимых бытовых удобств, и в его сводных братьях, с которыми Марта предпочитала общаться как можно меньше. Виктория тоже сперва возражала: она надеялась, что Арнольд приедет и заберет ее в Таллин, но, когда Алекс обещал привести мужа к ней на хутор, сдалась: наверное, стоять под прицелом было все-таки не очень приятно.
Мерин так и пропал в лесу, но весной из России вместе с тракторами прислали осла (всего лишь – соседней волости для развития сельского хозяйства в новой союзной республике подарили верблюда из Средней Азии), такого костлявого, что его даже не захотели реквизировать, теперь Алекс поставил животное перед арбой, положил на дно мешок с одеждой, посадил на него Вальдека и Монику, и можно было отправляться в дорогу. Останавливаться приходилось довольно часто, и не от усталости – маленького Пээтера Алекс и Виктория тащили по очереди, а потому, что капризы осла не удавалось побороть ни пряником, ни кнутом, так что Алекс наконец стал понимать, какая трудная жизнь у политиков.
Оставив молодую мать вместе с подрастающим поколением под опекой двух умиленных холостяков, Алекс с ослом вернулись на Лейбаку, никого не встретив по дороге, чего нельзя сказать о последующих днях, когда ему, курсирующему между мызой и хутором, неоднократно приходилось угощать куревом отступавших, или, вернее, бежавших русских солдат. Эти уставшие до смерти парни были единственными, кто ни разу не угрожал Алексу; все, что они, кроме сигарет, просили, – это показать им дорогу в сторону Таллина или Ленинграда. «Кто вы такие? – спрашивал Алекс у каждого, и получал один и тот же ответ:
– Восьмая армия.
Когда людей в форме на дороге стало меньше, «партизаны» снова вышли из леса, и на этот раз им удалось взять реванш за предыдущее поражение, исполком был отбит, и все находившиеся внутри выведены и расстреляны, в том числе и молодая библиотекарша, вина которой, наверное, состояла в том, что она выдавала интересующимся произведения Маркса и Энгельса. Тело девушки лежало во дворе исполкома (который снова стали называть волостной управой) весь день, только ночью кто-то немного забросал его землей, а когда Алекс утром пошел в сарай и обнаружил на лопате свежие следы от грунта, в его душу закралось подозрение, что это символическое погребение – дело рук наиболее активной читательницы библиотеки, его Марты. От вопросов жена уклонялась, но ее разгневанное лицо говорило само за себя: акт убийства человека, так тесно связанного с книгами, казался ей наивысшим проявлением варварства. Самому Алексу это жуткое злодеяние напомнило другое, времен революции в Москве, когда он на улице увидел труп незнакомки, но то было делом рук обычных бандюг, а тут развлекались сыновья богатых хуторян.
«Тартуский коммунист» до Лейбаку уже не доходил, если вообще издавался, поэтому единственным источником новостей оставался радиоприемник, который удалось сохранить благодаря здравому смыслу Марты. Через неделю после начала войны поступил приказ под угрозой расстрела всем сдать в исполком имеющиеся приемники, и Алекс уже стал выдергивать шнур из розетки, когда Марта его остановила.
– Неужели ты думаешь, что в этой неразберихе кто-то будет искать твой Телефункен! Не понимаешь, что ли, это для дураков! Ну что вы за рабский народ, перед каждым начальником встаете смирно, будь то помещик, Эйнбуш или Сталин!
«Эйнбушем» жена звала бывшего эстонского премьера Эйнбунд-Ээнпалу, утверждая, что у того «ум куста»[1].
Относительно приемника Марта, как обычно, оказалась права, никто за ним не пришел, и жена продолжала слушать как оперные арии, так и новости, только Алекс, чье самолюбие было задето, несколько дней держался от аппарата в стороне. Любопытство в итоге оказалось сильнее гордости, и он пошел узнавать у жены, есть ли надежда, что сюда наконец-то дойдет какая-нибудь регулярная армия и покончит с произволом. В ответ Марта вытащила с книжной полки атлас, открыла его на странице России и показала Алексу пилкой, куда немцы продвинулись за это время. Завоеванных городов оказалось немало, в том числе и Рига.
– Ну, значит, недолго осталось ждать, – сказал Алекс и на этот раз не ошибся, хотя пришлось пережить еще немало.
Началось все с того, что, когда Алекс как-то в полдень в очередной раз отправился на хутор узнать, как там дочь и внуки, лесную дорогу опять преградили двое красноармейцев. Алекс подумал, что все пойдет как обычно, он угостит их сигаретами, покажет путь и двинется дальше, однако не тут-то было: ему велели поднять руки, отняли всю пачку и отправили обратно по той же дороге, советуя в ближайшие дни здесь «не показываться», потому что предстоит бой.
– У меня дочь с внуками на том хуторе, разрешите хотя бы вывести их из-под пуль, – попросил Алекс, но красноармейцы были неумолимы.
Он сам не понимал, как пережил следующие несколько часов: ведь это он отвез Викторию с детьми, думая бежать подальше от войны, а оказалось – из огня да в полымя. Весь вечер Алекс прислушивался, не пошла ли пальба, но густой лес поглощал все звуки.
Когда стемнело, он хотел повторить попытку, но Марта не разрешила.
– Подожди, пока все закончится, вдруг сделаешь еще хуже.
Следующим утром мимо Лейбаку по шоссе на мотоциклах, украшенных розами (подарок местных женщин), проехал передовой отряд немцев, после чего наступила тишина.
Через час Алекс не выдержал.
– Пойду взгляну, что там происходит.
Первыми, кого он увидел, приблизившись к хутору, были Адо и Тыну, они что-то копали, как вскоре выяснилось, могилу для погибших красноармейцев (своих убитых немецкая похоронная команда увезла с собой). Перебивая друг друга и размахивая руками, сводные братья рассказали ему о ходе боя.
– Видишь, русские поставили свою гаубицу вот на том холме, оттуда дорога хорошо видна, и стали палить, как только увидели немцев. Но те не идиоты, слезли с мотоциклов, часть осталась для виду лежать в канаве, остальные поползли в лес и обошли русских сзади. Плохо то, что немцам пришлось пересечь наш двор, чтобы подобраться ближе к холму…
– Виктория и дети целы?
– Целы и невредимы.
Алекс оставил братьев за их скорбной работой и пошел дальше, к хутору. Викторию он нашел за домом, дочь читала в гамаке книгу, а дети играли между яблонями, хотя вели себя заметно тише.
– Расскажи, как вы пережили этот ужас?
С притворной храбростью дочь сообщила, что она загорала, когда стали свистеть пули.
– Ничего не оставалось, пришлось прятаться. Велела Вальдеку и Монике лечь, схватила Пээтера подмышку и ползком – в картофельный подвал.
– И где ж были ваши защитники?
– Уже ждали нас там.
Нет, на Адо и Тыну полагаться нельзя, подумал Алекс и принял решение:
– Завтра верну вас на Лейбаку.
Он бы сделал это сегодня, но, к сожалению, не взял с собой осла.
В мызе в его отсутствие произошли большие перемены: уже издалека Алекс увидел во дворе самые разные машины, от грузовиков до мотоциклов с коляской; по одному черному лимузину он сразу понял, что это не «восьмая армия». Сначала его даже не хотели пускать во двор, в воротах стояли два солдата в касках и с автоматами, и, хотя Алекс объяснил на своем неплохом «дойче шпрахе», что он «живет здесь», к его словам отнеслись с недоверием, и только появление капрала, или как его там, разрешило ситуацию.
Войдя в комнату, он увидел незваных гостей, вернее одного, это был солидный пожилой военный, в роскошном мышиного цвета мундире, возможно даже, генерал, склонившийся вместе с Мартой над обеденным столом, на котором лежал атлас; они рассматривали его с таким интересом, что даже не заметили, как вошел Алекс.
– Я только имею право вам сказать, – объяснял гость, карандашом ведя по карте, – что мы начали наступление вот отсюда, из Восточной Пруссии, прошли за короткое время через Литву и Латвию и позавчера вошли в Эстонию. Но теперь нам надо остановиться и подождать, пока прибудет резерв, потому что противник кое-где неплохо укрепился и оказывает серьезное сопротивление. Я убедился, что русские воюют намного храбрее, чем французы или англичане, нельзя сказать, что лучше, нет, они воюют плохо, но не страшатся смерти…
– А Тарту уже в ваших руках?
– Да, полгорода в наших руках, но занять весь город мешает река….
– И когда вы надеетесь добраться до Ревеля? Не беспокойтесь, я не хочу выведать военную тайну, я всего лишь волнуюсь за своих детей. Два моих сына и дочь в Таллине, другая дочь в Тарту. Война всех нас разлучила.
– Не беспокойтесь, фрау Марта, через две недели Эстония будет освобождена.
Надо же, уже называет мою жену по имени, удивился Алекс и хотел покашлять, но Марта резко обернулась.
– О, Алекс, наконец-то! Иди, я познакомлю тебя с генералом. (Значит, это действительно был генерал.) Представь себе, он наш дальний родственник, его кузен – второй муж Беатриче.
Беатриче, одну из двоюродных сестер Марты, Алекс помнил хорошо, когда они с Мартой нанесли свой первый визит Беккерам, эта эффектная, совсем не похожая на немку брюнетка только что развелась со своим первым мужем, каким-то русским, заметно позже она вышла замуж в третий раз, за некоего американца; родственник генерала, следовательно, был при деле в промежутке.
– А это мой муж, один из лучших специалистов по семеноводству во всей Европе.
Алекс чуть не икнул: выходит, надо дожить до семидесяти лет, чтобы услышать такие слова из уст жены – то-то дети жаловались, что мама скупа на похвалу.
Очевидно, благодаря такой характеристике генерал, пожимая ему руку, сделал это весьма почтительно. Они, кстати, походили друг на друга телосложением, только вот черты лица генерала казались более волевыми, а взгляд серых глаз был подобен орлиному взору.
– Генерал выбрал нашу мызу своим командным пунктом. Он знает эти края, они вместе с твоим графом воевали в армии Ландесвера.[2]
Неужто балтийский немец, подумал Алекс удивленно, но нет, как генерал сам объяснил, он пришел на ту войну добровольцем, из Германии.
– Тогда вы нас побили, и ваши ребята воевали очень храбро, – вспоминал генерал великодушно, – сейчас, конечно, соотношение сил иное, но все равно, я рад, что не вы, эстонцы, наши противники.
– Да, в этой войне мы не участвуем, – кисло улыбнулся Алекс.
Он пригласил генерала поужинать, за что был вознагражден благодарным взглядом Марты.
Из спальни послышался голос старого Беккера, тесть проснулся после обеденного сна, и Марта заторопилась к нему, после чего генерал вежливо простился и пошел изучать, как продвигается обустройство командного пункта.
Ужин прошел оживленно, генерал по-прежнему был сверхгалантным и сделал Марте множество комплиментов по поводу приготовленных яств, восхищался салатом оливье, расхваливал жаркое из свинины, а когда на столе появился клубничный торт, признался, что так роскошно его не угощали даже в Париже.
«Вы участвовали во французской операции?» – полюбопытствовала Марта, и генерал подтвердил, да, и не только участвовал, а именно его армия завоевала Париж, и, словно опасаясь, что ему не поверят, вытащил портмоне, а оттуда фото, на котором красовался рядом с Гитлером на Елисейских полях.
Хорошо, что не удалось привезти Викторию, подумал Алекс, сидела бы дочь сейчас за столом, смогла бы ли она удержать язык за зубами, она же была франкофилкой. Марту военное прошлое генерала как будто не смущало, она вообще словно переродилась, и Алекс даже почувствовал что-то похожее на ревность, заметив, что Марта надела свое самое нарядное платье и сапфировые серьги, беккеровский подарок к их свадьбе. Однако он скоро понял: у Марты сегодня праздник. Два десятилетия жена жила в изоляции, общаясь только с ним и с детьми, и теперь, наконец, получила возможность разговаривать на родном языке с человеком, равным ей по интеллекту.
Взглянув на фото, Марта вернула его генералу и словно мимоходом спросила:
– Вы, кажется, любимец Гитлера?
Это, пожалуй, слишком громко сказано, возразил генерал, но, в отличие от некоторых других военачальников, у него с фюрером действительно неплохой контакт.
– Гитлер очень много сделал для Германии, – продолжил он проникновенно, – в результате последней войны нас поставили на колени, а он поднял народ и внушил, что мы достойны большего.
– И вы не боитесь, что вас снова опрокинут? – продолжала Марта расспросы.
Нет, генерал такого страха не испытывал.
– Мы свое дело знаем. В военном смысле Германии сейчас нет равных.
– Да, но Россия не Польша и не Франция, – возразила Марта. – Боюсь, вы не знакомы с теми условиями, в которых вам придется воевать. Одни просторы чего стоят, по степи, например, можно ехать часами, не встретив ни единой души. Словно на море. Вы утонете там.
Генерал слушал ее с интересом.
– Роммель рассказывал нечто похожее о пустыне, – отметил он, когда Марта закончила, – дескать, она напоминает море. Кстати, он сделал из этого выводы, даже так и сказал: я провожу танковые операции, словно морские бои.
Генерал немного подумал.
– Но я уверен, что это не станет непреодолимым препятствием. Современная война, фрау Марта, не похожа на прежние. Это совсем иные боевые действия, с использованием техники. Гитлер как-то сказал, будь у Наполеона самолеты и танки, он никогда бы не проиграл русскую кампанию. И он прав, ибо на чем построено военное искусство? На маневре. Раньше маневр требовал большого расхода физических сил. Когда французы дошли до границы с Россией, они уже немного подустали, а когда преодолели тот простор, о котором вы говорили, и вошли в Москву, выдохлись. Какие уж там маневры? Но танки не устают. Нет, я думаю, у русских против нас нет ни единого шанса.