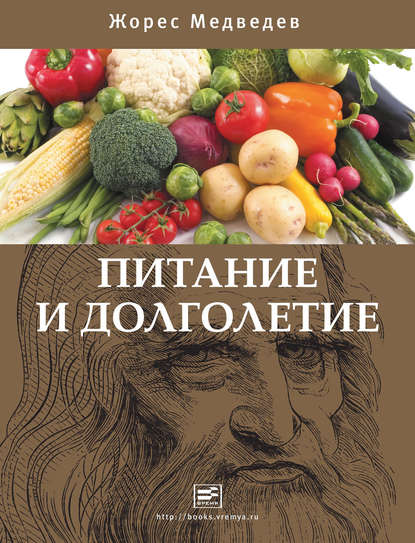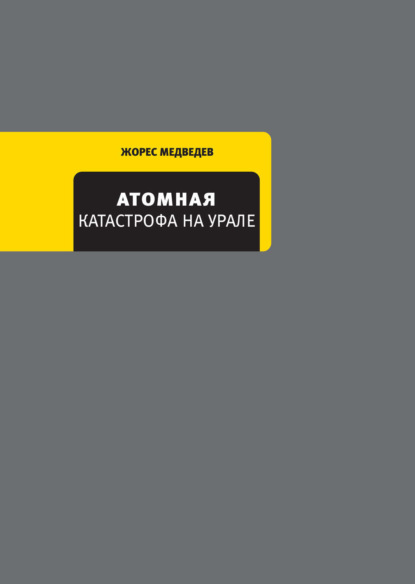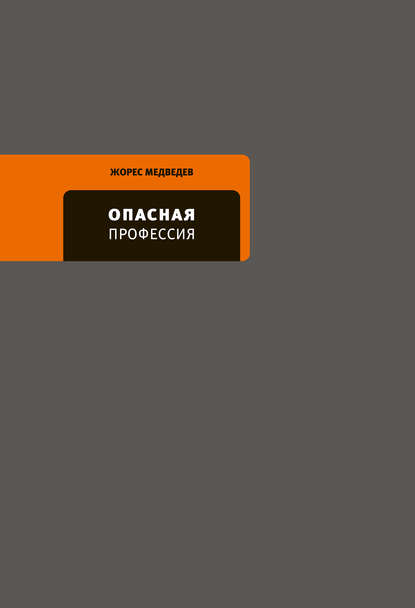
Полная версия:
Жорес Александрович Медведев Опасная профессия
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Жорес Медведев
Опасная профессия
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
© Жорес Медведев, 2019
© «Время», 2019
* * *Часть первая
Глава 1
Таманский фронт
Наша семья встретила войну в Ростове-на-Дону. Мне было тогда пятнадцать лет. И уже через три месяца немецкая армия захватила Таганрог – в ста километрах от Ростова. Мы, бросив все, уехали в Тбилиси – город, где я родился. Когда пришла повестка из военкомата, предписывавшая явиться туда 1 февраля 1943 года с вещами и документами, я еще учился в десятом классе и мне лишь недавно исполнилось семнадцать лет. В войне уже произошел поворот: Советская армия, освобождая Северный Кавказ, приближалась к Краснодару. Армии срочно требовалось пополнение, и призывной возраст был сдвинут на год младше и на два года старше. Молодых новобранцев отправили на обучение в Кутаиси. Там за городом располагался запасной полк, в котором новобранцев ускоренно обучали военному делу: стрелять, метать гранаты, ползать по-пластунски, колоть штыком, бить прикладом, орудовать саперной лопаткой. Я попал в первую русскую маршевую роту нашего призыва, которую отправляли в действующую армию в конце апреля. Грузинские новобранцы, преобладавшие среди призванных, особенно из деревень, обучались медленно из-за плохого знания русского языка. Они оставались в Кутаиси для дальнейшей подготовки. Наш эшелон двигался из Кутаиси до Краснодара через Баку и весь недавно освобожденный Северный Кавказ. На станциях местные жители приносили нам молоко и хлеб, иногда вареные яйца и сало. Из Краснодара на машинах мы доехали до станицы Крымская на Таманском полуострове. Эту станицу освободили лишь неделю назад в боях по прорыву «Голубой линии» немецкой армии, защищавшей подступы к Новороссийску и Керчи. С моря, недалеко от Новороссийска, был высажен десант, потеснивший немцев и создавший плацдарм. То была знаменитая Малая Земля, а одним из политработников десанта был подполковник Леонид Брежнев. По плану командования, который нам объявили после зачисления в 169-й стрелковый полк 1-й особого назначения дивизии 56-й армии, наш полк был включен в группу прорыва второго рубежа «Голубой линии» и освобождения станицы Киевская. Для поддержки пехоты была стянута мощная техника, в основном артиллерия – не менее двухсот стволов на километр фронта. Пехотным частям предстояло, прорвавшись через немецкую оборону, взять с ходу и следующий рубеж «на плечах отступающего противника», как говорилось в зачитанном приказе. У немецкой армии на подступах к Новороссийску было множество укрепленных пунктов.
Военные операции на Таманском полуострове почти не отражены в западной литературе по истории войны, хотя там оказалась наивысшая концентрация войск по сравнению с другими фронтами. На линии фронта протяженностью немногим больше 100 км была дислоцирована 17-я немецкая армия, имевшая шестнадцать пехотных и две танковых дивизии и четыре отдельных полка. Из Крыма немецкую армию прикрывали более тысячи самолетов. Почти такое же количество живой силы и техники имела 6-я армия фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. С советской стороны на Таманском полуострове действовали три армии, состоявшие из двадцати одной дивизии и пяти отдельных бригад. На линии прорыва в 30 км перед 56-й армией, которой командовал генерал Гречко, в глубокой обороне стояли пять немецких дивизий. Прорыв немецкой обороны после мощной артподготовки и ударов с воздуха произошел довольно быстро. Проволочные заграждения были разметаны по сторонам. В немецких траншеях, которые шли в несколько рядов, мы, держа винтовки с примкнутыми штыками наготове, пробегали в основном по трупам немецких солдат. Главной опасностью на подступах к траншеям были противопехотные мины – не менее тысячи на каждый километр фронта. Мы приближались к немецким окопам рядами, друг за другом. Тот, кто шел впереди, нередко наступал на мину.
За немецкими позициями была уже степь, очень холмистая. Вдали зеленела садами станица Киевская. Но перед ней немцы заранее построили еще одну линию многослойной обороны с колючей проволокой и минными полями. Взять ее с ходу «на плечах отступающего противника» наш полк уже не смог. Противник не отступал и строчил из пулеметов. Мы залегли и начали окапываться. Мне посчастливилось – поблизости оказалась воронка от бомбы, которую я быстро превратил в глубокий окоп. Стало смеркаться. В темноте приехала ротная полевая кухня на конной тяге, подвезли хлеб, махорку, сахар и бутылки с водкой. Во время боев каждому бойцу полагались знаменитые наркомовские сто грамм. Горячей едой наполняли котелки. Пшенная каша с американской тушенкой. Но очередь к ротной кухне выстроилась небольшая. Днем раньше, в лесочке перед началом прорыва, в роте, которой командовал капитан Петров, было 150 стрелков. Она была полностью укомплектована. К вечеру первого дня боев в строю осталось 30 человек. После кухни подвезли боеприпасы. Я взял себе ящик патронов и шесть гранат. Другие бойцы тоже запасались надолго.
На следующий день немцы неожиданно предприняли контратаку. Их командование знало, что сильно разреженные части противника укрылись в беспорядочных индивидуальных окопах и управлять такой обороной трудно. Каждый солдат действует самостоятельно. Главный удар контратаки немцы направили на ближайший советский полк, который располагался ниже нас, в 400–500 метрах левее наших позиций. Мы видели ползущие вдали немецкие танки, их было около двадцати. Сразу за ними – маленькие фигурки солдат. Из штаба полка прибежал связной, младший лейтенант, и передал приказ поддержать соседей огнем. Вместо того чтобы вернуться в штабной блиндаж, он спрыгнул в мой окоп – у меня было достаточно места на двоих. Прицельный огонь по бегущим немецким солдатам на таком расстоянии вести невозможно, я стрелял в направлении танков, быстро меняя обойму за обоймой. Патронов было много. Младший лейтенант вдруг попросил: «Дай пострелять». Я отдал ему винтовку и присел отдохнуть. Он высунулся из окопа, прицелился, но выстрелить не успел. Раздался какой-то булькающий звук, и мой сосед стал сползать вниз. Он был мертв, пуля пробила ему шею. Прежде чем встать, я поднял на штыке наружу свою каску. Дзинь! – каска пробита навылет. Каски наши были очень тонкими и защищали лишь от осколков мин и гранат. Стало понятно, что где-то поблизости наши позиции уже держал под прицелом немецкий снайпер.
И все-таки контратака противника была отбита. Индивидуальные окопы не дают возможности маневра, но из них в открытой степи никто не побежит. Нужно биться до конца. Патронов и гранат у каждого бойца было много. На поле боя остались три немецких танка. Ночью бойцов соседнего полка отвели в тыл, заменив резервным батальоном. Многих выносили на носилках.
Следующие несколько дней немецкий снайпер увеличивал число наших потерь. Индивидуальные окопы сильно ограничивали возможности активной обороны. Связистка Оля, обеспечивавшая телефонную связь между командиром роты и командиром батальона, была убита при очередной попытке восстановить поврежденный минометным обстрелом провод, тянувшийся в тыл по поверхности земли. Связистом назначили меня. Две первые миссии по восстановлению связи я проводил в темноте, это было относительно безопасно. Взяв под локоть телефонный провод, а в руки моток изоляционной ленты, нужно было идти в тыл, находить разрывы, зачищать концы, соединять их и изолировать липкой лентой. На всей линии в полкилометра до блиндажа комбата случалось по пять-шесть разрывов.
31 мая после утренней бомбежки с воздуха, повредившей и телефонные провода, командир приказал мне восстановить связь немедленно. Схватив провод и пригнувшись, я побежал в тыл. Первый разрыв нашел метрах в двадцати от наших позиций и быстро соединил провод. Но, вскакивая для следующей пробежки, ощутил сильный удар в правую стопу, уже приподнятую над землей. Я упал и быстро пополз назад, поняв, что это ранение. В санитарном окопе роты две медсестры перевязали сквозную рану, которая почти не кровоточила. Кровь пошла, лишь когда я дополз до своего окопа. Бинтовал ногу обмотками, но остановить кровотечение не мог. Что было потом, не помню. Очнулся утром после переливания крови в полевом госпитале, расположенном в роще. Выносить раненых с позиций можно было только ночью.
Подробности госпитальной жизни помню плохо – это не те острые впечатления фронтовой жизни, которые я потом часто вспоминал. Жизнь в госпитале не требовала усилий и напряжения воли, один день был похож на другой. Операций мне не делали, обработали входную и выходную раны, забинтовали ногу и уложили в гипс. Затем отправили в эвакогоспиталь в Краснодар, через два дня – в другой госпиталь в Баку, а затем на стационарное лечение в Тбилиси. Там меня уже могли навещать мама, Рой, тети, кузины и друзья. Выписывала из госпиталя врачебная комиссия, которая и решала, куда тебя отправить: обратно в строй, на нестроевую службу или на инвалидность третьей, второй или первой группы. Первая группа – это потеря конечностей и полная нетрудоспособность, вторая – потеря одной руки или ноги, третья – сохранение ограниченной трудоспособности. Мне дали вторую группу инвалидности, но временно, на три месяца, так как у меня еще не прекратился остеомиелит (воспаление надкостницы), требовались перевязки и осмотры. В 1944 году перевели в третью группу, уже в Москве. Основным документом у всех покидавших госпиталь была выписка из истории болезни, на основании которой уже по месту жительства назначалась пенсия и выдавались документы – в моем случае паспорт и свидетельство военкомата об освобождении от воинской обязанности.
Биология, медицина или агрономия?
В январе 1944 года я приехал из Ростова-на-Дону в Москву с намерением поступить на биологический факультет МГУ. Приема студентов зимой нет, но у меня не было другого выхода.
В декабре 1943 года раздробленные пулей кости стопы срослись достаточно прочно, что позволило мне сменить костыли на палочку. Брат Рой служил в тыловых частях. Как демобилизованный из армии по инвалидности я имел право вернуться в Ростов, освобожденный от немцев весной 1943 года. Действовали указы, гарантировавшие возвращавшимся в освобожденные города жителям право на жилплощадь.
Ростов-на-Дону, который был дважды оккупирован (осенью 1941-го и летом 1942-го), подвергся сильным бомбардировкам. Но пятиэтажный дом № 78 на Пушкинской улице, в котором была наша двухкомнатная квартира, стоял невредимым. Квартира эта принадлежала тете Наде с бабушкой. Мы переехали к ним после ареста в Москве нашего отца Александра Романовича, профессора военной академии. Он был осужден как «бухаринец» и умер в марте 1941 года в одном из лагерей Магаданской области. Отец был очень сильным мужчиной и физически закалял нас с братом с раннего детства. Но каторжной работы на Колыме не вынес и он.
В нашей двухкомнатной ростовской квартире жили теперь сразу три семьи, переселенные из разрушенных домов. Хлопотать о ее возвращении не имело смысла. Никаких принадлежавших нам вещей там не осталось. Пропала и большая библиотека отца, которой мы дорожили больше всего. Моя двоюродная тетя, хорошо известный в Ростове зубной врач с собственным кабинетом в центре города на проспекте Буденного, не уехавшая из города, была расстреляна вместе с мужем при ликвидации немцами всех ростовских евреев. (Вторичная оккупация Ростова произошла 24 июля 1942 года. Но уже 11–12 августа все оставшиеся в городе евреи – около 15 тысяч человек, включая детей, – были расстреляны в Змиевской балке за городом.) Мы убеждали тетю уехать, но она не хотела все бросать, надеясь на свою русскую фамилию Сахарова и на то, что хорошие зубные врачи нужны при любом режиме. Своих детей у нее не было. В ее замечательную квартиру вселился при оккупации офицер гестапо. Теперь там тоже жили несколько семей.
В Ростове я прожил около недели. Меня приютила мать школьного друга Кости Рагозина, который воевал где-то в Белоруссии. Его отец пропал без вести летом 1942 года на подступах к Сталинграду. Делать в городе мне было нечего, и я пошел на вокзал, чтобы уехать в Москву. В то время в каждом пассажирском поезде был вагон для раненых, в который человеку в солдатской шинели можно было сесть без билета. Контролеры в эти обычно переполненные вагоны не заходили. Ехали в большой тесноте. Мне досталось место лишь в тамбуре. Моим соседом оказался тяжелораненый капитан. Его сопровождала медсестра. Прямого сообщения между Ростовом и Москвой еще не было, и поезд проезжал через руины Сталинграда. В Москве я оказался лишь через шесть дней. На железнодорожных станциях были специальные столовые для возвращавшихся из госпиталей демобилизованных. Четверть пассажиров вагона составляли тяжелораненые, нередко без ног. Их сопровождали санитары или медсестры.
Декан биофака МГУ принял меня приветливо и был готов зачислить кандидатом в студенты, с тем чтобы начать учебу в октябре. Инвалидов войны принимали в то время в вузы вне конкурса и без вступительных экзаменов. Студентов-мужчин было немного. Но университет, только недавно вернувшийся из эвакуации в Казань, не имел пока студенческого общежития. Во Втором медицинском институте также оказались проблемы с общежитием. Все прежние общежития были заняты под военные госпитали. Директора института явно удивила моя эрудиция в области медицины (основанная на книгах И. И. Мечникова, Поля де Крюи и А. А. Богомольца, прочитанных еще до войны). Он был готов зачислить меня в студенты сразу, но лишь на санитарный факультет. «Вы пропустили анатомию человека, без нее на лечебном факультете делать нечего. Нужно ждать до осени», – объяснил он.
В Москве я жил уже пять дней, ночуя либо на Казанском, либо на Ленинградском вокзалах. При карточной системе на продукты питания купить еду можно было лишь на вокзалах в буфетах специальных залов для военных и демобилизованных. Кое-где были и столовые для раненых. Сотни тысяч инвалидов войны, выписанных из госпиталей, перемещались по стране, не имея возможности вернуться домой. Власти просто не знали, что с ними делать, и вокзалы стали для них общежитиями. Их родные города и деревни были сильно, а часто и полностью разрушены либо еще не освобождены. В январе 1944 года Крым и Одесса оставались оккупированными немецкой армией, бои шли за Кривой Рог. Именно в это время произошел разгром немецких войск, окружавших Ленинград. Всю Белоруссию, Прибалтику и Молдавию еще предстояло освобождать.
В Петровско-Разумовское, где раскинулись на большой территории красивые учебные корпуса, общежития, опытные поля, пруды и лес Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, я приехал на пригородном поезде с Ленинградского вокзала. Декан агрономического факультета профессор Николай Александрович Майсурян оказался моим земляком, он родился и окончил университет в Тбилиси. Я снова получил предложение стать кандидатом в студенты. Но до начала нового учебного года мне предложили работу и общежитие. Работа была простая, но опасная – промывка белого кварцевого песка концентрированной соляной кислотой, чтобы освободить его от всех минеральных солей. В подвале, где стояли промывные баки, приходилось надевать противогаз. Этот песок, который затем надо было отмывать и от соляной кислоты простой и дистиллированной водой, тоннами использовался для агрохимических и физиологических опытов с разными комбинациями удобрений. Весной, как рабочему опытной станции, мне предложили две сотки уже распаханного поля подмосковного учхоза «Отрадное» под огород. В октябре, когда я наконец стал студентом, под моей кроватью в общежитии лежали два больших мешка с картошкой.
Трофим Денисович Лысенко
Мои научные интересы в области проблем старения сложились, когда мне было еще пятнадцать-шестнадцать лет. Зимой 1942 года я часами просиживал в публичной библиотеке Тбилиси, конспектируя монографию А. В. Нагорного «Проблема старения и долголетия», изданную в Харькове в 1940 году. В Тимирязевской академии этой темой занимались на кафедрах зоологии, ботаники, химии и физикохимии, физиологии и биохимии. То, что их исследования относились к растениям и животным, а не к человеку, не имело значения. Растения и животные тоже стареют, хотя и неодинаково. Для животных необходимость старения тела достаточно логично объясняла теория Вейсмана о смертности сомы и бессмертии зародышевой плазмы. Но у растений явно не было отдельного от сомы зародышевого пути. Они были способны к неограниченному вегетативному бесполому размножению. Из соматических клеток можно было получить новое растение. Растения размножаются клубнями, черенками, корневыми отводками. Точка роста стебля, состоящая из быстроделящихся вегетативных клеток, которые образовывали листья, неожиданно весной, летом или в теплых краях осенью, а иногда и через год вдруг начинала формировать цветок с полным набором мужских и женских репродуктивных органов. Первая теория, которая сложилась у меня, была попыткой объяснить именно эту загадку. Я предположил, что в точках роста растений среди в основном соматических клеток есть и потенциально зародышевые. Соматические клетки, замедляя свои деления из-за старения, постепенно замещаются зародышевыми, и именно поэтому точка роста начинает формировать не листья, а цветок с половыми органами. Иногда это замедление делений соматических клеток может вызываться низкой температурой, как у озимых растений. Иногда – сменой фотопериодов от весны к лету. Моя гипотеза в чем-то дополняла теорию стадийного развития растений, которая прославила Трофима Денисовича Лысенко еще в 1929 году, когда он впервые на практике смог довести озимую пшеницу до репродукции при весеннем посеве, продержав проросшее зерно две недели под талым снегом. Я изложил свою гипотезу на пяти страницах каллиграфическим почерком и послал в апреле 1945 года по почте один экземпляр академику Лысенко, президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), а другой передал заведующему кафедрой ботаники нашей Тимирязевской академии профессору Петру Михайловичу Жуковскому, яркие лекции которого для нас, студентов первого курса, были наиболее увлекательными. Недели через две я получил письмо в конверте ВАСХНИЛ. Ответ Лысенко был кратким: «Уважаемый Жорес Александрович! Ваши идеи кажутся мне интересными. Будете в Москве – заходите. Академик Т. Д. Лысенко».
ВАСХНИЛ в Большом Харитоньевском переулке в центре Москвы занимала здание старинного дворца князей Юсуповых. Табличка сбоку от входа извещала, что это памятник архитектуры XVII века, охраняемый государством. В обширной приемной у кабинета президента уже сидели около тридцати человек. Многие явно приехали издалека и из деревень. Встречали посетителей секретарша и помощник, спрашивали о причинах визита. Я показал помощнику письмо. Лысенко начинал прием в 11.00. Нам объяснили, что академик принимает не по очереди, а всех сразу. Он будет беседовать сначала с агрономом, который приехал из Сибири. Но мы будем сидеть в кабинете и можем задавать вопросы и подавать реплики. Нередко, как нам сказали, люди приходят к академику с одними и теми же проблемами, никаких ограничений на запись на прием нет. Интересные мысли приходят академику часто именно в ходе таких бесед.
Точно в 11.00 посетители стали входить в большой кабинет президента. Лысенко уже сидел за своим огромным столом (он вошел через отдельную дверь). Кабинеты крупных советских администраторов всегда состояли из двух комнат: одна, большая, – для приемов, вторая – «личная», с диван-кроватью для отдыха, буфетом и санузлом. Стол Лысенко был завален сельхозпродукцией: несколько снопиков пшеницы и ржи, крупные картофелины, початки кукурузы. Большие снопы пшеницы, привезенные из разных концов страны, стояли у стены недалеко от письменного стола. Стулья для посетителей располагались вдоль боковых стен. Книжных шкафов, обычных для кабинетов деканов, директоров и профессоров, не было видно.
«Садитесь, – обратился к нам Лысенко неожиданно громким, но очень хриплым голосом, – я буду говорить с агрономом из Омской области. – Он назвал фамилию. – У него вопрос по поводу посевов озимой пшеницы по стерне».
В 1943–1944 годах посевы озимой пшеницы по стерне в Сибири по методу Лысенко, то есть по необработанному, невспаханному полю, были главной темой дискуссий в сельскохозяйственных кругах. В 1942 году наступление немцев на Северный Кавказ и на Сталинград началось лишь в конце июля, когда уборка урожая озимой пшеницы была завершена. Большую часть зерна успели вывезти в Закавказье и за Волгу. Но сеять озимую пшеницу для урожая 1943 года оказалось негде. В Сибири озимую пшеницу не сеяли, она вымерзала. Лысенко предложил сеять озимую пшеницу в Омской и в Новосибирской областях по стерне от убранной яровой, то есть по невспаханным полям. По его теории, проверять которую не было времени, ростки гибнут зимой не от самих морозов, а от образования кристаллов льда и уплотнения и перемещений замерзающей рыхлой земли, в результате чего происходит разрыв узла кущения злаков и корней, находящихся под землей. В плотной невспаханной земле таких разрывов не будет и ростки не погибнут. Если узел кущения цел, растения регенерируют весной боковые почки и все побеги. Стерневая щетина, остающаяся от скошенного урожая, лучше сохранит снег, защищая почву. В августе-сентябре 1942-го в Челябинской, Новосибирской и Омской областях были засеяны озимой пшеницей по стерне сотни тысяч гектаров. Результаты оказались противоречивыми: в одних колхозах был урожай, в других посевы вымерзли.
Агроном из Сибири был из тех, у кого урожай пострадал. Начался спор. Сидевшие вдоль стен активно в нем участвовали. Около часа дня в кабинет вошли официантки с подносами и раздали посетителям крепкий сладкий чай в стаканах с серебряными подстаканниками и большие бутерброды с красной икрой и семгой. Это было приятным сюрпризом. К трем часам дня прием закончился. Лысенко сказал, что его ждут на совещании в Кремле. До обсуждения моей гипотезы дело не дошло. Но я возвращался в общежитие вполне удовлетворенным.
Петр Михайлович Жуковский
Профессор Жуковский был наиболее популярным и авторитетным ученым нашей академии – академик ВАСХНИЛ, лауреат Сталинской премии и автор считавшегося лучшим учебника ботаники. В экспедициях в Малую Азию, Сирию, Месопотамию он собрал тысячи образцов культурных растений, написал книгу «Земледельческая Турция» и открыл в Закавказье новый вид ранее неизвестной пшеницы, уникальной по своему высокому иммунитету к грибковым заболеваниям. Этот вид пшеницы, названный Жуковским в честь своего учителя Тимофеева Triticum timopheev Zhuk, использовался селекционерами для скрещивания пшениц во многих странах для усиления иммунитета у выводимых ими сортов.
Жуковскому не требовалось отвечать мне письменно. Ботаника являлась одним из главных предметов первого курса, и каждую неделю наша учебная группа приходила на кафедру ботаники в учебный корпус № 17 для практических занятий. Из двадцати членов группы я был единственным мужчиной, и Жуковский меня уже знал. После очередного семинара мне сказали, что Петр Михайлович ждет меня в своем кабинете. Он встретил меня приветливо, даже сердечно. Лаборантка принесла нам чай и бутерброды с сыром. Жуковский похвалил мой почерк и стиль: «Ваша рукопись написана хорошим научным языком». Расспросил немного про мою биографию и сказал: «Мой сын Алешка сейчас тоже на фронте, уже в Германии, надеюсь, что он не погиб». (В это время, в конце апреля, шли бои уже за Берлин.) Затем продолжил: «Давайте вместе проверять вашу теорию. У нас на кафедре есть лаборатория эмбриологии и цитологии растений. Мы дадим вам хороший микроскоп. Но нужно еще многому научиться…»
На следующий день я пришел в эту лабораторию. Ею руководила опытный цитолог Анаида Иосифовна Атабекова, доцент. Как оказалось, она была женой декана Майсуряна и тоже родилась в Тбилиси.
Через две недели война закончилась. Сын Жуковского Алеша, военный летчик, не погиб, и через год я с ним познакомился. Мой ростовский друг Костя Рагозин был убит в уличных боях в Берлине. Об этом я узнал от его матери, когда побывал в Ростове в 1946 году.
Никитский ботанический сад
Я учился и работал очень интенсивно. Из Германии по репарациям в конце 1945 года привезли в Тимирязевскую академию новейшие микроскопы и лабораторную посуду. Я освоил работу на микротоме – приборе для получения тончайших срезов тканей для их изучения под микроскопом, научился окрашивать срезы с точек роста растений, делать микрофотографии. В Германии еще в 1940 году было опубликовано исключительно интересное исследование Ф. Мевуса (F. Moevus) и Р. Куна (R. Kuhn), показавшее, что у зеленой водоросли хламидомонады половая дифференцировка гамет на мужские и женские клетки зависит от фотохимических реакций света с разными каротиноидами. При этом мужские и женские гаметы содержали разные наборы каротиноидных пигментов. Эти пигменты почти всегда присутствуют в пестиках и в рыльцах цветков растений. Жуковский поручил мне собрать по этому вопросу всю возможную литературу на английском. Он свободно владел немецким и французским, но не английским. Я сделал для него переводы с английского большого числа публикаций, и в начале 1948 года он подготовил под двумя нашими фамилиями обзор «Значение световой энергии и каротиноидов для развития бесполого и полового поколений в растительном мире», который был вскоре опубликован в журнале «Успехи современной биологии» (1948. Т. 26, вып. 4. С. 501–514). К нашему удивлению, редакция журнала по требованию цензуры удалила из списка литературы – важнейшего раздела любого обзора – очень много ссылок на иностранные публикации. С 1946 года действовало нелепое цензурное правило, требовавшее, чтобы количество ссылок на иностранные источники не превышало количество ссылок на отечественные работы.