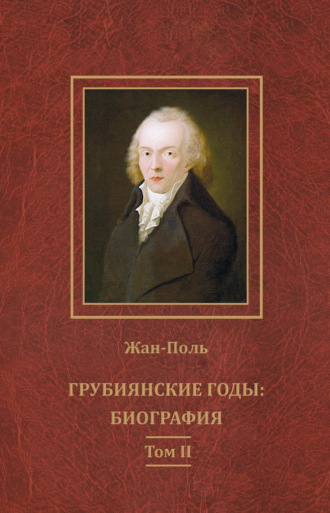
Жан-Поль
Грубиянские годы: биография. Том II
№ 53. Крестовый камень возле Гефреса под Байрейтом
Охотничья сценка с кредиторами
Наутро Вальт совершенно по-детски радовался, мысленно возвращаясь во вчерашний день, который, чуть-чуть повернув его жизнь против солнца, сделал ее такой сверкающей, что нотариус пережил множество дней за один, тогда как обычно много летящих друг за другом, перекрывающих друг друга временных промежутков едва ли дают человеку возможность разглядеть хоть какой-то из них. Сегодня же он остался дома и усердно писал.
Флитте это не нравилось; одинокое пребывание дома, может, и расценивалось им как приправа, или гарнир, к приятной компании, но саму компанию заменить не могло. Между тем тот, кто никому не подражает, сам становится примером для подражания: Вальт с его поэтическими всплесками до такой степени понравился эльзасцу (хотя тот рядом с этой поэтически-игривой волной вращался как прозаический разговорный вал и редко мог понять нотариуса или ответить ему), а Вальтова необычная симпатия и привязанность еще раньше так славно обогрели этого порхающего человека, что Флитте и сам остался дома, просто чтобы побыть с ним, хотя он лучше, чем кто бы то ни было в мире, предвидел, какие кредиторы-москиты будут его сегодня кусать, – ведь всякие мошки, как известно, предпочитают нападать на нас, когда мы стоим на месте, а не идем. Ибо основной закон природы гласит: кто ничего не строит, кроме испанских замков, тот пусть и не рассчитывает ни на что, кроме столь притягательных шпанских мушек. Второй закон: когда бы ты ни явился к злостному должнику, получившему накануне деньги, слишком ранним этот час в любом случае не будет.
Действительно, уже в самый ранний час явилось привычное разъяренное воинство, которое эльзасцу приходилось вновь и вновь отсылать назад, предварительно излечив от ярости; и Флитте здесь, как и повсюду, принимал его в специально для этого выбранной палате для аудиенций, чтобы уделить пришедшим единственное, что он имел: внимание. А вот нотариус, со своей стороны, ничего такого уделять им не собирался: он, будто оглохнув, усердно продолжал сочинительствовать, в то время как Флитте, на отдалении от него, сражался в битвах. Поистине, стоит не пожалеть усилий и хотя бы кратко рассказать о военных походах, которые Флитте совершил в этот день, прежде чем расположился на теплых зимних квартирах, то бишь в своей постели. Левое крыло ежедневно нападающего на него войска состояло из евреев; правое образовывали прокатчики комнат, лошадей и книг, а также профессионалы по уходу за человеческим телом и торговки рыбой; во главе же выступал, как генералиссимус, некий человек с траттой; официальные отчеты повествуют об этом так:
Ранним утром, в тумане, каре евреев перешло в атаку; но Флитте легко обратил их в бегство – скорее, посредством грубого военного клича, нежели с помощью утонченных военных хитростей; и сказал только: они, мол, всего лишь евреи, а он пока что ничего не имеет, так чего они вообще от него хотят?
Пока он завтракал с Вальтом, его попытался взять приступом часовщик, у которого он прежде купил часы с репетиром – за свои обыкновенные, только показывающие время, и денежную ассигнату. Флитте клялся, что часы с репетиром плохо «повторяют» время, что свои ему так же милы – и, по крайней мере, исправно повторяют показывание, – а под конец предложил произвести обмен пленных. Но поскольку этот человек уже успел продать «немые» часы, как и Флитте, со своей стороны, – «говорящие»: врагу пришлось отступить с потерей одного часа.
Позже Флитте, что можно считать везением, выглянул из окна – и вовремя заметил приближение конного противника: некоего прокатчика лошадей. Эльзасец принял его в палате для аудиенций, поскольку хорошо помнил этот рубящий голос и воинственную глотку; но сумел в зародыше подавить боевой клич врага посредством «парового шара», который запустил таким образом: «Помнит ли столь ценимый мною предприниматель угловую ель в Кабелевом лесу, которая недавно досталась мне по наследству вместе со многим прочим, уж не говоря о том, что я рассчитываю получить в будущем? Из нее можно выточить целый мельничный вал! Никакого сомнения! Короче, я уже почти обещал ее другому; но предприниматель, которого я столь высоко ценю, должен получить преимущественное право – пусть он это оценит – и тогда, после вычета суммы долга, по-честному заплатит мне, что останется, – что на это скажете, друг мой?» – Враг его ответил, что наконец-то услышал полноценное, с руками и ногами, слово, – и покинул поле сражения.
Сразу же вслед за ним подъехал рысью второй поставщик лошадей – в длинном, синем, накинутом поверх кожаного фартука кафтане – и, хмуро хмыкнув, сдвинул кожаную шапку на лоб. «Так и что? – спросил он. – Фокусы-покусы сегодня со мной не пройдут». – «Спокойно! – ответил Флитте. – Помнит ли столь ценимый мною предприниматель угловую ель… (и так далее)? Из нее можно… (и так далее). Короче, я уже… (и так далее)». Враг ответил: «Это похоже на обман: но Господь не… – упаси нас Господь!»
Поединок с тугоухой башмачницей оказался опасным, потому что на ее крики отвечать имело смысл столь же громко, но тогда бы его мог услышать Вальт. К счастью, Флитте сразу показал ей старый позолоченный памятный пфенниг (уже стократно служивший ему осадной монетой и неразменным талером) и крикнул в самое ухо: «Разменяю – вечером в шесть!» Но она еще долго палила по полю сражения, ибо у нее снаряды вообще не иссякали. Женственная Беллона гораздо ужаснее, чем мужественный герой Марс…
«Войдите!» – крикнул он; и малорослый, круглощекий, кругленький мальчишка аптекаря вкатился в комнату. «Я пришел сюда как ученик нашей Хехтовой аптеки, чтобы передать, согласно произведенному подсчету, счет за бедную Биттерлихшу, живущую на Хопфегассе, потому что мой господин принципал покорнейше кланяется вам и просит компенсировать ему затраты на ее излечение. Всё это – только из-за распорядка в нашем заведении; ибо послезавтра, как всем известно, я буду произведен в подмастерья». Перед столь деликатным врагом Флитте сложил оружие, то есть отдал-таки ему полу пистоль (еще из старых пистолей), но сказал: «Господин Хехт хочет нарастить на свои серебряные пилюли толстый слой золота. Передай ему, что врача, оказывающего вспоможение при родах, я уже оплатил». – «Какой же ты добрый-добрый!» – воскликнул Вальт. «Эта женщина пребывала и пребывает до сих пор в самом жалком положении, какое только можно вообразить; и ведь она даже не красива!» – пояснил Флитте.
Незамеченный, приблизился еще один вражеский отряд численностью в одного знаменосца, который начал свою атаку так: «Ваш покорный слуга! Говорю раз и навсегда: ни один человек не позволит, чтобы ему долго морочили голову. Я же со времени обращения Павла играю роль вашего шута и бегаю за вами, чтобы получить от вас хоть малую толику квартирной платы. Сударь, за кого же вы держите нашего брата?» – «Вы ведь прекрасно знаете, – ответил Флитте, – что я выплачиваю долги постепенно и вообще не терплю, чтобы мне об этом напоминали, не правда ли?» – «Ах, вот как? – возмутился знаменосец. – Я, и еще три домовладельца, и один чистильщик сапог уже объединились между собой и отписали ваши долги городской богадельне». – «Что-о-о, неотесанное мужичье? – пропел Флитте, растягивая слова. – Мне это даже нравится. Только что я отдал Хехтову подмастерью (стоящий рядом со мной господин это подтвердит) половину золотой монеты за лечение совершенно чужой мне, совершенно нищей Биттерлих; так что мне теперь за дело до всего этого?» И эльзасец показал ему полный, скрепленный кольцом кошель со словами, что квартирная плата была для него уже полностью отсчитана, однако теперь он не получит ни гроша; после чего противник, напрасно сославшись несколько раз на то, что богадельня пока не получила никакого письменного документа, ретировался без всякого музыкального сопровождения, крайне расстроенный тем, что этот – только продемонстрированный ему – кошелек оказался, как у турок, равнозначным самим деньгам.
Вслед за этим явился еще один, 23-й господин, имеющий права территориального господства над Флитте, – за 23-им последовал 11-й – а за ним пятый; и каждый хотел получить поземельный налог, или ежеквартальную либо жилищную плату, за уголок в том зданьице, что подлежало его юрисдикции. Господам, которые вели себя грубо, Флитте вообще ничего не давал, кроме ответа, что в предоставленную ими комнату проникало больше сквозняков, чем света, что обслуживание было из рук вон плохим, а мебель – обветшавшей. Вежливым он платил за их территориальные права территориальными мандатами на десять унаследованных им древесных стволов – то есть расплачивался с ними бонбошками бонов. После пришел господин, который правил башней прежде ее нынешнего владельца, – благочестивый Гутер с двумя длинными седыми локонами, выбивающимися из-под тесной кожаной шапочки, – и попросил предоставить ему в качестве предоплаты половину того, что Флитте задолжал. Флитте дал ему эти деньги, сказав: «Я и без того, насколько припоминаю, остаюсь перед вами в долгу, герр Гутер». – «Всё так или иначе разъяснится», – ответил тот.
После ужина некий прокатчик книг отважился перейти в наступление и тем самым подверг себя особой опасности. За книгу стоимостью 12 грошей и объемом в 12 листов он потребовал 2 талера абонементной платы (за 2 годовых квартала). Дело в том, что Флитте, имевший обыкновение любую одолженную вещь одалживать еще кому-то, соответственно ее назначению, позволил этой книге столь долго находиться в обращении – ибо каждый из получивших ее поступал так же, как он, – что в конце концов она потерялась. Напрасно эльзасец предлагал, что купит ее за треть требуемой суммы; прокатчик упорно настаивал на выплате абонементной платы и спрашивал: мол, разве это много – чуть больше пфеннига за страницу? Даже Вальт, со своей стороны, попытался убедить прокатчика книг, что тот ведет себя чересчур «своекорыстно». – «Своекорыстно? Надеюсь, что так; человек одним только своекорыстием и жив», – ответствовал прокатчик. Флитте предоставил ему возможность немедленно и опрометью броситься в ближайшую судебную палату – после того как щедро заплатил… только за десять новогодних открыток и пять календарей, которые прежде взял домой, чтобы что-то для себя выбрать, да так и позабыл вернуть.
Незадолго до того, как пробило шесть, двое друзей решили немного прогуляться на свежем воздухе, которым предпочитал жить сам Флитте; на пороге дома к ним обратился, весь дрожа, изготовитель живописных кисточек Пурцель – младший брат театрального портного, – с ввалившимся лицом, очертаниями напоминающим рюмку (только края лба и подбородка казались выпуклыми), – в обшарпанном сюртучке, застегивающимся на левую сторону, – с выползающим из-под банта длинным округлым червем косички – и подрагивающим правым коленом. «Ваши милостивые милости, – начало сие жалкое создание, – позавчера превосходнейшим и любезнейшим образом приобрели у меня миниатюрную кисть… Я ручаюсь, что кисть эта, в определенном смысле, совершенно замечательная… и потому прошу выплатить мне то немногое, чего она стоит, а также – чтобы вы, воспользовавшись такой оказией, еще и что-нибудь мне подарили». – «Вот, возьми!» – сказал Флитте этому смиренному живому символу праздника примирения, этому безмятежному олицетворению протокола об имперском мире: Пурцелю-младшему.
Вечером владелец кофейни Фресс исполнил военную пляску – соединив ее с неким подобием гросфатера. Он пришел, чтобы вежливо дать понять: он, мол, гостям из города обычно каждый вечер приносит счет, чтобы они ознакомились с ним и оплатили его… Тут Вальт впервые увидел, что представляет собой – в чисто визуальном плане – французский (или эльзасский) гнев: это была бешено стремящаяся вперед боевая, ощетинившаяся серповидными мечами колесница – со вздымающимися, обрушивающимися вниз и кромсающими противника на куски… проклятьями, клятвами, взглядами, руками. Требуемые деньги полетели Фрессу под ноги, да даже и в голову, после чего были упакованы вещи – и с проклятиями осуществлен переезд в пустой дом находящегося в отъезде доктора Шляппке. Вальт, своими мирными проповедями пытавшийся задуть это пламя негодования, добился лишь того, что оно взметнулось еще выше. Только какой-нибудь новый прожитый час – и ничто другое – мог бы обучить Флитте Эпиктетовым добродетелям.
№ 54. Суринамский Эней
Живопись. – Вексельное письмо. – Письмо раздора
Светло и легко влетали Оры в многодомный дом доктора Шляппке, и вылетали из него, и приносили мед. Здесь, внутри этого солнечно-светлого острова невинной радости, Вальт не видел никакого учтиво-грубого Фресса – не слышал никакого вымогателя денег или охотника за деньгами, крадущегося по огороженному контрактами лесу, ни одного из кредиторов, которые делятся на пять подвидов (или Книг Моисея) и вечно напоминают нам об истощении жизненных сил и чахотке, – здесь он слышал только песенки и прыжки; здесь наличествовали целые тупички из нового Иерусалима. Ибо того, что проникало сюда из старого – частично из числа иудеев, частично из христиан, – Вальт слышать не мог, поскольку Флитте позволял своим мышьяковым королям металлов, то бишь кредиторам, отравлять себя только в одном отдаленном худодумном уголке. На втором этаже жила воинствующая Церковь: Флитте и короли; на четвертом – торжествующая: Флитте и Вальт.
Между тем нотариус еще не зашел так далеко, чтобы вообще ничего не замечать. «Я бы хотел быть более близоруким, – говорил он себе. – Как подумаешь, насколько радостным и щедрым остается этот добрый человек даже в бедствиях; и что он бы сделался всецело таким, если бы не знал ни малейших мук (ведь некоторые люди становятся добродетельными, когда у них заводятся деньги), и с какой нежностью он всегда говорит о богатстве: то, в самом деле, мне трудно вообразить себе лучший день, чем когда этот бедный шут внезапно увидел бы стоящими в его комнате высоченный ларец с деньгами и денежные мешки. О, как могли бы помочь такому человеку хотя бы проценты с процентов на проценты английского национального долга!» Вальт спросил себя, почему, в то время как у всех горестей бывают каникулы, горести немецкого должника не прерываются никогда, хотя в Англии все же воскресенье – день отдыха для должника; а согласно иудейской религии, даже вокруг проклятых – в субботу, в праздник новолуния и пока длится еженедельная молитва евреев – ад как бы умирает и над этой жаркой бездной веет кроткое прохладное бабье лето погребенной жизни.
Его сердце переполнялось любовью, когда он живописал себе праздник душ, коим надеялся одарить флейтиста с помощью эльзасца, а второго из них – с помощью первого: когда убедит Вульта, что Флитте ведет добропорядочный, либеральный, поэтически-свободный образ жизни, а эльзасцу потом представит этого шпильмана-аристократа. «О, я бы постарался избавить своего славного брата от необходимости осознать и признать, что прежде он заблуждался!» – восторженно восклицал он.
Оба с возрастающей сердечной теплотой вживались в эту неделю и друг в друга: они предпочли бы скорее продлить испытательный срок, нежели завершить его. Флитте казался любящим, теплым существом, окутывающим Вальта, словно наэлектризованный воздух: чем-то новым для него и притягательным; под конец нотариусу уже было трудно выйти без него из дому.
Вальт придавал этому тем большее значение, чем меньше, собственно, как он чувствовал, могли они сказать друг другу; их нервные узлы перепутались, и они, подобно полипам, тесно срослись; однако каждый из них питался на собственный страх и риск, так что ни один не мог стать для другого ни желудком, ни пищей.
Настал последний день испытательной недели, или недели блесток. Вальт страшился всего окончательного, любого резкого финала, даже окончания жалобы. Один рипиенист, игравший вместе с Вультом в Розенхофе, принес известие о его скором возвращении. Доктор Шляппке тоже должен был ночью вернуться. Так что Вальту предстояло увидеть парочку красивых полуночных зорь. Флитте попросил нотариуса в этот последний день, когда они будут вместе, сопроводить его к Рафаэле, которая должна сегодня недолго позировать для него, чтобы он написал простой миниатюрный портрет девушки ко дню рождения ее матери. «Мы трое, без посторонних, превосходно проведем время, – прибавил он. – Когда я пишу красками, я обычно мало разговариваю; а ведь речь невероятно оживляет любое лицо». Хотя Вальту показалось не особенно деликатным, что его хотят, как разговорно-возбуждающую машину, поставить перед позирующей барышней, – он все-таки подчинился желанию Флитте. В последнюю неделю он уже привык по нескольку раз на дню удивляться нехватке деликатного образа мыслей – не только на рынке, но и в лучших домах, внешне прекрасно покрашенных и отштукатуренных.
С удовольствием вошел он в собственный дом, как в чужой. Рафаэла улыбнулась им обоим с верхней ступеньки лестницы и поспешно ввела их в свой рабочий кабинет. Здесь уже громоздились разнообразные, но плохо совместимые друг с другом вина, пирожные и мороженое. Правда, поскольку любой женщине легче разгадать сердце мужчины, нежели его желудок, она попросту не знает, что ее гость предпочел бы выпить в четыре часа пополудни. Слуги, один за другим, заглядывали в двери, чтобы подхватить налету очередное желание Рафаэлы и потом вернуть его уже выполненным. Вся прислуга, похоже, расценивала ее правление как золотой век Сатурна; некоторых представительниц женского персонала даже можно было увидеть прогуливающимися по парку. Предвечерний солнечный свет, всё обильнее вливавшийся в комнату, и глянец радости, который идет любому лицу, придавали и самой барышне, и всей ситуации особую привлекательность. Флитте, по сравнению с Рафаэлой, показался не то чтобы воплощением фальши, а скорее пятеричной выжимкой из собственной сущности (на одну пятую галантным, на одну добрым, на одну чувствительным, на одну корыстным и на одну уж не знаю каким), когда она, к восторгу Вальта, попросила: «Не приукрашивайте мое лицо, от этого мало проку; постарайтесь просто, чтобы ma chère mère меня узнала». В душу нотариуса тайно закралась тихая радость: от того, что он стоит сейчас как раз под собственной комнатой, одновременно гость и квартиросъемщик в этом доме, и далее, от того, что не испытывает ни малейшего смущения – ведь Флитте для него не чужой, а с одной женщиной он как-нибудь да справится, и, наконец, от того, что прекраснейшие ароматы и безымяннейшие предметы мебели украшают здесь каждый уголок. «Разве мог я, крестьянский сын, хотя бы мечтать о таком?» – подумал он.
Флитте между тем достал пластинку слоновой кости и коробочку с красками и объяснил своей модели, что чем непринужденнее и чем в лучшем настроении она будет сидеть перед живописцем, тем удачнее получится ее портрет. Хотя с тем же успехом она могла бы сидеть и на Северном полюсе, а он – оставаться на Южном: задача передать сходство и в этом случае удалась бы ему ровно в такой же мере; поскольку как художник он вообще ничего не умел ухватить, он решил сосредоточиться на ухватывании того, что на ней надето. Она уселась и сделала «позирующее лицо» – как все барышни, когда их живописуют. Маска благородства, которую человек в таких случаях на себя напяливает, это самая холодная из всех гримас, какие он способен изваять из своего лица, – поэтому художники гораздо реже портретируют самих людей, нежели их бюсты. В девических пансионах такое лицо принято называть «позирующим лицом барышни»; а еще бывает напрягшееся «причесываемое лицо» – жующее «бутербродное», одно из самых широких, – и, наконец, два «бальных»: одно (или «пасмурная сторона») для камеристки и другое («солнечная сторона») – для партнера по танцам. Вальт теперь завелся и разогрелся – чтобы и самому что-то живописать, а не только помогать другому живописцу. Он – достаточно умело – представил выжимки из своего недавнего кругосветного путешествия, мимоходом подмешав к ним замечание, что под водопадом видел подругу Рафаэлы, Вину. Из всех рассказчиков и собеседников самые счастливые и богатые – те, что описывают свои путешествия; в путешествие вокруг 1/ 1 000 000 части земного шара они способны вместить весь земной шар, и (во-вторых) никто не сможет их утверждения опровергнуть. Нотариусу захотелось еще сильней проявить свойственную ему силу живописания летних и осенних ландшафтов – Флитте-то создавал ландшафт зимний, – и он принялся набрасывать золотой, во всю стену, горный пейзаж с двумя розенхофскими вершинами; но Рафаэла, уже исчерпывающе восхитившаяся всем этим, быстро перевела разговор на свою подругу Вину – чтобы далее выпрядать нить беседы самой. Она пламенно восхваляла обаяние и поступки подруги – показала ларчик из красного дерева, где хранит ее письма, – кивнула на так называемый Винин уголок в углу, где та так часто сидела, глядя на заходящее между деревьями парковой аллеи солнце, – при этом ее лицо прямо-таки светилось любовью и теплотой… Нотариус был, можно сказать, не в себе: судя по его неподвижным зрачкам, он шумно ликовал, праздновал вакханалии, упражнялся в artes semper gaudendi, участвовал в потешных спорах, причислил себя самого к лику блаженных – и зашел так далеко, что как бы случайно уселся в Ванином уголке…
Веселье было в самом разгаре. Они продолжали пить – каждые четверть часа какой-нибудь слуга распахивал двери, чтобы налету подхватить второе, более позднее распоряжение госпожи. Флитте и сам не понимал, почему ему вдруг привалило такое счастье: что они все так много разговаривают и совсем, черт возьми, не скучают, и что Рафаэла так чудно возбуждена. Случайно Вальт сдвинул в сторону оконную занавеску, и солнце тут же плеснуло своими теплыми чернилами на лицо Рафаэлы, так что той пришлось отвернуться; Флитте вскочил на ноги, показал ей sbozzo и спросил: разве портрет не украден – наполовину – из ее прекрасных глаз? «Наполовину? Полностью!» – вскричал Вальт искренне, но простодушно; ибо с тем же успехом барышня могла бы позировать для этого портретика, повернувшись к художнику затылком со стальным гребнем. Эльзасец в ответ подарил ей несколько публичных поцелуев. Он, наверное, сделал это слишком внезапно, слишком мало отдавая себе отчет в том, что и увиденные эмоции – как и те, о которых мы читаем, – должны иметь, с точки зрения наблюдателя, какую-то мотивировку; Вальт поспешно перевел взгляд в сторону парка и наконец поднялся со своего места.
«Я был бы настоящим сатаной, – думал нотариус, – если бы не дал им возможность помиловаться»; и он под каким-то ландшафтно-живописным предлогом ненадолго ускользнул наверх, в свою комнату. Флитте, как только нотариус прикрыл за собой дверь, от самих прекрасных губок вернулся к живописанию оных и принялся усердно наносить пунктирные линии. «Как же, наверное, эти блаженные, – говорил себе Вальт, уже наверху, – сейчас прижимают друг друга к сердцу, в то время как вечернее солнце роскошно полыхает между ними!» В его собственной комнатке рог изобилия, переполненный вечерними розами, был еще богаче и затоплял большее пространство; и все-таки две жалкие половинки Вальтова жилища (жилая часть и спальная ниша) слишком резко контрастировали с только что оставленной им нарядной гостиной, так что он оценил глубину расселины своего внешнего счастья. Он расслабился и, тоскуя по возможности хотя бы наблюдать любовь, пусть и чужую, хотел уже поспешно спуститься вниз, но тут в комнату вошел Вульт. К братнину сердцу – в само это сердце – полетел Вальт. «Как божественно, – крикнул он, – что ты явился именно сейчас!»
Вульт, вернувшийся в умиротворенном настроении, сперва, как он привык, начал задавать вопросы о чужой истории, собираясь уже после ответить на вопросы о своей. Вальт свободно и радостно рассказал ему о протекании нотариатного срока и об утрате семидесяти древесных стволов. «Плохо лишь то, – невозмутимо заметил Вульт, – что я и сам веду себя как расточитель, презирающий деньги; иначе – ссылаясь на доводы разума, на совесть и на исторические примеры – я показал бы тебе, как сильно и насколько по праву я проклинаю свое сходство, в этом плане, с другими: например, с тобой. Презрение к деньгам делает несчастными больше людей, причем людей лучших, нежели переоценка значимости денег; поэтому многих лишают дееспособности pro prodigo, но никогда и никого – pro avaro». – «Лучше иметь переполненное сердце, чем полный кошелек!» – весело воскликнул Вальт; и тут же заговорил о своем выборе новой должностной обязанности и о прекрасной неделе с Флитте, всячески восхваляя эльзасца. «Как же часто, – закончил он свой рассказ, – мне хотелось, чтобы и ты поучаствовал в наших тайных окрыленных праздниках: среди прочего и для того, чтобы научиться менее строго судить эльзасца; ты ведь в этом смысле перегибаешь палку, дорогой!»
– Флитте кажется тебе человеком возвышенным? Классическим примером душевности или чем-то в таком роде? А его веселость ты принимаешь за поэтический корабль с парусами и крыльями? – спросил Вульт.
– По правде говоря, – ответствовал Вальт, – я вижу разницу между его прекрасным легкомысленным темпераментом, пасущимся лишь на лугах Настоящего, и поэтическим легким парением над оными: ведь Флитте никогда ничему долго не радуется.
– А на протяжении твоей испытательной недели – которую ты сам очень хорошо выбрал, без посторонних советов, – Флитте не заставлял тебя совершать какие-то сомнительные прыжки, за которые потом придется расплачиваться, например, деревьями? – спросил Вульт.
– Нет, – ответил Вальт, – зато он отучал меня от ошибочных шагов во французском. – На этом нотариус не остановился, а прибегнул к риторическим фигурам речи: мол, разве Флитте не открыл ему тончайшие оттенки языка, к примеру, что никогда не следует – или разве что редко – задавать вопрос comment, ибо вежливее просто произнести с вопросительной интонацией Monsier… или даже Madame? Разве эльзасец не порицал его, спросил далее Вальт, когда он совершенно не по-французски желал кому-то bon appetite или превращал «комнатную женщину», femme de chambre, в «комнатную девушку», или называл парикмахера friseur, а не coeffeur? Разве не объяснил ему, что глупо говорить porte-chaise, потому что это можно истолковать и как chaise a porteur, и как porteurs de chaise?
– Надеюсь, – предположил Вульт, – эти языковые уроки обойдутся для тебя не дороже, чем в остаток Кабелева леса.
– Пусть его назовут псом, – сказал Вальт, – поклялся мне Флитте, если он попытается использовать их к своей выгоде… А с правописанием я даже сам помогал ему: он, к примеру, писал jabot как chapeau. Ах, хоть бы у этого бедолаги было поменьше кредиторов и побольше денег!
– Тут-то как раз и заключен для тебя подводный риф совместной с ним жизни, – сказал Вульт. – Тот, кто становится бедным – а не уже является таковым, – тот портится сам и портит других: хотя бы потому, что вынужден каждый день лгать или новому кредитору, или всё тому же, но по-новому, – просто чтобы еще немного продержаться. Поэтому такой человек каждый день справляет праздник обрезания для чужих дураков. Поэтому каждый должник должен еще и безмерно хвастаться; он должен, следуя Лейбницевой двоичной системе, записывать «8» (например, гульденов) как «1000». Какие речи – каждый день новые – слышал я (многократно) от какого-нибудь должника, который обращал их к своим кредиторам, давшим ему ссуду под залог движимого имущества; слышал и желал поэтам и музыкантам такой же великолепной неисчерпаемости фантазии, с какой он умел прекрасно и сладостно исполнять одну и ту же тему – а именно, что у него вообще ничего нет, – со все новыми вариациями!
– Я подожду, пока ты выговоришься, – вставил Вальт.
– Так, например, если говорить вкратце, – продолжал Вульт, – польский князь * * *, проживающий в В., против каждого кредитора применял особое орудие; я это знаю точно, ибо при сем присутствовал; простолюдинов низкого звания он обстреливал частично из dragon, который стреляет 40-фунтовыми ядрами, частично из dragon volant, 32-фунтовыми, – то есть был груб по отношению к грубой черни… Уважаемых в городе лиц, особенно адвокатов, которым что-то задолжал, он атаковал частично посредством кулеврины, стреляющей 20-фунтовыми ядрами, частично – посредством полу кулеврины, с ядрами весом в 10 фунтов… Против господ более высокого звания использовал pelican (вес снаряда 6 фунтов) – sacre (5 фунтов) – sacret (4 фунта) – и, наконец, против одного князя, которого считал ровней себе, применял рибадекин, стреляющий снарядами в 1 фунт.
– Что ж, – начал Вальт, – теперь и я позволю себе не без удовлетворения упомянуть, что Флитте, этот добряк, отнюдь не будучи жестокосердным, именно из-за бедняков сам становится бедняком. Из чистой и доброжелательной радости по поводу его поступков я оплатил за его спиной счета двух дамских портних; ибо сам он явно нуждается только в мужском портном, причем в одном; и так происходит сплошь да рядом: например, с этой Биттерлих…
Тут его брат распалился – сказал, что только сатана в декабре поджигает дома, чтобы раздать головешки бездомным, – что больше других швыряется подарками тот, кто знает, что вскоре взойдет на эшафот, – что, как известно, мягче всего тина, коей свойственно опускаться на дно, – что именно тираны, похитители слез, поют и жалуются трогательно, как серафимы, но это объяснимо, ибо «серафим» означает «огненный змей», – что сам он ненавидит такую смесь: воровать и раздавать, украсть и приукрасить себя —
– Боже мой, Вульт! – вскричал Вальт. – Подобает ли смертному столь сурово судить другого? Разве не должен человек хоть немного любить себя и что-то для себя делать, если он целыми днями живет лишь с самим собой, только себя слышит и мечтает о том, что могло бы – в предельном случае – примирить его даже с нижайшим из людей или животных: о возможности быть вместе с кем-то? Кто же – от вечности и до вечности – позаботится о бедном «я», если не само это «я»? Я очень хорошо знаю, что говорю; знаю и любое возражение, которое может последовать. Но довольно! Сейчас я хотел бы только спросить: если такой человек как ты, в холодном состоянии духа, без воздействия какой-либо страсти, столь сурово судит людей и столь плохо к ним относится – то что же будет, когда, разгорячившись, он волей-неволей начнет всё преувеличивать? Возможно, с ним произойдет то же, что с твоими часами, о которых ты однажды сказал, что штырек – именно потому, что прекрасно подогнан к целому, – в холодную пору года отлично функционирует, но в жару, когда он расширяется, выводит из строя весь механизм.



