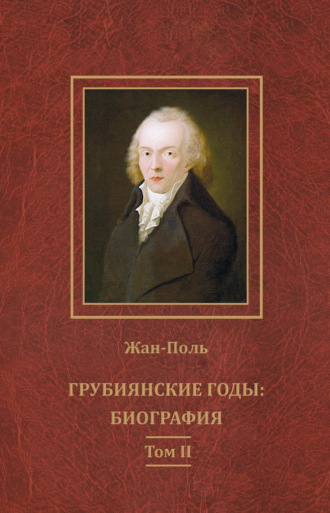
Жан-Поль
Грубиянские годы: биография. Том II
№ 52. Чучело Мухолова-Тонконоса
Светская жизнь
Наутро, после того как Вальт составил у себя в голове изысканнейшее обращение к придворному агенту (пока что там, в голове, и остававшееся), он явился к Нойпетеру – тот принял его в рабочем кабинете, сидя под зажженной лампой, с печаткой у влажных губ, и сразу сообщил, что сегодня у него почтовый день. Коммерсант продолжал запечатывать письма, Вальт же непринужденно произносил у него за спиной свою речь, исполненную деликатности, – пока Нойпетер, покончив с делом, не потушил свет и не спросил: «Ну, что там у тебя?» Так что все словоизлияние нотариуса пропало всуе.
Никто не способен произнести одну и ту же речь два раза подряд; Вальт, заторопившись, думал теперь только о том, как бы извлечь хоть слабый свинцовый экстракт из уже сказанного. Но торговый агент настоятельно попросил его «не вязаться к людям с такой околесицей».
Все возможные прегрешения, связанные с новой обязанностью, Вальт перенес бы гораздо легче, нежели этот тяжелый удар захлопнувшейся перед носом двери. Отягощать кого-то призрачной орденской цепью, подарив этому человеку преимущественное право на обговоренную в завещании испытательную неделю проживания: о таком нотариус больше не думал; а вот встретить и осчастливить бедного, но доброго малого, с которым он мог бы разделить даже не столько хлеб с неба, сколько хлеб слезный, то бишь, например, его жалкое жилище, – к этому теперь устремлялась мечта Вальта, а не его вопрошание, ибо упомянутый малый давно наличествовал: Флитте из Эльзаса. Вальт поднялся на башню Святого Николая и изложил эльзасцу, но осторожно, свое предложение: что хотел бы прожить у него первую испытательную неделю. Флитте радостно бросился ему на шею; и заверил, что сегодня же съедет с башни, поскольку уже совершенно выздоровел и теперь меньше, чем прежде, нуждается в свежем башенном воздухе. «Я сниму для нас две превосходно меблированные комнаты у cafetier Фресса; pardieu, мы ведь хотим жить comme il faut», – сказал он. Вальт почувствовал себя более чем счастливым. Всего за полчаса Флитте упаковал и потом на новом месте снова распаковал свой багаж; ибо брошенными за ненадобностью пожитками он – как гусеница или паук своей нитяной пряжей – обычно покрывал и помечал маршрут прохождения через сменяемые им жилища; как если б то были прекрасные локоны, вырванные и оставленные на память; соответственно, как легко догадаться, он, подобно небесному телу, по мере движения по орбите все более умалялся в объеме. Теперь он отважился спуститься со своей башни, до сей поры служившей ему бастионом и пограничным укреплением против кредиторов, и поселиться в неукрепленной кофейне: потому что унаследовал отчасти собственное наследство (то бишь связанные с ним возможности получения новых кредитов), отчасти – Кабелево (поскольку новейшие промахи Вальта, похоже, сделали Флитте в глазах горожан членом сообщества бенефициариев этого наследства), и отчасти – десять еловых стволов, Вальтовы дубы плача. В нумере пятьдесят первом, в «Чучеле лазурного мельника», уже упоминалось подробнее, с какой помпезностью он раскалывал орешки и доставал из них ядрышки, приходуя урожай посеянных Вальтом ошибок, – чтобы показать себя горожанам в наилучшем свете.
Прекраснейшим утром бабьего лета Вальт не без меланхолического чувства покинул прежнюю тихую келью: ему казалось, будто она нуждается в нем и, оставшись такой пустой и одинокой, будет по нему тосковать – особенно его кресло. Но как же он изумился, когда, вступив в апартаменты cafetier Фресса, увидел гарнитуру предназначенных для него и Флитте комнат: высокие зеркала, полные отражений, овальные зеркала настенных подсвечников и прочую роскошь! Он вздрогнул. Флитте вовсю улыбался. Вальт отнюдь не желал вводить в расходы других людей; то обстоятельство, что добрый эльзасец снял для них обоих такие комнаты-дворцы, повергло его в раздумья и даже заставило издать стон. Вальт ведь решил, что все эти расходы – ради него: он не мог догадаться, что Флитте относится к редкой породе так называемых расточителей, которые, подобно германскому императору, поклялись не оставить потомству ни империи, ни богатства; и которые действительно, как некогда высшие должностные лица Афин, в знак своей любви к отечеству не оставляют после себя ничего, кроме посмертной славы и долгов.
Вальт, не долго думая, вытащил из кармана золотые монеты, выданные ему из Кабелевой оперативной кассы на испытательную неделю, и положил их на стол со словами: «Такую плату определил завещатель; я, со своей стороны, предпочел бы, чтобы она была больше». Мало кто из людей получал такой мощный отпор, как он от Флитте, который спросил: разве Вальт, черт возьми, не его гость?
Однако Вальту предстояло решить еще один, более деликатный вопрос: обговорить указанную в завещании цель его проживания здесь. Он прибегнул к таким выражениям: «Мне поистине тяжело, находясь в столь замечательных светлых комнатах, у вас дома, думать о юридических проблемах – о завещании и его главных клаузулах; однако поскольку я вправе жертвовать своей радостью, но никак не обязательствами в отношении родителей: постольку… я вряд ли имею право, но я вынужден вас попросить, чтобы вы сами сделали предложение, которое могло бы привести к моим дальнейшим ошибкам. Поверьте, мне труднее задать этот вопрос, чем потом – действовать».
Эльзасец не сразу понял речевые изыски Вальта. «Ба! – воскликнул он. – При чем тут жертвы? Мы будем болтать по-французски и танцевать – старикана Кабеля это никак не касается». – «Болтать по-французски и танцевать? – переспросил запуганный историей с нотариатом Вальт. – То и другое одновременно? Мне тут нечего возразить, кроме того, что даже одна из упомянутых двух вещей открывает необозримые возможности для ошибок, не говоря уж о… Конечно, само по себе… И я готов, дорогой господин Флитте… но…» – «Sacre! О чем вообще идет речь? Неужели хоть один человек на земле готов поверить, будто кто-то побежит к бургомистру, привыкшему совать нос в чужие дела, и доложит ему, как мы тут развлекаемся?» Вальт быстро схватил его руку, сказав: «Я вам доверяю»; и Флитте обнял его.
Они позавтракали, приятно беседуя. Высокие окна и зеркала наполняли блеском комнату с гладкими стенами; прохладное синее небо, смеясь, заглядывало в нее. Нотариус чувствовал, что окружен достойным комфортом; колесо счастья вертело его, а не он – это колесо (которое даже не надо было красить, как красят колеса тележные, в красный цвет).
Флитте зачитал нотариусу два объявления для «Имперского вестника», придуманные им и перенесенные на бумагу за считанные дни: в первом эльзасец требовал от генерального военного казначея, господина фон Н. Н., проживающего в Б., чтобы тот до истечения шести месяцев компенсировал ему сумму в девятьсот шестьдесят белых талеров, потраченную на вино, – если, конечно, не хочет увидеть себя публично выставленным к позорному столбу на страницах «Имперского вестника». Нотариусу он охотно открыл имя этого человека и название города; но дело, конечно, было совершенно не в них. Второе объявление содержало более неприкрашенную правду, а именно: что он ищет – и очень хотел бы найти – компаньона с капиталом в двадцать тысяч талеров для организации винной торговли.
Лицо Вальта просияло от удовольствия, когда он услышал, что его добродушный собеседник распоряжается столь внушительными денежными средствами, и позолоченные громоотводы, охраняющие жизнь Флитте, показались ему весьма надежными.
Флитте же спросил: «Скажите мне прямо, нет ли здесь стилистических ошибок. Я набросал оба текста всего за час». Вальт объяснил, что чем меньше объявление, тем более солидное впечатление оно производит; и добавил, что самому ему легче подготовить для печати один лист, нежели 1/24 листа. «Может, лукубрация вообще приносит вред? Соседи часто видят, как я занимаюсь такой макробиотикой – сижу за письменным столом до трех часов утра», – заметил Флитте, не особенно погрешив против истины, поскольку до сих пор с помощью надетого на болванку для париков ночного колпака и зажженной рядом с ним лампы он самым легким и полезным для здоровья способом изображал из себя макробиотического читателя. Потом он развязал перед нотариусом, чье сердечно-искреннее восхищение и наивная доверчивость наполнили его душу приятным теплом, пачку любовных писем, будто бы адресованных ему и восхваляющих его самого, его сердце и свойственный ему стиль. На самом деле эльзасец получил этот пакет на сохранение от одного молодого парижанина, которому и были адресованы письма.
Вальт столь долго превозносил стиль прекрасной отправительницы писем, что эльзасец в конце концов и сам почти поверил, будто письма предназначались ему; однако нотариус делал это отчасти потому, что не хотел много говорить о любви как таковой. Будучи неопытным и стыдливым юношей, он все еще верил, что любовные переживания должны жить за монастырской решеткой или, в самом крайнем случае, в монастырском саду; поэтому он выразил свое мнение лишь в самых общих чертах: «Любовь, как и жертвенное воскурение, сколь бы деликатны ни были то и другое, все же способна и в сгущенной дождливой атмосфере воспарять вверх, прорываясь сквозь более плотные слои воздуха»; и, сформулировав эту мысль, густо покраснел.
«Surement, – подтвердил эльзасец, – ибо любовь с каждым днем стремится все к новым достижениям».
Флитте пошел еще дальше и покрасовался перед своим гостем даже и в типографском обличье, а именно: показал ему изящнейшие любовные мадригалы, которые, как он объяснил, он обычно отдает печатать в формате centesimo-vigesimo и которые в любом случае никогда не превышают 1/20 листа; это были листочки со стихами, вылущенные из парижских конфет, – настоящие сладкие записочки, плагиат которых Флитте облегчил себе тем, что съел их сладкие конверты. Почему немецкая поэзия оставляет французской преимущество пользования такой сладчайшей оберткой; то есть почему мы, в то время как французы облачают свои стихи в сахар и сладкое тесто, поступаем наоборот и свои стихи используем как облачение, упаковочную бумагу для патоки и пряностей? – вот что в связи с этим можно было бы спросить, если бы здесь нашлось место для ответа. Вальт принялся безмерно восхвалять стихи; эльзасец почувствовал себя всплывающим вверх, как масло в воде, и, можно сказать, едва не утонул в расточаемых Вальтом хвалебных умащениях. О каком бы удовольствии, приготовляемом одним человеком для другого, ни шла речь, наслаждение им зависит от всякого рода случайностей, от состояния нёба или желудка; но что касается удовольствия от искренней похвалы, то для него у любого человека без исключения в любой час открыты и уши, и желудок; и такой счастливец восклицает вне себя от радости: «Похвала есть воздух, то бишь единственное, что любой человек и может, и должен глотать непрерывно». Флитте в этом смысле не отличался от прочих; освеженный услышанным, он потащил нотариуса на улицу: чтобы и Вальту доставить какую-то радость, и для себя обеспечить свободу маневра. Дело в том, что старые кредиторы охотились на эльзасца столь же рьяно, как он – на новых; а поскольку он знал правило древних римлян, которые, согласно Монтескье, старались вести войну как можно дальше от дома, сам он тоже предпочитал оставаться дома как можно реже. Вдвоем они избороздили весь утренний город, и нотариус чувствовал себя очень хорошо. Поскольку Флитте хотел показать себя горожанам – точнее, показать им Харниша, Кабелева универсального наследника, проводящего у него в доме испытательную неделю, – он перекидывался словечком со многими; и счастливый нотариус всякий раз стоял рядом. Перед каждым партерным окном («Par-terre, – говорил Флитте. – Немцы произносят это слово совершенно неправильно») эльзасец останавливался и стучал в стекло, как если бы это была стеклянная дверь, и показавшейся девичьей головке, еще наполовину осиянной Авророй утреннего сна, говорил сотню комплиментов, так что эта барышня в утреннем одеянии не могла не задержаться у оконной рамы и не продолжать там свое шитье. Часто Флитте, не задавая лишних вопросов, даже посылал поцелуи извне вовнутрь – что Вальту представлялось такой высокой ступенью овладения искусством жизни, какая достижима лишь для избранных фаворитов Франции. Если во втором этаже курил трубку и поглядывал вниз какой-нибудь импозантный господин в шелковом шлафроке, то Флитте заговаривал с ним или поднимался наверх, и Вальт тогда шел вместе с ним. Эльзасца давно все знали: поскольку в семьях, относящихся к высшему бюргерскому сословию, он обучал танцам детей, а в домах знати – собак; представителей знати он сопровождал и на более сакральных путях, а именно – к алтарю. Ибо хаслауская знать, как всем известно и как уже вошло в обычай, принимает причастие публично, in corpora и единовременно – как если бы она была сообществом Святых Апостолов или армейским подразделением; и Флитте пристраивался сразу же вслед за этим сообществом, как последний, как вслед за бюргерами пристраивается палач; эльзасец поступал так всегда, за единственным исключением, когда ему пришлось принимать причастие в одиночестве – просто потому, что он, словно кровельщик, взобрался на башню. Вальт никогда в жизни не заходил в такое количество комнат, как этим утром. Если мимо них проезжал верхом какой-нибудь господин, Флитте обязательно бросал ему вслед словечко-другое относительно его лошади: например, что она хромает. Если у обочины стоял экипаж, готовый к отъезду: Флитте дожидался, пока хозяин сядет в него, и, когда экипаж уже трогался, кричал вслед, что навестит этого человека в его поместье. Если припозднившиеся купцы возвращались с лейпцигской ярмарки: Флитте не заставлял их дожидаться коммерческих новостей из Хаслау до тех пор, пока они окажутся под родным кровом, а выкладывал свои новости в то время, пока они распаковывали свой товар.
Вальт был представлен чуть ли не всему здешнему свету, и ему много раз представлялся случай самому что-либо сказать.
Никто бы не поверил, что эти двое за одно утро нанесли столько визитов, не будь это известно наверняка. Они, например, явились к господину Оксле, владельцу лавки и кружевной мастерской, и любовались там образцами его товара, и хорошенькими саксонскими кружевницами, и многочисленными пуговицами из Эгера, в которые заключены птицы – отчасти нарисованные красками, отчасти представленные собственными перьями. Но прежде Вальт полностью уберег прекрасные ковровые дорожки хозяина от следов своих сапог, сделав один-единственный доблестный широкий шаг, который сразу же перенес его в горницу с до блеска натертым полом.
Они посетили садовый домик церковного советника Гланца, где Флитте неудачно попытался продемонстрировать свое знание латинского языка с помощью принадлежащей проповеднику гравюры на меди: он стал зачитывать вслух помещенный внизу латинский стих и пояснительную надпись, бойко и с галльским выговором, – однако прервался, дойдя до слов «…mortuus est anno MDCCLX». Ибо тот, кто вынужден прочитывать такие чуждые нам числовые обозначения более на своем, нежели на чужом языке, поскольку чужого языка не понимает, отчасти выставляет себя на смех, при всех своих прочих познаниях.
Потом Флитте отправился вместе с Вальтом к почтмейстеру – чтобы, по своему обыкновению, тщетно поинтересоваться, нет ли для него писем из Марселя. Почтовому чиновнику он помог прочитать один неразборчиво написанный французский адрес. Вальт горячо похвалил его accent и prononciation. После, на улице, Флитте раз десять безрезультатно пытался ему показать, как следует акцентуировать и прононсировать по крайней мере эти два слова. Вальт согласился, что ошибается не столько из-за того, как у него подвешен язык, сколько из-за отсутствия слуха, и, пожав эльзасцу руку, признался, что хотя и прочитал почти всех французов, но не слышал еще ни одного, и что именно потому он так жадно прислушивается к каждому звуку, произносимому Флитте; он, тем не менее, сослался на мнение генерала Заблоцкого, спросив потом: разве не приобрел он, обучаясь у Шомакера, довольно приличный французский почерк? Флитте в ответ указал ему на фразеологические германизмы, от которых нотариус пока не избавился.
Они отправились к вдове штандарт-юнкера, в доме у которой Вальт недавно натягивал струны. Вдова заговорила о смерти своего мужа и о том, как в осажденном Тулоне дотла сгорел принадлежавший ей дворец; спасти оттуда ничего не удалось, кроме одной вещицы, которую она навечно сохранит как память: ночной горшок из тончайшего фарфора. Эта деталь восхитила нотариуса присущим ей аристократическим цинизмом, который он собирался теперь использовать для придания особого колорита светским персонажам романа «Яичный пунш». Редко бывает, чтобы начинающий романист увидел, как старый генерал или молодой гоф-юнкер в сумерках… скажем, пускает струю мочи, – и не кинулся тотчас к письменному столу, спеша записать: «Господа придворные имеют обыкновение в сумерках постоять где-нибудь в укромном месте». В этом доме много говорили по-французски; и Вальт тоже вносил свою посильную лепту, часто повторяя: comment? – Флитте потом объяснил ему, что и в самом этом вопросе содержится германизм.
Они отправились в девический пансион, прежде известный нотариусу только со слов Вульта, – там царили, еще в большем количестве, галлицизмы и царили, во множестве, красавицы. Во всем, что касается непринужденных изъявлений галантности, за Флитте было никак не угнаться; однако Вальт довольствовался тем, что просто наблюдал за эльзасцем, пробираясь по узкой дорожке между грядками, сплошь заросшими лилиями души, и с величайшей осторожностью ставя одну ногу впереди другой. «Ах, какие же вы милые!» – восклицало его сердце. Всё, что он тут слышал, казалось ему необыкновенно деликатным… «Но может, – подумал он, – женщины – это вообще что-то другое? Посреди нечистого моря мужской мирской жизни, которое вбирает в себя все реки и трупы, они существуют обособленно, храня свою чистоту: в соленом мирском море – маленькие острова с прозрачной, освежающей водой; о, как же они добры!»
Когда он вышел оттуда, ему подали – на золотой посуде правящего князя – легкие паштеты, рулеты и фрикандели для гурманских наслаждений его фантазии. Эту посуду, подарок одного старого короля, дважды в год публично отскребали и чистили на рыночной площади, под присмотром маленького отряда пеших воинов, которые имели при себе оружие, чтобы защищать ее от посягательств со стороны дурно воспитанных местных детишек.
Они отправились к торговцу галантереей Прильмайеру и там позволили окружить себя роскошью женского мира.
Такого свободного, легкого, перемешивающего все сословия утра в жизни Харниша еще никогда не было; один мусический конь за другим впрягались в его триумфальную колясочку, и он летел как на крыльях. Жизнь Флитте с самого начала представлялась ему «танцующим завтраком», или the dansant; собственную же жизнь он теперь воспринимал как eau dansant. Он точно так же наслаждался, переносясь в душу Флитте – исполненного, как ему казалось, тем же восторгом, что воодушевлял его самого, – как когда погружался в себя; эльзасские пылинки, освещенные солнцем, он золотил и одухотворял, превращая их в поэтическую цветочную пыльцу. И в конце концов, шагая рядом с Флитте, втайне сочинил для него нижеследующую эпитафию:
«Эпитафия Зефиру
На земле я летал повсюду, играя с цветами и ветками деревьев, а иногда порхал вокруг маленького облачка… В царстве теней я тоже буду порхать вокруг темных цветов и в рощах Элизиума. Не останавливайся здесь, прохожий, но поспешай дальше и играй, как я».
В десять часов Флитте подвел его поближе к княжеской резиденции: «Мы сейчас отправимся на эти champs élisées и там вкусим наш dejeuner dinatoire». Это был старинный княжеский сад, проторивший путь для первых в стране Chaussee. Правда, уже и по дороге к нему попадались запретительные таблички против детей и собак; однако только на champs élisées действительно было систематически запрещено всё, и особенно сами елисейские поля: ни в одном парадизе не имелось столько запретных деревьев, столько преград перед плодами и цветами – во всех аллеях цвели наверху или прорастали внизу тюремные уведомления, эмиграционные и иммиграционные запреты; под такими декретами о грозящих наказаниях любой человек пересекал этот эдемский сад, чувствуя себя совершающим увеселительную прогулку заключенным, и, пока шел, поминал день Петра-в-Цепях, и мучился так же, как когда-то тот; скорее паломничеством по Дантовым кругам ада (откуда виден только клочок неба над головой), нежели католическим покаянным шествием по двенадцати стояниям крестного пути, представлялась любому человеку, оглушенному письменным лаем всех этих ругающихся деревьев и храмов, предпринятая им увеселительная прогулка – и человек этот, вконец испортив себе настроение, в конце концов, обессиленный, выбирался оттуда.
Но если Вальт когда-либо чувствовал себя радостным и свободным, то именно на этих полях; его внутренний человек держал в руках маленький тирс и бегал, размахивая им. Потому что от всех предупредительных табличек ничего более не оставалось, кроме самих табличек из дерева, камня, жести; а предупреждения заросли мхом или травой, скрылись под песком. Драгоценная свобода и ненаказуемость царили теперь в эдемском саду, как клялся и доказывал Вальту Флитте. Ибо весь этот заградительный порядок сложился в те далекие времена, когда великие и малые князья – в отличие от нынешних великих князей – вели себя по отношению к подданным (выражаясь вежливым языком) грубовато: когда они, как подобия Бога на земле (подобия, которым не пытались льстить даже живописцы), напоминая более иудейского, нежели евангельского Бога тогдашних церковных кафедр, чаще разражались громами, чем благословениями. «А если теперешним господам что-то особенно любо и дорого в парке, – объяснил Флитте, – то такие места просто с особым тщанием обносят изгородями, так что туда в любом случае никто из посторонних не проникнет».
Оба теперь вкушали свой déjeûner dinatoir, то бишь утренний хлеб и утреннее вино, в открытой увеселительной беседке недалеко от садового трактира. Нотариус, как уже упоминалось, был счастлив; дневной и ночной сад с его подъемами и спусками, с легким, как бы слетающим вниз увеселительным дворцом, похожим на окаменевшее весеннее утро, далее рощицы, из которых торчат, словно покачивающиеся тюльпаны, разноцветные увеселительные домики, а еще – выкрашенные разными красками мосты, и белые статуи, и размеченные по линейке многочисленные живые изгороди и аллеи – чем дольше Вальт пил, тем пламеннее расписывал все это эльзасцу, указывая то на одно, то на другое. Тому, конечно, нравилось слушать Вальта; потому что свои клод-лорреновские пейзажи он обычно создавал очень смело, с помощью всего одного слова или штриха: «Чудесно!» Но ведь у каждого человека для восхищения есть свой основной цвет; один говорит: «Как у англичан!» – другой: «Как на небесах!» – третий: «Божественно!» – четвертый: «Черт побери!» – пятый: «Ой!»
Вальт же сказал (правда, обращаясь к себе): «Или я ужасно ошибаюсь, или то, что я наблюдаю с самого утра, есть подлинно светская жизнь элегантных людей. Разве я не чувствую себя сейчас как в Версале и Фонтенбло, и разве не правит здесь снова Louis quatorze? Разница вряд ли велика. Те же аллеи – те же клумбы – кусты – то же множество людей поутру – тот же светлый день!» Дело в том, что у Вальта (еще бог знает с какой ранней жизненной поры) осталось столь романтическое представление о юности галантного и либерального Людовика XIV, покоряющего страны, женщин и сердца придворных, что юность этого короля с ее празднествами и небесными утехами виделась ему как прообраз собственной юности, как прекрасный нежный фейерверк в небе и как свободное освежающее утро придворных, прогуливающихся в неглиже; поэтому любой увиденный фонтан забрасывал его в Марли, любая нарядная аллея – в Версаль, а изображение дамы с высоким фонтанжем на гравюре, приколотой к стенке шкафа, – в тогдашний королевский дворец; даже вырезанные картинки, наклеенные на его письменный стол, перелетали вместе с ним в ту веселую – для двора, но не для народа – эпоху. «Разве жизнь придворных, – многократно говорил он себе, – не была непрерывной поэзией (если, конечно, французские Memoires не лгут): свободной от насущных забот о пропитании, дарующей чувство окрыленности; и разве не могли придворные влюбляться хоть на каждом музыкальном вечере, а потом, уже ближайшим утром, отправляться на прогулку в парк со своей прекрасной возлюбленной? О, как, наверное, расцветали для них эти богини, нарумяненные самой Зарей!»
Таким образом, находясь сейчас в этом саду, Вальт наслаждался совсем другим садом, уже погребенным; как фейерверк, висела фантазийная копия высоко над своим распростертым внизу прообразом. К счастью, Флитте (который, в какой бы компании он ни находился, всегда уже подыскивал для себя новую) был столь любезен, что вступил в разговор с садовым ресторатором, подарив Вальту момент драгоценного одиночества, а вместе с тем – и несколько сновидческих путешествий. С какой же радостью нотариус их совершил! Видел он всё, но при этом рассматривал вот что: зеленые тени, пробиваемые дождем из солнечных искр – далекие озера (одни – словно темные веки этого парка, а другие – как светлые глаза) – барки на двух водных потоках – мосты над ними – белые высокие храмы, расположенные уступами на холмах, – далекие, но и оттуда светло сверкающие павильоны – и высоко надо всем этим горы, и дороги уже за их пределами, дерзко взлетающие прямо в синие небеса… Для него эта первая половина дня с каждым часом просветлялась, превращаясь из чистой воды в прохладный воздух – а тот наверху преобразовывался в эфир, в котором уже ничего больше не было, ничего не летало, кроме целых миров и света. Ему бы очень хотелось включить в эту картину и брата… Винин взгляд под струями водопада он видел теперь при свете белого дня. Вальт обрел блаженство, не сознавая толком, как или почему. Его факел горел вертикальным островерхим пламенем, хотя мир вокруг колыхался, – и ни один порыв ветра это пламя не искривлял. Вальт даже не сочинил ни одного длинностишия, он не хотел принуждать слоги к чему бы то ни было, ему казалось, будто его самого сочиняют, и он легко приспособился к ритму этого неведомого восторженного поэта.
Пребывая в таком состоянии внутреннего благозвучия, он внезапно очутился перед странным садом внутри сада и слегка качнул, словно только играя, маленький колокольчик. Колокольчик едва успел прозвонить несколько раз, как уже явился, размахивая руками, богато одетый тучный привратник без шляпы, чтобы распахнуть дверь перед кем-то из членов княжеского семейства, ибо колокольчик служил для вызова слуг. Но когда этот благородного вида человек не обнаружил возле двери ничего, кроме кроткого нотариуса: он обрушил на голову изумленного звонаря одну из самых длинных бранных тирад, какие когда-либо произносил, – как если бы Вальт без нужды позвонил в колокол, возвещающий о пожаре или о турецком нашествии.
Однако всё Вальтово внутреннее устройство было сейчас таким легким и ладно круглящимся, что внешнее вряд ли могло бы туда проникнуть: ни одной капли не просочилось в его легкий летучий корабль; он просто сразу же вернулся к Флитте. Они отправились домой. Большие обеденные колокола призывали горожан собраться за столом, как два часа спустя колокола поменьше будут призывать придворных; на сытого нотариуса, который сейчас не собирался обедать, это оказывало весьма романтическое воздействие. Если в самом деле существует человек, живущий по часам, который одновременно и сам является часами, то это желудок. Чем более непросвещенным и бренным является живое существо, тем лучше оно чувствует время, что хорошо видно на примере человеческих тел, лихорадки, животных, детей и сумасшедших; только дух способен забывать о времени, потому что только он его создает. Но если упомянутому желудку, или «человеку, живущему по часам», кто-то переставит часы, по которым он принимает пищу, на несколько часов вперед или назад, то он, в свою очередь, настолько сильно собьет с толку дух, что тот станет совершенно романтическим. Потому что дух со всеми его небесными звездами должен подчиняться телесному круговороту. Поздний завтрак, заменивший обычный, так далеко вышвырнул нотариуса из колеи, по которой он двигался на протяжении многих лет, что для него каждый удар колокола, и положение солнца на небе, и вся вообще вторая половина этого дня приобрели чуждый и странный облик. Может быть, и война – именно потому, что переворачивает весь привычный распорядок дня, превращая его в беспорядочные отливы и приливы потребления пищи, – настраивает дисциплинированного прежде солдата на романтический и воинственный лад.
Ближе к вечеру отбрасываемые домами тени стали казаться Вальту еще более удивительными, и в комнате Фресса время представлялось ему одновременно тесным и удлинившимся, потому что из-за аварии в своей внутренней обсерватории он ничего теперь не мог предвидеть заранее. Ему хотелось снова увидеть светскую жизнь, и он пошел вместе с Флитте в бильярдную, но там с удивлением услышал, что тот ведет счет шарам не на французском, а на немецком языке. Устав от такого маловдохновляющего зрелища, Вальт вскоре ушел оттуда, один, на прекрасный берег реки. Застав там бедных людей, которым в этот день в соответствии с городскими законами дозволялось ловить рыбу (но не на крючок и не сеткой) и собирать мелкий сухостой и валежник (но не пользуясь топором), он внезапно увидел в их сегодняшних удовольствиях извинение своим собственным, которые мало-помалу начали казаться ему слишком уж великосветскими и праздными: «я тоже, – думал он, – сегодня наслаждался довольно-таки светской жизнью, а вот для романа не написал ни слова; но завтра всё должно быть совсем по-другому, и завтра я останусь дома».
Длинные вечерние тени на берегу и длинные красные облака прицепились к нему, как новые большие крылья, которые двигали им, а не он – ими.
Он бродил в одиночестве по сумеречным улицам, готовый к любым авантюрам, пока не взошла луна и не стала его лунными часами. Тогда прежняя путаница разрешилась, и желудок понял, который теперь час. Перед мерцающим домом Вины Вальт несколько раз пронес туда и обратно свое многократно растревоженное сердце; и тогда в него снизошла, будто с неба, тихая сердечная тяга, и увеселительный земной день был увенчан священным небесным часом.



