 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Валентин Дмитриевич Иванов Повести древних лет
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Валентин Иванов
ПОВЕСТИ ДРЕВНИХ ЛЕТ

КНИГА ПЕРВАЯ
«ЗА ЧЕРНЫМ ЛЕСОМ»
Русский народ всей своей громадной массой не мог вдруг в 862 году размножиться и разлететься сразу, как саранча, его города не могли возникнуть в один день. Это аксиома.
Ю. ВенелинНет гения без длительного и посмертного действия.
Гете
Часть первая
БЕГЛЕЦ
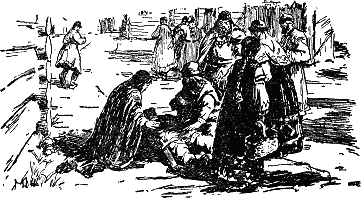
Глава первая
1
Весной разливы неудержимо овладевают низменностями и щедро питают новгородские болота. Оставленные рекой стоячие воды летом ощетиниваются осокой-резуном, подергиваются мелкой ряской, одеваются пушистым вейником. Кругом, на пойменной почве берегов, жирно удобренной волховским илом, щедро растут сочные травы, в которых прячутся хрящевато-ломкие стебли конского щавеля – лакомство мальчат-пастушонков. Осенью болотные воды прозрачно светлы, вяло пухнут бугры лохматых кочек, и жизнь цепенеет…
…Одинец с размаху бросился в болото. Сильный и ловкий парень легко кидал с кочки на кочку тяжелое но послушное тело. Грузные сапоги конской кожи не мешали ему скакать легко, как длинноногому лосю.
Вдруг он почувствовал, что нога ушла в пустоту – на бегу не отличишь рыхлого, одетого мхом пня от матерой кочки! Он не успел выправиться, рухнул во весь рост и, невольно хлебнув воды, вскочил. Ему вода пришлась лишь по пояс, хотя другому хватило бы и по грудь. Он рванулся, выскочил наконец-то на твердую землю и только тут посмотрел назад.
Трое вершников, нахлестывая коней, спешили к болоту. На краю они остановились. Переговариваются. О чем – отсюда Одинцу не слыхать. Да нечего и слушать: не полезут они через болотину – кони завязнут. Круговой же объезд куда как далек! А солнышко уж западает, и светлого времени остается чуть. Иль захотят спешиться и пойдут, как он, через воду? Пусть покидают коней, он и от конных почти что ушел. Ночь ложится, лес – рядом, иди-ка, лови!
Утягиваясь за землю, солнце посылало светлые стрелы прямо в глаза Одинцу. Он закрылся ладонью и рассматривал вершников. Двое были свои, городские ротники, посланные, как видно, старшинами для поимки парня. Третий – чужак, в котором Одинец узнал молодого нурманна.
Да, не зря говорят старые люди, что с утра не хвались преклонить голову вечером на то же место. Нынче. Одинец встретил на улице трех нурманнских гостей-купцов. Пожилой нурманн столкнул Одинца с дороги. Улица широка, иди, куда тебе надо, а позабавиться хочешь – давай. Еще кто кого покрепче пнет! Нурманн больно рванул Одинца за бороду. Тут схватились уж не для удали, не в шутку. Нурманн вцепился Одинцу в горло как клещами, и оба повалились на мостовую. Одинец вырвался и со всей силой разгоревшейся злости хватил обидчика кулаком по лбу. Затылок нурманна пришелся на мостовой клади, и его голова, как глиняный горшок, треснула между жесткой древесиной и тяжелым, как молот, кулаком могучего парня.
Душой Одинец вины не чувствовал, но знал, что дело его худое и не зря за ним погнались ротники. По Новгородской Правде-закону за жизнь заморского гостя полагается платить большое бремя серебра.
Неимущего головника-убийцу ждет горчайшая из всех бед. Кому нечем оправдать виру, того, как скотину, навечно продают под ярмо. Рабом будешь жить, рабом отдашь последний вздох. Этот-то страх и гнал Одинца, как кровожадно-неотвязная гончая гонит робкого зайца. И была у него только одна мысль – уйти. А что под этой мыслью было неуклонное решенье не даться живым, того он не знал.
2
Не отрываясь, Одинец глядел на молодого нурманна, который один спрыгнул с коня. На нурманне был натянут кафтан черного сукна с бронзовыми застежками на груди, широкие кожаные штаны и узкие короткие сапоги. Не вытяжные, как на Одинце, а зашнурованные спереди. У нурманна росла такая же короткая молодая борода, как у Одинца, только еще светлее, совсем как льняная кудель. На его голове сидела низкая и круглая валяная шапка, черная, как кафтан, с красной каймой. Такие шапки нурманны выменивали в Городе и для себя и на вывоз. Их так, и называли – нурманнки. На них удобно надевать шлем.
Одинец узнал нурманна: то был один из тех трех которые ему так несчастливо перешли дорогу в Новгороде. К его седлу длинным ремнем был привязан громадный, с хорошего барана, лохматый пес. Эту породу нурманны с другими товарами привозили в Город на мену, а сами брали, как говорят люди, у фризонов которые живут на закате за варягами. Такой пес пригоден и на медведя и на тура, а волков душит, как щенят. И чутье у него тонкое.
«Без пса они бы меня не нашли, – думал Одинец. – А ныне что? Травить, что ли, хотят?»
Если молодой нурманн был родович убитого, то он по Правде мог взять, как местьник, жизнь Одинца. Нурманн разрезал ножом затянувшийся узел ремня на шее пса, ухватил его за высокий загривок и принялся свободной рукой наглаживать против шерсти. Потом он показал на Одинца и заревел, как леший:
– Ы-а! У-гу!
Пес рванулся. Не разбирая, он взбивал брызги и на глубоких местах скрывался за вейником. Злобный и страшный, он несся прямо на Одинца.
С тоской оглянулся затравленный парень. Ни камня, ни дубины! Но он тут же опомнился и сунул руку за голенище полного водой сапога. Не отрывая глаз от пса, он нащупал резную костяную рукоятку и выпрямился, зажав нож в кулаке. В обухе клинок был толщиной в полпальца, а к лезвию гладко спущен. Одинец сам его отковывал и калил.
А пес уж вот он! Мокрый, со вставшей по хребту жесткой кабаньей щетиной, он выскочил из болота и как немой бросился на человека. Из ощеренной пасти сочилась пена и торчали длинные свиные клыки. За болотом молодой нурманн опять завыл и засвистал.
Одинец не слышал. Он выгнул спину и широко расставил напряженные ноги. Если пес сшибет, тут и конец! Парень прыгнул в сторону, извернулся, как в кулачном бою, левой рукой на лету подхватил пса снизу за челюсть, а правой ударил ножом со всей силой. Так один на один берут волка.
Одинцу показалось, что он ощутил короткое сопротивление ножу, но железо ушло легко, как в воду, до самого кулака. Вцепившись в челюсть, Одинец бросил пса и одновременно вырвал нож. Пес рухнул, будто побитый громом. Парень придавил ногой тушу в бурой медвежьей шерсти и торжествующе поднял руку. Разгоряченный схваткой и своей победой, он успел все позабыть. Он наклонился, вытер клинок о шерсть пса и сунул нож за сапог, на место.
Ошибка! Не следовало бы спускать глаз с того берега болота. Он услышал знакомый звук спущенной тетивы. Но поздно: в левое бедро впилась стрела. Одинец рванул за толстое древко, и стрела оказалась в руке. Дерево было окрашено красным, а оперенье – черным. Нурманны любят черное с красным… Наука! Не зевай! От берега до берега далеко, тут только глупый не сумеет уклониться от стрелы.
3
Нурманн опять гнул лук. Одинец ловил, когда правая рука стрелка дернется назад, а нурманн, желая обмануть, медлил. Новгородские мальчишки и подростки любили играть в такую игру малыми луками и тупыми стрелами. А парни не брезгали позабавиться и из боевых луков.
Одинец скакнул влево и сам обманул нурманна, вызвав стрелу в пустое место. Но и нурманн был не так прост. Он держал запасную стрелу в зубах, и она скользнула над плечом парня.
Хоть нурманн и был, как видно, настоящий лучник, Одинец ничуть не боялся его. Через болото было побольше двух сотен шагов. Если бы, сговорившись между собой, метали двое – тогда несдобровать. Но лук был у одного нурманна. Своих послали взять Одинца, а не бить. А нурманн может бить, он местьник за своего родича.
После шестого раза нурманн пожалел зря бросать стрелы и залез на коня. А один из ротников заехал сколько мог, в болото и закричал, наставив ладони перед ртом:
– Остаешься без огня! Без угла!
Это – изгнание. По Новгородской Правде тот, кто не подчинялся ей, ставился вне закона и никто не смел давать ему пристанища.
«Лучше мне пропасть в лесах, как собаке, чем продадут в рабы», – подумал Одинец.
Солнце уже запало за Землю. На краю, за оврагами, из Города поднимались дымки. Всадники повернули коней. По болоту зарождался туман.
Ветер уснул. Одинец слышал, как в Городе стучали в била. Скоро запахнут ворота в городском тыне. Об этом-то воротные сторожа и, предупреждали гулкими ударами колотушек по звонким дубовым доскам, которые висели на толстых плетеных ремнях.
Из Детинца им отвечали редкие, густые звуки. Там били по выделанной бычьей коже, натянутой на громадную бадью. Нет больше Одинцу ходу в Город…
Сердце парня сжалось горькой тоской. Пока его гнали, он не думал. Теперь же остался один, как выгнанная, худая собака…
Он все держал в руке стрелу и только сейчас заметил, что на ней нет наконечника. Железо, слабо прикрепленное к дереву, осталось в теле.
Одинец собрал воткнутые в землю нурманнские стрелы и повернулся спиной к Городу.
За болотом кустились черная ольха и тальники, спутанные малиновой лозой. Дальше расставился можжевельник, и в нем, в сумерках, мерещились то бык то медведь, то человек. Сгоряча Одинец забыл о ране.
Парень глянул на небо и нашел Матку. Она хоть и малая, но главная среди звезд. Другие кругом нее всю ночь ходят, а она, как пастух, стоит на месте до света. Когда Солнышко, выспавшись, с другого края на небо полезет, Матка все звезды угонит на покой. Чтобы уйти от Города подальше, нужно Матку-звезду держать на левой руке.
Бедро начало мозжить. Парень нащупал рану. Наконечник засел глубоко, и его не удавалось захватить ногтями. Чтоб выковырять железо, придется дождаться света.
За можжевельником пошел редкий кряжистый дубняк со ступенями крепких грибов на стволах. Совсем стемнело. Потянул ветерок, тревожно зашуршали уже подсушенные первыми заморозками жесткие дубовые листья. Железо в бедре мешало беглецу крепко наступать на левую ногу.
Одинец прошел дубы и уходил все глубже и глубже в сосновый бор, пока не выбрался на поляну. В середине чернели две высокие, матерые сосны, росшие от одного корня. Одинец нащупал глубокую дуплистую щель между стволами и выгреб набившиеся шишки.
Здесь будешь сзади укрыт от нечаянной беды. Хорошо бы развести огонь. В подвешенной к ременному поясу кафтана суме-зепи нашлось огниво – тяжелый брусок каленого железа, но сам огненный камень – кремень – запропастился. В темноте нового не найдешь. Одинец уселся и вжался спиной в щель. Вверху ночными голосами разговаривали сосны.
4
Изгнанник проснулся с первым светом. Ночной заморозок подернул поляну зябким инеем-куржаком. Ноги в мокрых сапогах так окоченели, что Одинец не чувствовал пальцев. Он шевельнулся, и боль в бедре напомнила о нурманнской стреле. С трудом встал на колени и одеревеневшими пальцами расстегнул пряжку пояса, стягивавшего кожаный кафтан. Шитые из льняной пестряди штаны поддерживались узким ремешком. В том месте, куда ударила стрела, пестрядь одубела от крови и прилипла к телу.
Сама ранка была маленькая, но за ночь мясо вспухло и затвердело. Опухоль вздула бедро, а самую дырку совсем затянуло. Железо спряталось глубоко, а знать о себе давало, стучалось в кость. Если что в теле застряло, нужно сразу тащить или уж ждать, когда само мясо его не начнет выталкивать…
Со вчерашнего полудня Одинец ничего не ел. Лето оставило на поляне много грибов. Сморщенные, заморенные холодом, они еще стояли, на вид как живые. Около широких бурых лепешек дедушек-боровиков семьями теснились младшие в коричневых шапках на толстеньких пеньках. Сухие сыроежки дразнились брусничным цветом. Сама же брусника выбрала малый холмик и щетинилась на мху под редкой высокой гоноболью. Приготовлено лесное угощенье, да не по Одинцу оно.
Небо высокое и лысое, без облачка. Туманом дышит проснувшийся лес – быть и сегодня погожему, теплому дню. Куда ж теперь деваться? Лес добрый: накормит, напоит, спать положит. Только без припаса, без нужной снасти не возьмешь лесное богатство. Нож есть и то добро.
Одинец снял сапоги, размотал длинные мокрые полотнища портянок, стащил кафтан и рубаху. От холода на парне вся кожа пошла пупырышками, как у щипаного гуся. Накрыл кафтаном голое тело.
Рубаха была длинная, по колено, и шитая из целого куска толстой льняной ткани одним передним швом, с оставленной наверху дырой для головы. Было нетрудно зацепить крепкую льняную нить и вытянуть во всю длину. Одинец натаскал из подола пучок ниток.
Тем временем портянки подсохли. Одинец нарвал травы, заложил в сапоги свежей подстилки, обулся и оделся. Эх, не будь раны! В бедре сильно возилось нурманнское железо, дергалось, стукало. Зла на нурманна у парня не было совсем: брать кровь за кровь можно по Правде.
Он, сирота, жил с раннего детства в учениках-работниках у знатного в Городе мастера Изяслава и учился всему железному делу: и как железо из руды варить и как ножи ковать, копейные, рогатинные и стрелочные насадки-наконечники, гвозди гнуть, делать топоры, долотья, шилья, иглы, тесла, заступы, сошники и всю прочую воинскую, домашнюю и ловецкую снасть. Во всем железном деле Одинец уже хорошо мастерил. Не давалось одно, последнее и хитрое умельство: не мог он собрать по ровным кольцам, одно к одному, малыми молотами железную боевую рубаху – кольчугу.
Терпенья ли не хватало, или мешала ярая охотницкая страсть лазать по лесам и болотам?.. Не бегал от работы Одинец. Изяслав же говорил, что парню вредит медвежья сила, от которой в руке Одинца лучше играл большой молот, чем малый, да еще – дурь в голове. Изяслав учил ремеслу сурово, не давая потачки не скупясь и на обидное слово, которое хуже самого крепкого тычка.
Дурь дурью, зато калить железо парень умел до настоящего дела. Изяслав своего умельства не держал в тайне, а у Одинца хватало ума, чтоб все и понять и запомнить.
По-разному калили поковки. В воде стоячей и в пробежной, в топленом свином жиру, в льняном масле – в черном вареном и в свежем зеленом, в говяжьих и в свиных тушах… Главная сила закалки крылась в наговорных словах. Пока железо понуждаешь горновым пламенем – одни слова говори, на волю вынешь – другие. В воде или в чем другом томишь – молви третьи. Для всего есть свои слова. И их нужно не просто сыпать, а со знанием. Чуть поторопишь речь или чуть промедлишь, и выйдет железо не такое могучее, не так оно будет рубить и резать. Наука!
Изяслав строг, у него всякая вина виновата. И укорял он ученика, и за волосы трепал, и по спине чем придется попадало. Учил: «Старайся, дурень, сдай кольчугу на пробу, выйдешь полным мастером».
Одинец без обиды терпел трепки и колотушки. И правду, плохо ли быть мастером и выпросить у Изяслава в жены дочку Заренку. Отдаст… А не отдаст – убежим…
Решил Одинец сделать кольчугу за зиму, до первой воды. А теперь вот остался ни при чем. Из Города его выгнала нежданная беда. Не видать ему теперь ни Изяслава, ни его дочки.
5
Размышляя, Одинец сучил в ладонях нитки и свивал одну с другой. Навил несколько прядок, отскоблил от ствола сосны кусочек смолы, размягчил ее теплом руки и скатал со смолой заготовленные прядки. Получилась веревочка, плотная и крепкая, как оленья жилка. На концах Одинец сделал по петле.
Цепляясь за сосну, он поднялся. Трудно ходить. Ступишь, и боль бьет в колено и ступню, поднимается до пояса. Кое-как добрел до холмика, лег грудью, набрал вялых брусничных ягод и набил себе рот. Мшистый холмик оказался вблизи диким камнем, выросшим из земли. Таких камней повсюду много в Новгородской земле. За камнем открылась глубокая яма, налитая свежей водой.
Одинца ломала горячка, он пил жадно и много. За камнем толпился густой орешник. Одинец вырезал несколько толстых стволиков, нарвал охапку тонких веток и потащился обратно к двойной сосне, как домой. Там он уселся на обжитом месте, ошкурил самый толстый стволик, острогал и к концам стесал заболонь. Он работал через силу, а все же лук скоро поспел. Дерево сырое и слабое, ни вдаль, ни крупного зверя не годится стрелять, вблизи лишь… Одинец натыкал кругом себя орешниковых веток и затаился за ними. Не то спал не то грезил наяву.
Солнышко лезло и лезло на небо, уже встало над головой. Томно Одинцу. По телу бегут мураши, ползут от пяток и собираются на спине, хоть по времени уже уснули на зиму лесные муравейники. Ребра мерзнут, а голова горит. Во рту сухо, рану зло дергает. В ней как живое, тукает и тукает новгородское железо с нурманнской стрелы.
А все же он сидел смирно и терпеливо держал на коленях готовый лук с наложенной на тетиву тяжелой стрелой.
Вниз, за полдень, повалилось Солнышко. Не раз слышались Одинцу живые звуки, хрусты веточек под чьим-то осторожным шагом, шорохи, будто дальний зов. В чащах пырхали рябчики, перепархивали добрые птицы дятлы пестря черно-белым пером. Веверица-белочка взбежала по сосне, завозилась в сучьях и сронила-бросила в человека старую шишку. Глупая синица-щебетуха слетела на воткнутую человеком ветку, закачалась и завертела носатой головкой – не понимает, кто это сидит под соснами…
Пришлось Одинцу увидеть и крутой рыжий бок лесной коровы, безрогой лосихи, которая беззвучно прошла, как проплыла, краем поляны. Так и толкнуло в сердце! Эх, будь настоящий лук! А из этого лишь напрасно попятнаешь, на смех.
Грубо и громко захлопали крылья черного лесного петуха, глухого борового тетерева, который где-то сорвался с дерева. Сюда иль нет? С утра Одинец заприметил на поляне глухариный помет.
Здоровенная птица свалилась на брусничный холмик, огляделась и принялась жировать. Одинец выждал пока глухарь показал хвост, и выпустил тяжелую полуторааршинную стрелу.
Глава вторая
1
В Детинце били по воловьей коже, созывая людство на вече.
Затянутая желтой выделанной кожей широченная бадья из дубовых клепок, стянутых железными обручами, стояла на верху высокой башни Детинца. Двое бирючей раз за разом взмахивали деревянными молотами на длинных рукоятках.
Погода стояла ясная и тихая. В такое время голос вечевого кожаного била слышится не только что на выходе реки Волхова из Мойска-озера Ильменя, но и на самом озере-море.
Дочерна осмоленные лодьи и мелкие лодочки-плоскодоночки причаливали к берегам, подходили к пристаням. Между рекой и городским тыном много мостков-причалов и пристаней на сваях. С помостов устроены съезды и дороги к воротам, чтобы было удобно везти в Город все, что прибывает Волховом.
А прибывает немало. И хлеб, и руда, и лен, и кожи, и скот, и рыба, и лес. Иноземные гости-купцы привозят многие товары и много купленных увозят. Волхов-река – большая дорога. А Новгород – этой дороги сердце.
На берегу на свободных местах торчат шесты с развешанными для просушки ловецкими сетями. Земля припорошена рыбьей чешуей, как инеем, и крепко припахивает тухлым. Ловцы бросают мелочь где придется. Над рекой взад-вперед тянутся чайки.
И по съездам с пристаней, и берегом, меж сетями, пробирались люди. Минуя низкие баньки, что стоят у реки, новгородцы через городские ворота втягивались в улицы.
Хозяева выходили из домов, низко кланяясь дверям, чтобы не разбить лба о притолоку. Гремели калитными кованого железа кольцами и из своих дворов, мощенных сосновыми пластинами, плахами и тесаными бревнами, выбирались на общие улицы. На улицах чисто и твердо – улицы, как и дворы, мощены деревянными кладями. По ним всегда удобно и ходить и ездить.
Кожаное вечевое било для разных дел зовет по-разному. По нынешнему голосу понимали: зовут народ для свершения судного веча – одрины.
На улицах люди останавливались и перекликались с соседями. На вече собираются по своему ряду и стоят не зряшной толпой, а по улицам. Между собой улиц нельзя путать, а самим улицам следует расставляться по городским концам. Каждой улице стоять за своим уличанским старшиной под общим старшиной каждого городского конца.
Каждый, услыхав зов, тянулся на вече в чем был. Одежду люди носят по достатку и по работе. На вече же у всех хозяев равное место. Так навечно положено по коренной Правде-закону, на том стоит Город, как на скале. У кого есть свой двор – дом в Городе или в пригородах или своя обжа – изба в Новгородских землях кто принял Новгородскую Правду, тот и свой.
Так пошло еще со старого города Славенска. Один за всех обязан стоять всей своей силой и достоянием и за него все так же стоят. Нет и не будет различия между людьми, будь они рода славяно-русского, кривичи, дреговичи, радимичи, или меряне, или чудины, или весяне, или печерины, югрины и другие.
Нет голоса закупу, который продался за долг, пока он не отработается. Нет голоса тому, кто нарушил Правду, и купленным рабам, которых нурманнские гости-купцы привозят на торг. А вольные люди все равны.
Боярин Ставр, старшина Славенского конца чинно шел, будто плыл со своего двора. С ним приказчики и наемные работники – захребетники и подсуседники. Боярин был одет в дорогой, привезенный от Греков кафтан. По красному сукну золотыми нитями расшиты невиданные птицы и цветы, а на спине олень с одним рогом витым как береста. На голове боярина высокая шапка из красного же сукна с тульей из лучшего черного соболя. В руке он держал резной полированный дубец – палку. Был обут в сапоги из зеленого сафьяна
Боярин Ставр красив и строг лицом, борода и усы короткие, подстриженные, а щеки бритые. Его догнал железокузнец Изяслав, староста Щитной улицы Славенского конца.
На груди Изяслава лежит лопатой густая черная борода. Он в усменном, кожаном кафтане, без шапки Длинные, по плечи, волосы, чтобы не мешали в работе, стянуты узким ремешком-кольцом. Изяслав, как видно, оторвался прямо от работы. Время теплое, а на кузнеце надеты валяные из овечьей шерсти сапоги чтобы не попалить ноги при огненной работе.
За Изяславом шло народу куда больше, чем за Ставром. Чуть ли не весь его двор. Пятеро сыновей, трое младших Изяславовых братьев, племянников больше десятка, ученики, подмастерья, работники. Народ почти все крупный и дюжий если не ростом, то плечами и грудью. С мужчинами шли и женщины. Средь них младшая Изяславовна – дочь кузнеца Заренка. Обликом она в отца: черные косы, огневые глаза. Нынче девушка провожает свою пятнадцатую осень, а минет зима, и Заренка будет встречать шестнадцатую весну.
2
Внутренняя городская крепость Детинец сидела на высоком месте. Детинцевский тын высился аршин в двенадцать – в четыре человеческих роста. Снаружи был ров с переброшенными через него мостиками к воротам.
Тын строился из отборных, ровных сосновых и еловых лесин, которые зарывались в землю почти на треть всей своей длины. Бревна так плотно пригонялись, что между ними не было прозора. А был бы прозор – все равно ничего не увидишь. За первым рядом, отступя шага на два, забивался второй, за ним – третий и четвертый. Междурядья были доверху заполнены землей. Поверху легла широкая сторожевая дорога, прикрытая зубцами и щитами, чтобы снизу было нельзя сбить ротников ни стрелой, ни камнем. Такой тын трудно сломать, а зажечь почти невозможно, разве только греческим огнем.
Изнутри Детинца поднимается особый острог – башня. С башни видны улицы. Города, который опоясан таким же тыном, и вся округа видна – дальний ход Волхова на север к Нево-озеру, на полудень – Ильмень-озеро, а на восход солнца, за Волховом, – новые концы, которые свободно расползлись, без тына, не как старые.
Город живет крепко. На своем языке нурманнские гости-купцы называют Новгород Хольмгардом, что значит Высокий, попросту сказать – неприступный город.
Под Детинцем оставлена свободная от застройки широкая площадь – торговище. Здесь все новгородцы встречаются друг с другом и с иноземными купцами для купли, продажи, обмена. В торговище улицы вливаются, как весной ручьи талых вод в Ильмень. Оно мощено, как улицы, деревянными кладями. В любое время года не только что проедешь, – пройдешь, ног не запачкая.
Иноземные купцы держали в Новгороде собственные гостиные дворы. Там гости и жили, там и хранили свои купленные товары. Большая часть иноземных дворов выходила на торговище. Строены они сходно. За забором из заостренных лесин в одно или в два бревна поставлены теплые избы для жилья и клети для склада товаров, все под тесовыми или щепяными крышами. Таковы дворы Греческий, Готьский, Свейский, Варяжский, Нурманнский, Болгарский и другие.



