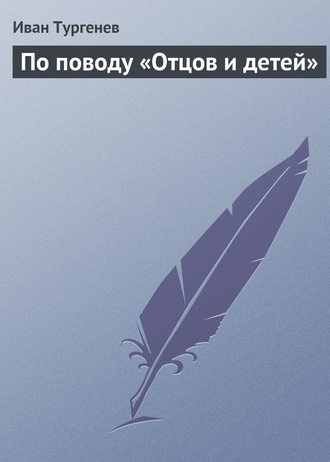
Иван Тургенев
По поводу «Отцов и детей»
* * *
С другой стороны, я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены основания, и я принимаю – без ложного смирения – часть падающих на меня упреков. Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося – исторического – факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, – почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям – и, как бы подтверждая распространенные опасения, оправдали старания и хлопоты наших «спасителей отечества»… ибо и у нас на Руси проявились тогда «спасители отечества». Общественное мнение, столь неопределенное еще у нас, хлынуло обратной волной… Но на мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень, с моего имени не сойдет. Но могли же другие люди – люди, перед которыми я слишком глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великие слова: «Perissent nos noms, pourvu que la chose publique soit stauvee!»[7] В подражание им и я могу себя утешить мыслью о принесенной пользе. Эта мысль перевешивает неприятность незаслуженных нареканий. Да и в самом деле – что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды – и о моем имени – с тенью или без тени?






