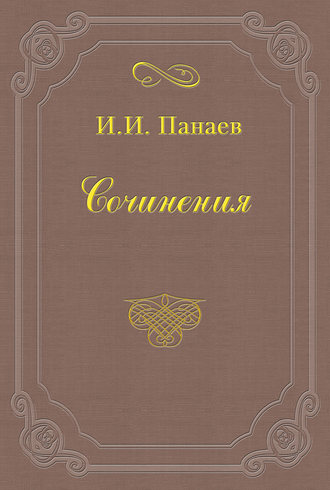
Иван Иванович Панаев
Прекрасный человек
Глава VI, из которой, между прочим, можно усмотреть, что у благонадежных чиновников служба никогда не выходит из головы и сердца и что самые неожиданные обстоятельства покровительствуют прекрасным людям.
Дня через два после этого замечательного для Владимира Матвеича вечера отец его пришел из департамента в особенно приятном расположении духа. Он все ходил по зале, загнув руки назад и моргая глазами. Когда же Настасья Львовна вошла в залу, он подошел к ней и с особенным выражением поцеловал ее руку.
– Поздравьте меня, душечка.
У Настасьи Львовны засверкали глаза.
– Что… денежное награждение?
– Нет, Настасья Львовна, дороже всякого денежного награждения, ей-богу, дороже… Сегодня я в присутствии разрюмился, как дурак! И столоначальник, и начальник отделения Володеньки, и даже сам директор такие рассыпали похвалы Володе… Говорят: «прекраснейший молодой человек, старательный, ученый, такая сметка у него во всем»; а его превосходительство прибавил: «воспитание его делает вам честь; я назначил его старшим помощником столоначальника». Вот что, Настасья Львовна!..
– Да я не понимаю, с чем же вас-то поздравлять?
– Как с чем? – да ведь, я думаю, я отец его; разве отцу не награда, когда хвалят его дитя? – разве у меня каменное сердце, Настасья Львовна?..
И Матвей Егорыч снова заходил по комнате. На глазах его дрожали слезы, а лицо сияло улыбкой.
– Бог с ними совсем, денежное награждение, – продолжал он. – Я становлюсь стар и слаб, а надо взять в расчет, что он заменит вам меня, когда я умру. Надо подумать о смертном часе!
– Слава богу! я рада за Вольдемара, – сказала Настасья Львовна. – А сколько он будет получать жалованья?
– Тысячу шестьсот рублей… Это для такого молодого человека чудесно; я в его лета…
Настасья Львовна пошла сообщить об этой радости сестрице, а Маша подошла к отцу поздороваться с ним.
– Здравствуй, Маша, – сказал Матвей Егорыч, гладя ее по голове, – здравствуй. И ты у меня доброе дитя… Маша, поди сюда.
Матвей Егорыч отвел ее в угол комнаты и, озираясь во все стороны, с некоторою боязнью, но переполненный чувством, вынул из кармана бумажник и достал из него пятнадцать рублей.
– Маша, вот тебе… купи, друг мой, себе платочек или что тебе нужно… да не говори об этом матери… Возьми, Маша…
Маша поцеловала руку отца и сказала ему робким голосом.
– Я люблю вас, папенька, очень люблю.
– Хорошо, Маша, хорошо, я верю. Смотри же, чтоб мать не знала о моем подарке…
Скоро явился и Владимир Матвеич – виновник общей радости. Настасья Львовна обнимала его, а он попеременно целовал ручки то у нее, то у отца и говорил:
– Мой долг утешать вас.
Анна Львовна при его входе сказала:
– Же ву фелисит.
По случаю получения Владимиром Матвеичем места старшего помощника столоначальника Анна Львовна присоветовала сестре дать парадный званый вечер: ей смертельно хотелось потанцевать, и особенно с офицером, который был пропитан «Жуковым». (Говорят, будто все пожилые девушки очень любят табачный запах.) Она также уверила Настасью Львовну, что ей необходимо сшить к этому вечеру новое платье и купить новый чепец, потому что все другие чепцы на ней уже видели. У Настасьи Львовны не было денег; но она через свою торговку достала несколько сот рублей, под залог фермуара, у того самого ростовщика, с которым так нечаянно сошелся Владимир Матвеич.
Между тем герой наш познакомился с Рожковыми и был приглашен к ним по понедельникам на танцы.
Настасья Львовна, узнав о новом знакомстве сына, тотчас догадалась, что он неравнодушен к дочери почетного гражданина, и обрадовалась этой догадке. «Он женится, – подумала она, – и будет жить вместе с нами или мы переедем к нему, я буду управлять всем… буду ездить в карете четверней… заказывать все мадам Сихлер… в свете будут говорить обо мне… я заплачу все долги свои…»
Розовая будущность открывалась пятидесятидвухлетнему воображению статской советницы, и очарованная мечтами, полная надежд, она ни в чем не отказывала ни себе, ни Анне Львовне.
В понедельник, раздушенный и распомаженный более обыкновенного, Владимир Матвеич отправился на извозчике в Болотную улицу, что близ Ямской. Дорогой он все думал о том, как хорошо иметь двадцать тысяч дохода и как можно различными оборотами к двадцати прибавить по крайней мере десять… Черные глаза соблазнительной Катерины Яковлевны мелькнули перед ним в тумане, как две звездочки.
Приятно мечтая, он катился в санях незаметно, и уже извозчик его поворотил в Болотную улицу, как вдруг мурашки пробежали по всему телу Владимира Матвеича; он схватил извозчика за руку в испуге и закричал страшным голосом:
– Стой!
Извозчик остановился.
– Назад, назад! – поворачивай… в Садовую! – продолжал кричать Владимир Матвеич, совершенно расстроенный. – Пошел скорей, скорей!..
Но я должен объяснить причину такого внезапного испуга. Утром этого дня он сочинял и потом переписывал одну министерскую бумагу, в которой беспрестанно должно было повторяться: «вашим сиятельством», «вашего сиятельства», «вашему сиятельству». Владимиру Матвеичу вдруг, уже при самом повороте в Болотную улицу, показалось, что он вместо «сиятельства» везде написал – «превосходительство», и эта-то бумага, вероятно, не замеченная ни начальником отделения, ни директором, с такой страшной, неизвинительной ошибкой, отослана вместе с другими к министру для подписания!.. «Боже мой, – думал Владимир Матвеич, – моя репутация, моя трехгодовая репутация! И в то время, когда я получил место старшего помощника столоначальника мимо младшего! И что скажет министр?..» Сердце его стонало и разрывалось… Он воротился назад, в департамент, чтобы взглянуть на отпуск и на черновую бумагу, в которой было слишком много помарок и которую он поэтому, разодрав пополам, бросил в ящик, находящийся под столом… А у Рожковой теперь танцуют… и, может быть, в эту минуту кто-нибудь волочится за Любовью Васильевной (так звали девицу Рожкову), и может быть…
Тут мысли Владимира Матвеича совершенно смешались… ему вдруг сделалось жарко, нестерпимо жарко, хотя в этот вечер было 12 градусов мороза.
Вбегая по лестнице департамента, он два раза споткнулся, туман застилал глаза ему. В дежурной комнате в одном углу храпел сторож, а в другом, у печки, канцелярский чиновник, присвистывая, читал «Три водевиля», изданные Песоцким.
Увидев Владимира Матвеича, внезапно явившегося в шубе, осыпанной инеем, дико озиравшегося кругом, канцелярский чиновник вскочил со стула и подбежал к нему с вопросом:
– Какими судьбами-с, Владимир Матвеич-с?
– Мне нужно здесь бумаги, – отвечал сухо Владимир Матвеич.
И начал будить сторожа:
– Брызгалов! Брызгалов!
– Чего изволите, ваше благородие?
Брызгалов вскочил, вытаращив глаза.
– Ты не выбрасывал бумаги из ящика, который под нашим столом?
– Никак нет, ваше благородие.
– Свечку!..
Владимир Матвеич с нетерпением бросился к ящику и принялся в нем шарить. Найдя разодранную черновую бумагу и сложив ее на столе, он быстро стал пробегать ее глазами… Краска постепенно возвращалась на его щеки, глаза его принимали постепенно выражение тихое, веселое… Он улыбнулся и, бросая бумагу опять в ящик, сказал вполголоса:
– С чего же мне это пришло в голову?.. Случаются же этакие странности!..
И Владимир Матвеич выбежал из департамента, вскочил в сани и закричал:
– Пошел, пошел туда же!
«Эх, досадно, что попусту ворочался, – думал он, – теперь, верно, все духи выдохлись из платья и от меня ничем не будет пахнуть. Да и на извозчика, черт знает для чего, проездил лишние».
Вечер у Рожкова он провел не совсем приятно, хотя и танцевал много. Любовь Васильевна несколько раз смотрела на него томно, но она еще томнее смотрела на Зет-Зета и с Зет-Зетом танцевала мазурку. Явно было, что водевилист мешал старшему помощнику столоначальника и не на шутку увивался за прелестной дочкой почетного гражданина. Это начало сильно беспокоить нашего героя, тем более что он знал, каким необыкновенным даром слова владеет Зет-Зет. Ко всему этому почетный гражданин, казалось, гордился тем, что у него в доме «сочинитель», и угощал его более других, особенно малагой. Зет-Зет прихлебывал малагу, поданную вскоре после чая, рассказывал о своей дружбе с каким-то князем, о том, что его сочинения переводят на немецкий язык, что все актеры в восторге от его драмы с куплетами и что хоть остался еще один день до представления, но в кассе Александрийского театра только шесть кресел и несколько лож; непроданных; остальное все расхватано. При этом Зет-Зет предложил почетному гражданину ложу в первом ярусе.
Почетный гражданин потер от удовольствия подбородок и закричал ясене, подняв руку с билетом:
– Надежда Мосевна, видишь что! поблагодари благодетеля-то.
Такого рода происшествия совсем было опечалили Владимира Матвеича, и если бы не томные взгляды, брошенные на него украдкою, он потерял бы все свои надежды… Однако при разъезде он все-таки грустно взялся за свою шляпу…
– Владимир Матвеич, вы будете послезавтра в театре? Голос, произнесший слова эти, показался ему небесным голосом…
– Ах, это вы, Любовь Васильевна?
– Я-с. Что же, вы будете в театре?
– Не знаю, может быть…
– Почему же не знаете? Приезжайте, пожалуйста, приезжайте, хоть для меня.
– В таком случае я непременно буду, – значительно сказал Владимир Матвеич.
Любовь Васильевна наградила его приятнейшей улыбкой и грациозным наклонением головы.
Это неожиданное приветствие ободрило Владимира Матвеича; он возвратился домой в веселом расположении и приказал человеку чем свет отправиться в кассу Александрийского театра и взять билет на представление «Теньера».
Утром, когда человек отдавал ему билет, он спросил у него:
– Что, я думаю, у кассы-то драка?
– Какая драка, сударь?
– Ну, много народа приходило за билетами?
– Нет-с, я один был.
– Как, разве все билеты распроданы?
– Да там говорят, что совсем мало берут-с.
Владимир Матвеич прищелкнул языком и подумал: «Эге! да сочинителям-то не всегда верить можно; они, видно, так же, как наша братия чиновники, любят прихвастнуть…»
С нетерпением ожидал Владимир Матвеич семи часов следующего дня… Еще с самого утра он тщательно вырезал афишку и в половине седьмого отправился в театр.
Владимир Матвеич приехал за десять минут до поднятия занавеса; человек не обманул его; много лож, много кресел было пустых. В двойную трубку Владимир Матвеич начал обозревать ложи первого яруса. Семейство Рожковых было уж тут. Зет-Зет сидел сзади в их ложе, а все знакомые его в партере, как-то: инженерный и измайловский офицеры, литератор приятной наружности и другие. Любовь Васильевна, нарядно одетая и в бриллиантах, улыбаясь, разговаривала с Зет-Зетом. Владимир Матвеич три раза принимался ей кланяться, но она не замечала; почетный же гражданин и супруга его очень дружески отвечали на его поклоны. Огорченный невниманием Любови Васильевны, Владимир Матвеич сел в кресла.
Музыка прогремела. Занавес поднялся. Во время представления первого акта ничего сверхъестественного не случилось, кроме того, что после слов Теньера: «Жизнь – это море страданий… поверхность ее гладка, привлекательна, а на дне – гады!» – какой-то господин во все горло воскликнул: «Прекрасно сказано!..» Два раза заставили повторить куплет:
Изящного толпа не понимает, Высокого чуждается душой И гению ни в чем не сострадает. Не дорожит избранника слезой… Пустая чернь, глупцы и лицемеры! В вас ничего возвышенного нет: Вы знаете ль, что Рубенсы, Теньеры Являются лишь изредка на свет? Очень много аплодировали также, когда Теньер в конце акта с диким хохотом убегает со сцены, при этом голос инженерного офицера возвышался над всеми голосами, а чиновник военного министерства хлопал всех сильнее и далее стучал креслом. Зет-Зет торжествовал. Владимир Матвеич и в междудействии еще раз поклонился Любови Васильевне, – она хотя в этот раз и отвечала ему на поклон, но холодно, и он, вместо того чтоб идти к ней в ложу, отправился в буфет выпить чаю. В буфете ораторствовал литератор приятной наружности.
– Как это глупо и пошло выставлять художников какими-то неземными существами!.. Поверьте, что и Байроны, и Шиллеры, и Рафаэли были такие же люди, как и мы грешные, так же ели ростбиф, пили пиво, спали. Давайте нам человека, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Надобно, чтоб лица в драме были выпуклы, полны, чтоб на них видна была наша кожа, наши кости, чтоб виден был этот зонд, который автор впускает в сердце человеческое… Да, впрочем, господа, чего же путного ждать от водевилиста? Все слушавшие литератора приятной наружности захохотали.
– Но эти аплодисменты, – продолжал литератор с презрительной улыбкой, – явная кабала: весь партер набит его знакомыми; он, говорят, всем им развез даром кресла…
Владимир Матвеич, докушавший в эту минуту свой чай, хотел идти; но инженерный и измайловский офицеры, предшествуемые и сопровождаемые тучами табачного дыма, заградили ему дорогу.
– Послушайте, почтеннейший, – говорил инженерный офицер басом, – надо хлопать больше; автора непременно надо вызвать… Посмотрите, вот я уже после первого акта отбил себе все ладони и охрип совсем.
– Пожалуйста, вызывайте автора, – заметил измайловский офицер.
– Очень хорошо, непременно, – отвечал Владимир Матвеич и сошел вниз.
Во втором акте партер заметно разделился на две партии. Инженерный и измайловский офицеры, чиновник военного министерства и несколько их приятелей кстати или некстати хлопали изо всех сил. Другая, многочисленнейшая партия, под предводительством литератора приятной наружности, шикала немилосердно. Владимир Матвеич присоединился к последним, хотя они и не просили его об этом, и потихоньку принялся усердно им вторить. Партия шикающих уничтожила бы тотчас партию хлопающих, если бы не инженерный офицер, который поддерживал энтузиазм страшными, нечеловеческими звуками, исходившими из его гортани. Но все усилия его были тщетны. По окончании второго акта он закричал диким, неистовым голосом: «Автора!» Это было последнее его усилие: одинокий и хриплый голос его, не найдя отголосков, замер в пространстве залы. Владимир Матвеич ожил; он взглянул на ложу почетного гражданина: Зет-Зета уже не было, в ложе – и герой наш решился туда отправиться. Он был принят семейством Рожкова превосходно, ласковее, чем когда-нибудь. Любовь Васильевна смотрела на него не просто томно, но даже с нежною томностию. Владимир Матвеич, как человек тонкий, спросил о Зет-Зете.
– Не удалось малому-то! – отвечал почетный гражданин улыбаясь, – больно много шикали и совсем оконфузили пьесу, да и пьеса-то неважная, а он нам нахвастал об ней с три короба.
– В первом акте точно много прелестного, – сказала Любовь Васильевна, – но второй акт скучен.
Любовь Васильевна с ранних лет читала романы, и это чтение сделало ее очень чувствительною; на всех купцов она смотрела с пренебрежением, и сделаться женою сочинителя, но, разумеется, сочинителя торжествующего, а не ошиканного, – это была любимая мечта ее. Следовательно, успех Зет-Зета мог быть пагубным для Владимира Матвеича; но Владимир Матвеич родился в счастливую минуту, и судьба при самом рождении его дала самой себе слово быть его тайной покровительницей.
Она-то, вероятно, устроила так, что драма «Давид Теньер с куплетами, фламандскими танцами и проч., и проч.», несмотря на свое достоинство, окончена была при торжественном шиканье – и ни один актер не был вызван, чего почти еще не случалось на Александрийском театре с самого его основания.
Владимир Матвеич весь последний акт просидел в ложе почетного гражданина и при выходе из ложи был осчастливлен таким взглядом, в котором прочитал и гибель своего опасного соперника, и собственный успех. Этот взгляд открыл перед ним бесконечную перспективу…
Глава VII, представляющая неопровержимые доказательства, что в Петербурге все добродетельные и прекрасные люди всегда имеют успехи и награждаются
Уже таинственная завеса, сначала скрывавшая от глаз Владимира Матвеича некоторые стороны жизни, мало-помалу начала приподниматься; жизнь переставала быть для него загадкою. Говоря о «жизни», я разумею здесь только «петербургскую жизнь», потому что насчет существования другой какой-либо жизни Владимир Матвеич не имел ни малейшего подозрения. Он не мог себе представить, чтобы на свете было что – нибудь лучше Петербурга. Один действительный статский советник, говоря о Петербурге, остроумно заметил, что это такой «городок, в котором есть все, что угодно, кроме птичьего молока». «А я так полагаю, ваше превосходительство, – возразил Владимир Матвеич, – что с деньгами в Петербурге легко достанешь и птичье молоко».
И Владимир Матвеич тщательно хлопотал об умножении своих доходов; он выручил капитал своей тетушки по ее поручению от того лица, у которого он находился, и отдал этот капитал ростовщику с малиновыми щеками и с масляными глазами на 18 процентов, из которых отдавал тетушке 10, а себе удерживал 8. Он сошелся с этим ростовщиком как нельзя короче и просил его, стороной и подробнее, разведать о приданом Любови Васильевны.
Между тем постоянно в продолжение восьми месяцев, считая со дня представления «Давида Теньера», раз в неделю он посещал дом Рожковых – и сделался почти необходимым лицом в этом доме. Почетному гражданину он рассказывал о своей службе, о директорах, министрах, статс-секретарях… Почетный гражданин слушал его почти не переводя дух и не мог наслушаться. Супруге почетного гражданина он привозил поваренные книги, потому что она была большая охотница до кухни; Любови Васильевне – романы, французские и русские; читал с нею различные стишки, большею частию любовные, и говорил, что «на земле высочайшее блаженство – взаимная любовь».
Он угождал также и тетушкам и бабушкам Любови Васильевны; все семейство почетного гражданина было от него в восторге; но для Любови Васильевны он сделался «кумиром»; она чувствовала к нему влечение самое пылкое, самое нежное. Над Зет-Зетом же, который почти совсем перестал ходить к ним, она смеялась самым колким образом и иначе не называла его, как «освистанным сочинителем».
Семейство почетного гражданина познакомилось с семейством статского советника вскоре после этого знаменитого представления «Теньера», которое имело такое важное влияние на жизнь нашего героя, – и Любовь Васильевна украсила собой бал, данный Настасьей Львовной в честь сына. На этом бале дочь почетного гражданина была осыпана жемчугами и бриллиантами с ног до головы, и статская советница была в таком от нее восторге, что беспрестанно повторяла почти со слезами на глазах: «Какая душка! Вот, можно сказать, девица комильфо… Как мило танцует – и какое обращение! она, я думаю, нигде не ударит себя лицом в грязь!» С этого вечера Настасья Львовна начала ухаживать за нею как за будущей своей невесткой – и заняла у почетной гражданки пятьсот рублей ассигнациями. Анна Львовна употребляла также все средства, чтоб понравиться Любови Васильевне: сшила ей собственноручно две манишки и подарила их в день рождения, называла ее «мои ами», «мои анж», восхищалась с ней вместе романами и целовала ее. Такие ласкательства не могли не обаять юной души дочери почетного гражданина, и она вскоре сделала Анну Львовну поверенною своих сокровенных мыслей.
В продолжение этого времени Владимир Матвеич познакомился со многими чиновными людьми, которые ему были нужны, выучился играть в вист и упрочил деловую славу свою в департаменте, исправляя за болезнию столоначальника его должность. Когда Матвей Егорыч, по своему отделению, явился в последнее время с докладом к директору, его превосходительство, подписывая бумаги, говорил ему с расстановкою:
– Ну, ваш сын, признаюсь, – делец… и какой умный, здравомыслящий малый… я с ним много говорил… и в вистик начинает поигрывать… и уж лучше вас играет, Матвей Егорыч… козырей не забывает… прекрасный человек! я себе сына лучше не желаю иметь…
– Слава богу, ваше превосходительство; кроме утешения, от него ничего не видал.
– Если он будет продолжать так, то пойдет далеко… А как ваше здоровье, Матвей Егорыч?
– Плохо, ваше превосходительство… хилеть начинаю. Ну, да что делать! надо лета взять в расчет.
– Не хорошо… не хорошо…
Почти в ту самую минуту, как директор имел этот интересный разговор с Матвеем Егорычем, сын его, в пустой комнате, перед департаментским архивом, вел разговор не менее интересный с ростовщиком. Главным предметом этого разговора была Любовь Васильевна, или, лучше сказать, ее приданое. По сведениям, которые собрал ростовщик, оказалось, что почетный гражданин Рожков вел превосходно все свои торговые дела и имел значительный капитал; у одной же известной петербургской свахи ростовщик достал полную опись приданого Любови Васильевны, а из этой описи явствовало, что Рожков обязуется дать за дочерью единовременно, при выдаче ее мужу, кроме всяких вещей, 60000 и выдавать зятю ежегодно по 20000 вперед за год, или по третям, или помесячно.
– Дело ваше, кажется, ладно, – заметил ростовщик.
– Благодарю вас, – сказал Владимир Матвеич, пожав ростовщику руку.
– За хлопоты-то вы бы мне прислали хоть дюжину шампанского, а? Да, кстати, Владимир Матвеич, я с вас вычту двести пятьдесят рублей – сваха не хотела с меня меньше взять за опись…
Владимир Матвеич немного поморщился, однако сказал: «Хорошо».
– Послушайте-ка, – продолжал ростовщик, – я давно хотел поговорить с вами, – ведь вы этого не знаете: ваша матушка надавала векселей, заложила все свои вещи. – и батюшка ваш тоже ничего не знает; все это она делала потихоньку, верно на счет будущей невестушки.
И ростовщик дружески потрепал Владимира Матвеича по плечу.
Владимир Матвеич закусил нижнюю губу и казался удивленным.
– Через одну женщину она занимала у меня несколько раз, – продолжал ростовщик, – вот и заемные письма. – Ростовщик вынул их из портфеля и показал Владимиру Матвеичу.
Владимир Матвеич и не взглянул на них.
– Любезнейший мой, – сказал он ростовщику, – мне очень жаль, что она так нерасчетливо ведет свои дела, но они до меня не касаются, и я не отвечаю по законам за ее обязательства…
– Гм! – перебил ростовщик, – знаю, знаю, Владимир Матвеич, вы не бросите и копейки туда, куда не следует…
Ростовщик засмеялся.
Через несколько дней после этого Владимир Матвеич объявил отцу и матери о своем намерении жениться на девице Рожковой и спросил у них благословения.
– Благословение наше всегда над тобою, дружок, – сказала статская советница, поднося платок к глазам. – Ты так умен и благоразумен, что никогда ложного шага в жизни не сделаешь. Твой выбор самый благородный во всех отношениях: она предостойная, премилая девушка.
Матвей Егорыч перекрестил сына, поцеловал его и заплакал.
– Бог да благословит тебя! – сказал он.
– Но… друг мой, – продолжала Настасья Львовна изменяющимся голосом… – Ты знаешь, как я тебя люблю, ты знаешь, что ты для меня дороже всего на свете… – Она начала всхлипывать… – Неужели мы с тобой должны будем расстаться? Эта мысль сведет меня в могилу.
– Как расстаться, маменька? Я не понимаю вас.
– Мне и жизнь без тебя не в жизнь. Ах, боже мой, и подумать страшно… Неужели мы будем жить розно?
– Да как же нам жить вместе? Это невозможно. Дом казенный, квартира небольшая. Мы будем всякий день видеться, маменька, – и он поцеловал ручку Настасьи Львовны.
– Так ты не хочешь жить с нами? – воскликнула Настасья Львовна в сильном нервическом расстройстве. – Это убьет меня! я заранее знаю, что убьет… Ой… ой… – И она упала без чувств в судорогах на диван, на котором сидела.
Матвей Егорыч побледнел.
– Побеги за уксусом, – сказал он сыну.
– Маша, Маша!.. Сюда, скорей…
Маша прибежала и испуганная бросилась к матери. Анна Львовна также явилась; она осторожно оттолкнула Машу и сказала ей тихонько: «вы не умеете обращаться с больными», и начала примачивать виски сестры своей уксусом.
Матвей Егорыч взял за руку сына.
– Ничего, Володя, ничего; это пройдет, не беспокойся. Что делать! Она тебя очень любит, и мысль, что должна расстаться с тобой, показалась ей с первого раза страшною… Натурально, материнские чувства… и ведь женщины дуры: ничего не хотят взять в расчет… требуют невозможного… Что, Анна Львовна? все так же… Трите виски-то ей сильнее.
Предложение Владимира Матвеича принято было в доме почетного гражданина с всеобщею радостию, и свадьба назначена через два месяца. Недели три Настасья Львовна металась в нервических припадках и несколько раз падала в обморок; на четвертой неделе она, однако, почувствовала облегчение, занялась приготовлениями для себя различных нарядов к свадьбе и приказала сшить новое бальное платье для дочери.







