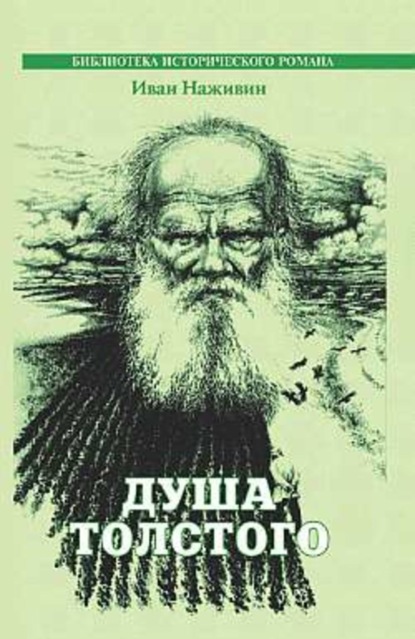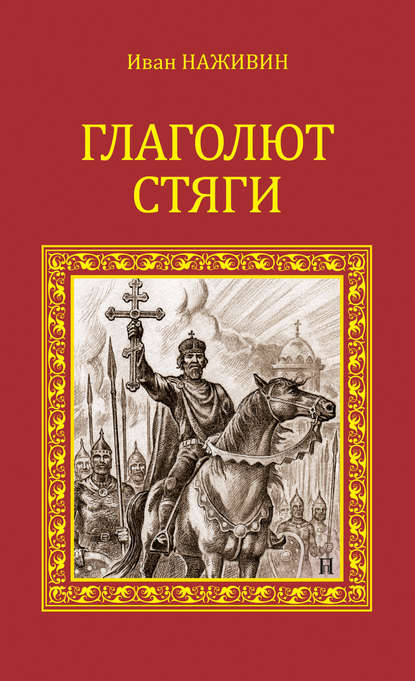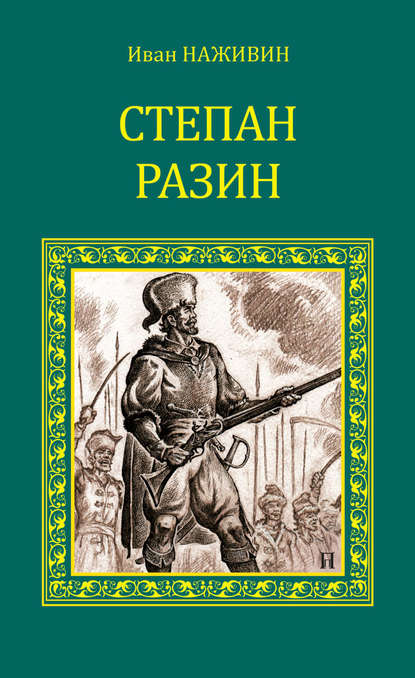- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:3.5
Полная версия:
Иван Федорович Наживин Кремль
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Иван Наживин
Кремль
©Оформление. ООО «Метропресс», 2013
©ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Об авторе

Популярный в начале прошлого века русский писатель и публицист Иван Федорович Наживин родился в Москве 25 августа (6 сентября н. ст.) 1874 г. в семье разбогатевшего крестьянина-лесопромышленника. В печати его очерки и короткие рассказы начали появляться в начале 1890-х гг. Они реалистично отображали положение низов тогдашнего российского общества. Тематически их можно в какой-то мере сравнить с произведениями раннего М. Горького. Первый сборник рассказов «Родные картинки» И. Наживин опубликовал в 1900 году. Характерные названия носили следующие книги: «Убогая Русь» (1901), «Дешевые люди» (1903). Молодой писатель много странствовал, и это находило отражение в его творчестве. Одна из его ранних книг «Среди могил» имела подзаголовок «Путевые наброски». Показательны в этом отношении и названия многих рассказов: «В степи», «Каменная баба», «В курьерском поезде» и т. п. Самые удачные рассказы Наживина выходили отдельными брошюрками в дешевых изданиях для массового чтения: «Бабушка», «Братья», «Благодетели (Авгуры)», «Великая истина» и пр. В начале ХХ века писатель находился под сильным влиянием религиозно-философского учения Льва Толстого, причем наиболее консервативных его идей, о чем будет свидетельствовать книга «Моя исповедь» (1912). О великом писателе и мыслителе Наживин напишет несколько работ, самой первой из которых станет книга воспоминаний «Из жизни Л.Н. Толстого» (1911). В следующем году воспоминания будут переизданы; в конце 1920-х гг. в Стокгольме на шведском языке выйдут биографические исследования Наживина о Льве Толстом («Cor ardens»), их сразу же переведут на финский, а завершит наживинскую толстовиану «Неопалимая купина. Душа Толстого» (1936).
Первую русскую революцию писатель, прочно утвердившийся на монархических позициях, встретил враждебно. О его настроениях того времени, о его отношении к российским событиям (и к их оценке в Европе) свидетельствует роман «Менэ… Тэкел… Фарес» (1907). Писатель на время погружается в религиозно-философские искания. В частности, он интересуется народными религиозными движениями: персидскими бабидами, индийскими сектантами, духоборами (сборник «Голоса народов», 1908). Впрочем, скоро это проходит, и для творчества предвоенных лет характерно философское умиротворение: «Вечерние облака. Книга тихого раздумья» (1916), «Белые голуби принцессы Риты» (1913). Революция 1917 года стала для И. Наживина, как и для многих других русских интеллигентов, рубежом. Он встал на сторону белых, активно участвуя в пропагандистской войне. И. Наживин пишет «письмо» к солдатам, разъясняя им, кто такой был генерал М.В. Алексеев. В Одессе он публикует очерк «Что же нам делать?» (1919), в Ростове – агитационную брошюру «Война деревни с городом. Два письма к рабочим и крестьянам» (1920). В конце 1920 г. Наживин покидает Россию вместе с врангелевской армией. Эмиграция начинается с описания нелегкой судьбы людей, навсегда расставшихся с родиной: «Среди потухших маяков. Из записок беженца» (1922), «Фатум. Беженский роман» (1926), «Прорва. Беженский роман» (1928). Одновременно писатель спешит зафиксировать свои личные переживания времен революции и Гражданской войны, а также предшествующих лет: «Записки о революции» (1921), «Перед катастрофой. Рассказы» (1922), «Накануне. Из моих записок» (1923). Символично название немецкого перевода одной из наживинских книг с революционной тематикой: «Красный смех» («Das rote Lachen»). Безусловное первенство здесь надо отдать трехтомному роману «Распутин» (1923), в котором автор возлагает вину за создание революционной ситуации в России, а также за саму революцию на бездарного правителя Николая II и его придворную камарилью. Та же мысль положена в основу более позднего романа «Собачья республика» (1935).
Со второй половины 1920-х годов Наживин переходит к созданию исторических романов. Пишет он много, ориентируется главным образом на русского читателя-эмигранта, сюжеты берет из разных эпох: «Евангелие от Фомы», «Иудей», «Остров блаженных: Евангелист», «Софисты. Роман-хроника из жизни Греции V в. до Р.Х.», «Лилии Антиноя», «Степан Разин» («Казаки»), «Бес, творящий мечту. Роман из времен Батыя», «Мужики», «Поцелуй королевы» и т. д. Наживина охотно издают эмигрантские издательства Вены, Берлина, Парижа, Тяньцзиня, Нови-Сада. Объем собрания его сочинений превышает сорок томов. А на родине в то время писатель прочно забыт. Только в конце XX века его книги снова появляются на прилавках наших магазинов: «Распутин» (1995), «Казаки» (1997), «Во дни Пушкина» (1999). Между тем творчество Ивана Федоровича Наживина достойно если не любви и почитания, то хотя бы куда более подробного знакомства. Умер писатель вдали от родимой земли: в Брюсселе 5 апреля 1940 года.
Анатолий МосквинИзбранная библиография И. Ф. Наживина
«Распутин» (1923)
«Степан Разин» («Казаки») (1928)
«Глаголют стяги» (1929)
«Во дни Пушкина» (1930–1932)
«Иудей» (1933)
«Евангелие от Фомы» (1933)
«Расцветший в ночи лотос. Роман из времен Моисея», (1935)
«Милыя тени: лебединая песнь о женщине и любви» (1938)
Земля Русская, да сохранит ее Бог. В этом свете нет такой прекрасной земли. Да устроится Русская земля.
Тферьской купец Афанасий НикитинI. Державцы земли русской
Было веселое летнее утро. Из великокняжеских хором вышло вдруг блещущее парчой, яркими красками аксамита и золотом шествие. Впереди всех, величаво опираясь на посох, шел великий государь всея Руси Иван III Васильевич. Это был высокий, суховатый мужчина лет под сорок, с темной бородой, с большим, красивым, сухим, с горбинкой носом и огневыми глазами, которые улыбались очень редко, не смеялись никогда, но легко наливались черным огнем гнева, тогда взгляда их не выносили даже мужественные сердцем. Одет великий государь был в драгоценный парчовый кафтан, на голове был соболий колпак, а на ногах расшитые жемчугом сапоги. Справа от него, несколько отступя, шел его сын и наследник, Иван Молодой, простоватый на вид парень с наивными веснушками и белесыми ресницами. Он любил говорить о своих немощах. Москвичи не любили его и звали промеж себя то «бабой рязанской», то «ни с чем пирог». Слева от государя, слегка согнувшись от годов и почтения, шел бывший окольничий его отца, Василия Темного, Иван Васильевич Ощера и, шамкая, что-то рассказывал государю. За ними медлительно и важно в высоких горлатных шапках, опираясь на подоги, шла блестящая свита из князей и бояр. Впереди всех красовался сам князь Иван Юрьевич Патрикеев, потомок великого князя литовского Гедимина, небольшого роста старик с сабельной зарубкой на сухом надменном лице и узкой, уже белой бородой. Рядом с ним величественно выступал зять его, могучий красавец с большой и умной головой и с пышной русой бородой во всю грудь, князь Семен Ряполовский-Стародубский. Беклемишев, человек роду невысокого, но умница, прозванный за свой задор Берсенем – по-тогдашнему крыжовник, колючий куст, – рассказывал что-то князю Даниле Холмскому. Князья Шуйский и Курбский и боярин Кошка, из рода Кобылиных, внимательно слушали. Несколько в стороне от них, стараясь сдержать смех, шел княжич Андрей Холмский с дружком своим Василием Патрикеевым, молодым красавцем с нервным хмурым лицом, украшенным небольшой русой бородкой. Он чуть косил, и эта легкая косина почему-то придавала ему в глазах женщин особое обаяние. Его не любили за его высокомерие и сухость, и только с Андреем Холмским был он мягок и открыт: они были дружны с детских лет… За боярами виднелись плоские, раскосые, с оттопыренными ушами лица татар. После битвы на Куликовом поле золотой век для них на Руси кончился, и теперь баскаки держали себя на Москве умненько, скромно, в сторонке… Тут же виднелось и несколько дьяков, которые в жизни государской и непосредственном окружении великого государя играли большую роль: уповательно, неприлежность наших предков в довольном изучении грамоты была тому причиной. Не только многие бояре, но даже иногда и великие князья писать не умели, а когда нужна была подпись их, ставили свою печать, а другие, вымарав руку чернилами, делали отпечаток ладони на бумаге: «руку приложил», значит… За дьяками пестроцветной толпой, в платьях чужеземного покроя шли строители и художники, фрязи – итальянцы, которые производили теперь на Москве по поручению правительства большие постройки: Аристотель Фиораванти, уроженец Болоньи, ведал постройкой Успенского собора, а Антон да Марко стоял на постройке кремлевских стен. Хитрецы заморские вызывали в Москве всеобщее удивление: они умели и соборы ставить, и пушки лить, и кирпич обжигать, а когда требовалось, то по их же рисункам отливали из сахару разных зверей, птиц и башни для столового кушания великого государя. Фиораванти – среднего роста, сухощавый, с бородкой клинышком и застланными глазами – получал за свои труды целых десять рублей в месяц, деньги по тем временам огромные…
– А ну, Аристотель, покажи-ка нам, как твои дела в соборе подвигаются… – останавливаясь, проговорил Иван. – Давно я что-то на постройке у тебя не был…
Фиораванти, еще плохо владевший русским языком, посмотрел на толмача. Тот перевел ему слова государя. Фиораванти почтительно склонился перед великим князем и повел всех на постройку.
Успенский собор был поставлен еще Иваном Калитой, но уже так обветшал, что москвичи опасались посещать его. Сперва поручили было починку его русским строителям, но, как только стали они выводить своды, все завалилось. Фиораванти первым делом поставил таран, чтобы разрушить все сделанное москвитянами. Собор стоял еще в лесах. Москвитяне целыми часами зевали на работы и по привычке своей все находили не так…
Не успело сверкающее на солнце шествие свернуть к собору, как нищий со страшными красными глазами – он за дерзкий язык был известен всей Москве под кличкой Митьки Красные Очи – быстро подкатился к великому государю и пал на колени:
– Батюшка, милостыньку Христа ради…
Иван чуть дрогнул бровью, – он не любил нищих и вообще бездельных людей, – но перекрестился и подал тому медную монетку:
– Прими Христа ради…
– Вот спасибо тебе, солнышко ты наше, кормилец… Дай тебе Господи…
Старый Василий Ощера, славившийся своею книжною хитростию, откашлялся и сказал:
– Вот, сказывают, великий государь, один человек усердно творил милостыню и на конец того скончался.
И приведен он был к огненной реке, по другую сторону которой простиралось место злачно и светло зело и различным садовием украшено. Но нельзя было никак перейти реку ту. И вот вдруг появилось великое множество нищих и перед ногами его начаша кластися по ряду и сотвориша мост через страшную оную реку, он же пройде по них в чудное то место. Вот как милостынька-то считается, великий государь!
– Так, так… – неопределенно отвечал Иван, не любивший таких божественных побасок. – Бывает…
Шествие остановилось у собора. Повсюду копошились рабочие. Пахло сырым камнем, известью, пылью. Внутри собора была поставлена маленькая деревянная церковка, дабы служба не прерывалась ни на один день. Это очень мешало работам, но было угодно Господу…
– Ну, спасибо тебе, Аристотель… – сказал Иван. – Вижу, что умелый ты мастер. Старайся, а за наградой дело у меня не постоит… А теперь пойдемте твердыню нашу смотреть…
И мимо церквей, монастырей, боярских хором, блистая празднично на солнце, шествие медлительно направилось к вновь возводимым стенам Кремля. Узкие улочки были полны челядью с конями, поджидавшей своих господ. Они от скуки дрались, ругались, приставали к прохожим, давали зевакам подножку и всячески безобразили. Гвалт над этим табором всегда стоял ужасный…
Впервые городок был поставлен тут в 1156 году. «Князь великий Юрий Володимирович, – говорится в тверской летописи под этим годом, – заложи град Москву на устни же Неглинны, выше реки Аузы». Потом крепость была перестроена Иваном Калитой из чудовищных дубов. До аршина в отрубе! Но стены эти были уничтожены страшным пожаром 1365 года. На их месте Дмитрий Донской возвел новые, каменные стены, но они уже не отвечали времени: появились первые пушки. Иван III повелел воздвигнуть новые стены. Начата работа была от Тайницкой стрельницы – «башня» слово татарское, а москвитяне звали их стрельницами, – с Ордынской стороны, от реки, откуда шли все нападения татар. Стрельница эта раньше называлась Чешковой: рядом с ней был двор боярина Чешека, галичанина родом. Теперь стрельницу назвали Тайницкой потому, что фрязи сделали тут тайный ход к реке на случай осады… И куда глазом ни кинешь, теперь, в это веселое утро, вокруг всего Боровицкого холма, как муравьи, копошились у стен тысячи работного люда. Надсмотрщики немцы – в Москве немцев было уже немало – и фрязи покрикивали на них, смешно ругались по-русски и отвешивали низкие поклоны великому государю…
Откуда взялось слово «кремль» – никто не знает. Одни утверждают, что происходит оно от слова «кремь» – так в старину назывался особенно хороший бор, который иногда растет «гривой» среди леса обыкновенного. Самое название Боровицкого холма показывает, что тут в старину бор был особенно хорош, был кремью. Другие, опираясь на то, что в старые годы кремль звался также и кремником, производят слово это от кремня. Но есть и такие, которые думают, что слово это произошло от корня «кром»: в стороне стоящий, у-кром-ный. Псковский кремль Кромом и назывался…
Нищие так и липли к великому государю, что мухи осенние.
– Батюшка, кормилец, ради Христа…
Он терпеливо раздавал медяки: так требовал хороший тон.
На холме, над Тайницкой башней, блестящее шествие остановилось: отсюда тоже был виден и строящийся Кремль, и сама Москва. Это была огромная деревня. Среди запутанных улиц ее виднелись кулижки, болотца, старые могильники, в которых находили старинные арабские монеты, взгорья, всполья, вражки, крутицы, кочкарник. По холмам виднелись ветряки, а по речкам Неглинной да Аузе шумели водяные мельнички. В заречье много садов было – так то место Садовниками и звалось… Подводы с великим криком и проклинательством – подъем от реки был крутенек – возили на стройку песок, глину, воду, кирпич.
В этом растущем из земли городе Иван видел символ своей растущей мощи. Русь болела о ту пору порабощением извне, от татар, литовцев и поляков, и от внутреннего раздробления. И тем не менее все чувствовали, что силы ее нарастают с каждым днем. Умный хозяин-вотчинник, Иван понимал, что богат, силен и славен он может быть только на челе богатой, сильной и славной Руси, и теперь, когда на его глазах из недр Боровицкого холма кирпич за кирпичом поднималась новая твердыня, укрепа всему царству Московскому, он чувствовал, как горделиво бьется его властное сердце и как выше поднимается его сухая, красивая голова. Он пришел в благодушное настроение – с ним это случалось не часто, – и, идя вдоль поднимающихся силушкой народною стен, он милостиво беседовал с боярами.
– А что же это ты нам, княже, не расскажешь, как ты со своими псковитянами воевал?.. – обратился он к князю Ярославу Оболенскому, которого он недавно отозвал из Пскова.
Тот смутился; он надеялся, что государь уже забыл об этой дурацкой истории.
– Да что, великий государь, все дело с моего барана началось, – сказал дородный князь, вытирая пот с лица цветною ширинкой. – Ехал, вишь, мимо моих хором какой-то изорник с возом капусты, а мои шестники у ворот языки от нечего делать чесали. Один из них взял с воза кочан да и бросил моему барану. Смерд завопил, сбежался народ, и началась, как водится, драка. И весь город против моих шестников поднялся. Они схватились за мечи и сабли и…
– Да и ты, сказывают, не отставал… – улыбнулся Иван. – Такой, сказывают, отпор псковичам дал, что они не знали, куды и кинуться…
Князь смущенно усмехнулся в свою большую сивую бороду. В тот день он был крепко навеселе и, когда треклятые псковичи подняли этот гвалт, он надел кое-как броню и вместе с шестниками стрелял в бунтующую толпу. Иван, несмотря на жалобу псковитян, умышленно оставил его там еще на полгода – чтобы не больно зазнавались – и только теперь вызвал его в Москву, а на его место послал князя Василия Васильевича Шуйского.
Блистающее шествие медлительно шло вдоль стен к Фроловским воротам. Местами стояла такая вонь, что все только шапками горлатными покачивали: работный народ поневоле все свои нужды отправлял тут же, под стенами. Стрельницу над Фроловскими воротами – их звали также и бойницами, а в Новгороде костром – начали уже ломать.
– А на этой стрельнице часозвоню надо будет поставить… – сказал государь. – Чтобы на всю Москву играла и всем на торгу время бы указывала…
– Фрязи, они хитрые… – отозвались голоса. – Они тебе что хошь придумают…
– И на всех стрельницах потом орлов золотых поставим… – продолжал, радуясь, государь. – Переведи им слова мои.
Фрязи, выслушав, почтительно склонились перед владыкой.
Впервые двуглавый орел в качестве герба своей державы был принят знаменитым князем Даниилом Романовичем Галицко-Волынским, который повелел на высотах вокруг Холма воздвигнуть каменный столп, а на нем утвердить орла. Москва приняла двуглавого вскоре после женитьбы Ивана на византийской царевне Софье, которая как бы принесла его с собой в приданое, в дар от погибшей Византии молодой Москве…
– Батюшка, милостыньку-то Христа ради… Кормилец… Убогеньким-то…
И опять, перекрестившись, государь раздал несколько медяков.
Медленно прошло шествие мимо кипящего справа на площади торга, и, повернув влево, берегом Неглинной, все снова вышли к Тайницкой стрельнице и опять залюбовались широким видом на пестрое, в зеленых садах, Замоскворечье. Иван Молодой вытирал пот и жаловался Василию Патрикееву на стеснение в грудях, и в глазах его была истома… Князь Василий едва делал вид, что слушает его… А вокруг весело играли на солнышке золотые и пестрые купола церквей, в сияющем небе бежали белые караваны облаков, а на реке стояла суета и работный шум: черный народ разгружал тяжелые барки, подводы с криком подымались в гору, сердито и смешно ругались немцы и фрязи…
И в последний раз Иван окинул своими темными огневыми глазами и столицу свою неудержимо растущую, и встающий из земли точно по волшебству Кремль, твердыню ее, и снова почувствовал он у души своей крылья орлиные, и горделивая радость залила его сердце…
II. Мрежи
В Неревском конце Новгорода, неподалеку от богатой садьбы Марфы Борецкой, вдовы и матери посадника, на берегу мутного Волхова, в небольшом, чистеньком домике отца Григория Неплюя, собрались его дружки потолковать о вере. Тут были и отцы духовные, и миряне, и простые житьи люди, и сын посадника боярин Григорий Тучин. Всего искателей этих собралось в сенях человек десять. Всех их объединяло одно: сомнение в истинности веры православной. Но в переднем углу, для отвода глаз, висели образа и среди них новгородский Деисус, то есть Спаситель на престоле, по бокам которого стояла Божья Матерь и Иван Креститель…
Новгородско-псковской край исстари был очагом свободной религиозной мысли. Уже в 1311 году на Переяславльском соборе была осуждена отцами ересь какого-то новгородского протопопа, который порицал монашество и считал земной рай погибшим навеки. Протопоп нашел единомышленников не только среди мирян, но даже среди епископов, но тем не менее его лжеумствования были осуждены. Не успели отцы разделаться с протопопом, как в Пскове вспыхнула новая ересь, стригольников. Они отрицали иерархию, обряды и такие важные догматы, как воскресение, и верили в непосредственное общение с Богом каждого человека. Главный грех их был, конечно, отрицание иерархии. Отрицали же они ее, главным образом, потому, что все духовные чины ставились на мзде, на святокупстве и что они, в свою очередь, вымогали все, что могли, с живых и с мертвых и вели жизнь недостойную. Отвергали стригольники даже храмы: «Молитися Христос втайне повеле, не молитися на распутиях и на ширинах градных». Прежде всего, руководителей движения – во главе их был Карп, «художеством стригольник», диакон Никита и один неизвестный – отцы утопили в Волхове, а утопив, стали опровергать их лжеучение. Больше всего их оскорбляло, что еретики отвергали их, отцов и учителей: «Что ся твориши главою, нога сый? – восклицали они с негодованием. – Не сказал ли Григорий Богослов: овцы, не пасите пастухов…» И святители советовали не только еретиков не слушати, но и от града их отогнати, по Писанию: «Изверзите злое от себя сами – мал квас все вмешение квасит».
Послания святителей против лжеумствующих не преставали, но псковичи извещали владык: «Еретики тверды – на небо взирающе, там себе Отца нарицают», то есть, другими словами, никак не хотят признать пастухов стада бессловесного. Все же усилиями отцов ересь была загнана на долгое время в подполье. Но тут в Новгород прибыло по торговым делам из Киева несколько жидов; несмотря на все стеснения, в Киеве они порасплодились-таки. Среди них был большой законник Схария. По всем видимостям, он был последователем арабского философа и астролога Аверроэса – или Ибн Рашида – и его современника, арабского еврея Моисея Маймонида, которые оба были ревностными учениками Аристотеля. В беседах о вере с отцами духовными Схария так поразил их, что они не только сами заколебались в вере, но увлекли за собою и многих других. Вскоре на помощь Схарии приехали еще два жидовина: Шмойла Скарявый да Моисей Хапуша…
Новые вольнодумцы в великих усилиях устанавливали основы своей новой, совсем еще неясной веры, раскалывались на партии, снова сливались в одно и снова раскалывались. Постепенно стали все же намечаться общие положения нового вероучения. Еретики не признавали Христа за сына Божия, но лишь за пророка, вроде Моисея: «Прост человек есть: истле в гробе, яко человек, а не воскресе, не взънесеся, не имать прийти судити человеком». Они отрицали Троицу, утверждая, что Бога не три, а один. Они отвергали будущую жизнь, таинства, святых, мощи, посты, монашество, все обряды. Их скоро прозвали жидовствующими: их сношения с евреями были замечены и использованы для восстановления против них народа, который евреев ненавидел, ибо они, как известно, распяли Христа. Впрочем, некоторые из нововеров, наиболее горячие, хотели даже обрезаться, поп Алексей переименовал себя в Авраама, а попадью свою в Сарру, иные будто праздновали вместо воскресения субботу. Но в общем обвинения их противников, что они «жидовская праздноваху и жидовская жряху», вызывает некоторое недоумение, ибо в основе вероучения самих церковников ничего, кроме «жидовская», и не было. Во всяком случае, если бы Аристотель вернулся на некоторое время из царства теней на берега Волхова, он, вероятно, был бы немало изумлен при виде того, какие странные плоды дала его мысль века спустя на болотах новгородских!..
Косо смотрели православные и на «законозвездие» еретиков, которым они заразились от Схарии, жившего в Киеве «с астрологы». Тогда это законозвездие было весьма распространено и по всей Европе, и даже многие попы прилежали чародейству сему и над всеми этими волховниками, сонниками, зеленниками, громовниками, звездочетцами потели не меньше других…
– Путаница во всем… – проговорил боярин Григорий Тучин, маленький человек с тихим, смуглым лицом, украшенным темной бородкой, скромно, почти бедно одетый. – Православные вот именуют собрание верующих церковью, а у жидов собрание верующих зовется кагалом, а церковью, по-эллински экклезиа, зовется у эллинов просто народное собрание – вроде как вот у нас на вече, на дворе Ярославле…
Григорий Тучин часто и подолгу ходил с товарами за море, но там не столько торговал, сколько всему жадно поучался. Из «гостьбы» своей он привозил немало всяких книг, и о нем начали уже поговаривать, что он «зашелся еси в книгах».
– Это нам разбирать не к чему… – сказал Овдоким Люлиш, художеством ливец, то есть золотых и серебряных дел мастер. – Пущай они зовут себя как хотят. Беда не в этом, а в том, что людей они запутали. Раз Христос меня, по-ихнему, искупил начисто, значит, я могу грешить как хочу. Ни с чем это не сообразно. А потом: сперва Господь дал диаволу человеком по пустякам завладеть, а потом, погубивши, послал за него Сына Своего на муку лютую!.. По-моему, Христос был такой же человек, как и все, а не полюбился он державцам да попам, вот они его, как стригольников, и убили… Все это плетение словес пустое – к чему надобны мрежи эти?..