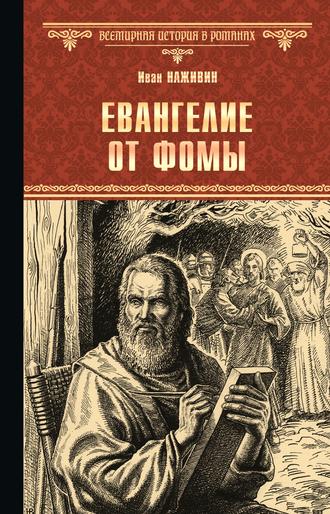
Иван Наживин
Евангелие от Фомы
XI
Серый, грозный, мрачный Махеронт зашумел радостным шумом: дозорные со стен подметили вдали, в долине иорданской, большой отряд римлян, который, несомненно, шел на выручку Ироду Антипе. Этот «шакал идумейский» был достойным преемником своего отца, Ирода, прозванного Великим. Железной рукой взял этот Великий за горло волновавшийся тогда народ иудейский и бесчисленными убийствами закрепил за собой власть. Он выстроил в Иерусалиме театр, гипподром и установил игры, которые должны были праздноваться через каждые четыре года, а вблизи от храма были построены гимназии и термы, в которых знатная молодежь проводила время по-эллински. Он основывал языческие города, воздвигал языческие храмы и украшал их богатой скульптурой, восстановил лежавшую в развалинах древнюю Самарию и дал ей имя Севастия (Августа), открыл на Средиземном море порт – знаменитую Цезарею. Родос обязан ему храмом Аполлона пифийского, Аскалон – фонтанами и банями, Антиохия – портиками, шедшими вдоль всей главной улицы. Библос, Беритос (Бейрут), Триполис, Птолемаида, Дамаск, даже Афины и Спарта не были забыты Иродом – там остались памятники его любви к зодчеству. В борьбе за власть он не останавливался даже перед убийством самых близких родственников своих и за несколько дней до своей смерти – от беспробудного разврата он начал гнить, живьем съедаемый червями – он приказал умертвить своего старшего сына. А затем заживо разлагающийся старик этот – ему было семьдесят лет – приказал перенести себя в свой роскошный дворец в Иерихоне и там, цветущей весной, он приказал запереть в тюрьму целый ряд выдающихся иерусалимских граждан с тем, чтобы все они были зарезаны в момент его смерти: он хотел, чтобы смерть его вызвала в стране слезы…
Объединенную им Палестину он по завещанию разделил между тремя своими сыновьями: Архелай получил трон и титул этнарха вместе с Иудеей, Идумеей и Самарией, Ирод Антипа получил титул тетрарха вместе с Переей и Галилеей, Филипп получил также титул тетрарха и весь Хауран. Римляне отняли у слабого Архелая его удел и присоединили к своей Сирии. Он стал с этих пор управляться римскими прокураторами, которые главным образом занимались тем, что тушили народный вулкан, кипевший под их ногами. В мерах борьбы с отчаявшимся народом прокураторы не стеснялись: достаточно сказать, что полководец Вар после одного из таких усмирений распял на крестах у всех ворот иерусалимских, на всех перекрестках, на высоких холмах среди полей целых две тысячи пленных… Но ничего не помогало: страна кипела…
Ирод Антипа, столь же ненавидимый народом, как и его отец, будучи в Риме, влюбился в жену брата своего, тоже Ирода, который, не играя никакой роли, проживал там при пышном дворе цезарей. Властную и честолюбивую Иродиаду угнетало жалкое положение ее безвластного мужа, и она тоже увлеклась Иродом, в котором она чувствовала родственную натуру. Она точно не замечала, что он был неумен, ленив, ничтожен и умел только лебезить перед Тиверием. Ей казалось, что с его беспринципностью он пойдет далеко. И она пошла за ним, но потребовала, чтобы Ирод предварительно отверг свою прежнюю жену, дочь Харета, царя Петры, который бродил со своими кочевниками по этим пустыням. Ирод принял условие, но Харет оскорбился, объявил своему зятю войну и в первом же сражении разбил его. Ирод заперся в неприступном Махеронте и послал гонцов в пышную Антиохию к императорскому легату Сирии, Эллию Ламмия, чтобы он выручил его. Тот не очень торопился: если бы Харет сломал, в конце концов, этому интригану голову, то, конечно, плакать в Риме никто не стал бы. Ирод, где нужно, тряхнул мошной, наобещал золотые горы, наврал всего, и вот, наконец, из вечереющей долины появились перед огромными крепостными воротами римские когорты…
С визгом растворились огромные ворота, и Ирод – лет сорока, рослый, черный, с чуть приплюснутым носом, красными губами и глазами с поволокой, нарумяненный и надушенный, как и его отец, – униженно улыбаясь, склонился перед сидящим на прекрасном коне представителем могучего Рима, Вителлием. На прекрасном латинском языке тетрарх приветствовал его с благополучным прибытием и в самых льстивых выражениях благодарил за помощь. Вителлий – мускулистый, загорелый, с четким профилем и холодно-серыми глазами – сошел с коня и, покосившись на своих ликторов, с подчеркнутой небрежностью коротко отвечал на приветствия тетрарха, а затем, тотчас же отвернувшись, подал знак легионерам. И тяжелым, мерным шагом легионеры, распространяя густой запах пота, прошли сквозь башенные ворота мимо Вителлия и довольного Ирода на обширный, весь выстланный тяжелыми каменными плитами двор замка. В дороге Вителлий решил было показать иудеям свои войска в полном блеске, но потом раздумал – не стоит! – и не приказал даже солдатам снимать чехлов со щитов… А потом опять передумал: те подумают, что он для их удовольствия закрыл чехлами изображение цезаря на щитах – они ненавидели всякие изображения, – и перед входом в крепость он приказал чехлы снять… Солдатня Ирода радостными криками приветствовала освободителей, но, завидев изображение цезаря, остыла. Римляне только презрительно косились на них… За легионерами, звонко цокая копытами по каменным плитам, втянулся обоз воинский – длинная вереница крупных, длинноухих мулов…
– Итак? – немножко насмешливо улыбнулся Вителлий.
Ирод с улыбкой показал через широко открытые ворота вниз, к Мертвому морю: там, на равнине, к югу пестрели шатры кочевников. Пренебрежительная улыбка скользнула по лицу Вителлия.
– Я хотел завтра послать Харету приказание очистить Перею, – сказал он, – но, видимо, надобности в этом не будет…
И он указал на всадника – отсюда, с высоты, он казался игрушкой, – который, подымая золотую пыль, несся по направлению от Махеронта к лагерю кочевников, по-видимому, с вестью о подходе римлян.
Ирод, довольный, рассмеялся и снова рассыпался в льстивых выражениях благодарности.
– Прошу тебя, благородный Вителлий, принять мое скромное гостеприимство… – склонился он перед римлянином. – Отведенные тебе покои ожидают тебя…
И тетрарх сам повел дорогого гостя во дворец.
Утомленный дорогой и солнцем, Вителлий с удовольствием отметил пышную роскошь и прохладу отведенных ему комнат. Несколько рабов – все это были хорошенькие девушки и не менее хорошенькие, похожие на девушек юноши – безмолвно склонились перед тетрархом и его высоким гостем. Вителлия потянуло взглянуть на вид, который открывался из покоев, и вместе с Иродом они вышли на просторную террасу.
– Да, местечко ничего себе… – оглядевшись, сказал Вителлий.
Махеронт лепился на самой верхушке черной базальтовой скалы. Жутко было смотреть в пропасти, которые зияли вокруг массивных стен огромной крепости. Слева серебристо блестело Мертвое море, за ним темнел Энгадди, а прямо, через солнечную ленту Иордана, на самом горизонте, как марево пустыни, мрел розовый теперь Иерусалим, над которым вздымалась темная громада башни Антония и пылал своей золоченой кровлей храм. Правее и ближе виднелся среди пышных пальм своих Иерихон, а сзади замка в диком и величественном беспорядке громоздились вершины гор заиорданских, дикая страна, полная всяких легенд и обитаемая демонами. Склонявшееся к западу солнце жгло. Ирод чуть повел подкрашенной бровью своей к рабам, и над огромной террасой быстро и бесшумно, точно сам собой, протянулся синий велариум.
Вителлий оглядел крепость. По зубчатым стенам и тяжелым башням стояли дозоры Ирода и, блистая шлемами, уже бродили его легионеры. По дворам внизу суетилась бесчисленная дворцовая челядь тетрарха: слуги, танцовщицы, евнухи, лекари и собиратели трав, астрологи, писцы, солдаты, пастухи, конюшие, повара и прочие, и прочие, и прочие. Дворец-крепость был, в сущности, целым городком. Достаточно сказать, что в его подземельях, вырубленных в скале, хранились вооружение и всякие запасы для целой армии…
– Да… – проговорил Вителлий. – Напрасно, кажется, поторопился я: в такой обстановке ты без большого неудобства мог бы подождать годок-другой…
Польщенный, Ирод весело расхохотался.
– Ничего, живем… – сказал он. – Но все это, если позволишь, мы посмотрим потом, благородный Вителлий. А теперь, может быть, перед тем как подкрепиться с дороги, ты хочешь омыться и немного отдохнуть?..
– Это было бы хорошо…
Они снова вернулись в торжественно-пышные покои.
– Так я оставлю тебя пока… – сказал тетрарх.
И полуобнаженные рабы и рабыни, подобострастно ловя каждое движение военачальника, роем окружили его…
А Ирод приказал сейчас же вызвать к себе одного из домоправителей своих, Хузу, который пользовался особым его доверием.
– Ну? – строго спросил его Ирод.
– Все готово, государь… – чуть не до земли склонился Хуза, толстый, с едва видными глазками, франтоватый сириец. – Ждем только слова твоего…
– А музыканты? А танцовщицы?
– Все готово, государь…
– Смотри: за малейшее упущение ты отвечаешь мне головой!
– Я понимаю, государь… Все будет по твоему желанию…
– Иди…
Хуза торопливо заколыхался жирным брюхом своим к себе: надо было скорее переодеться для пира. Но его жены, Иоанны, в покоях не было: она – полная, с добрым, приветливым лицом – стояла на одном из маленьких двориков крепости и тихонько беседовала с двумя запылившимися и загорелыми галилеянами. То были Иоханан Зеведеев и рыженький Рувим. Они знали, что добрая Иоанна всем сердцем сочувствует заключенному проповеднику, и добились свидания с ней.
– О нем совсем забыли… – говорила она быстрым шепотом. – И это самое лучшее для него: отойдет сердце Ирода, может, и выпустят потом. А пока лучше не напоминать. А вы переговорите пока с учениками его. Они тоже иногда бывают здесь, но не всегда удается провести их к рабби. Я ему помогаю, чем можно, но только вы об этом помалкивайте: если узнает Иродиада – голова с плеч!
– А может, как-нибудь можно повидать его? – спросил Иоханан. – Хотя бы ненадолго…
– Нет-нет, сегодня и не заикайтесь об…
– Иоанна! Иоанна! – раздалось нетерпеливо откуда-то сверху. – Куда ты провалилась?..
Иоанна приложила палец к губам.
– Муж зовет… – прошептала она. – Вы переждите как-нибудь до завтра, пока кончится этот пир их, а там опять загляните ко мне: может быть, тогда и повидаете рабби… А теперь идите, уходите… И смотрите: остерегайтесь всякого…
И она торопливо пошла к себе.
– Ну, куда ты делась? – сразу закипел ее супруг. – Как только ее нужно, так ее нет… Скорее вели дать мне другую тунику для пира… новую, белую… И плащ новый… Поживее поворачивайся!..
– Все уже готово… Иди в опочивальню и не шуми… – Через несколько минут Хуза в приятно шуршащем новом одеянии, вымытый, с умащенной благовониями круглой головой уже подходил к дверям покоев Ирода, перед которыми неподвижно стояли два огромных нубийца в леопардовых шкурах. Хуза с выражением страха на полном лице чуть заметным знаком спросил, где повелитель. Нубийцы чуть кивнули головой: тут. И в то же мгновение за тяжелым пестрым ковром, прикрывавшим дверь, послышался певучий зов маленького индийского гонга. Хуза сразу вырос на пороге.
– Пойди к Вителлию и, если он встал, осведомись от моего имени, хорошо ли он отдохнул… – проговорил тетрарх. – Если он готов, дай мне знать…
Молча склонившись, Хуза с озабоченным лицом покатился длинными, прохладными коридорами к покоям военачальника. Вителлий был готов. И через несколько минут в приятном сумраке его затянутых пышными коврами покоев выросла красивая фигура приодевшегося и накрашенного к пиру Ирода. На шее тетрарха – как и последнего пастуха – красовались и позванивали всякие амулеты – против злого духа, против дурного глаза, на счастье и прочие. И, ни во что путем не верящий, он, как и последний из его подданных, в минуту сомнительной встречи испуганно шептал псалмы, или третий, или девяносто первый, которые так и назывались «псалмами встречи».
– Мы с нетерпением ожидаем тебя, благородный Вителлий…
– Я готов… – любезно отвечал проголодавшийся Вителлий.
Ирод чуть заметно повел бровью на Хузу, и тот исчез: нужно было предупредить Иродиаду и Саломею…
XII
Тетрарх с высоким гостем своим вступили в сияющий огнями и драгоценной посудой огромный зал. Приветственно затрубили длинные трубы, и придворные, и военачальники Ирода, наполнявшие блистающий покой, все враз склонились перед тетрархом и его гостем. И, сияя ровной улыбкой своей, навстречу им вышла, вся в переливчатом блеске драгоценных камней, Иродиада с дочерью. Вителлий невольно приостановился: хороша была в полном расцвете своей южной красоты пышная Иродиада, но еще краше, еще ослепительнее была Саломея – тонкая и гибкая, как змея, в своих прозрачных, едва ее прикрывавших одеждах, с змеиной улыбкой на прекрасных, точно окровавленных устах и с змеиным мерцанием в бездонных, точно пропасти, окружавшие Махеронт, черных, огневых глазах, казавшихся еще огромнее от искусной подрисовки. Это была змея, укус которой нес человеку смерть. И она знала это, и смело смотрела в стальные глаза Вителлия, который, справившись с первым впечатлением, уже сыпал перед женщинами самыми изысканными любезностями. Он не жалел уже о трудностях далекого пути, и ему казалось теперь, что поддержать Ирода против дерзкого Харета действительно будет в интересах Рима…
– Прошу тебя, благородный Вителлий… – грудным, полным голосом точно пропела Иродиада. – Мы так рады видеть тебя…
Огромный покой был освещен многочисленными светильниками, свешивавшимися с высокого, резного деревянного потолка, прикрепленными серебряными подставками к стенам, пылавшими вдоль пышных столов. Столов было два: один, большой, для приближенных Ирода и спутников Вителлия, а другой, значительно меньший, но стоявший на небольшом возвышении, для тетрарха и его высокого гостя. В жарком воздухе благоухали курения и розы, разбросанные по столам, и старые вина, и изысканные яства. Под нежную музыку невидимых музыкантов все возлегли вокруг столов, и вышколенные рабы, за которыми строго следил толстый и теперь величественный Хуза с его помощниками, бесшумно понеслись среди гостей, разнося бесценные яства. Каким-то колдовством, каким-то сном казалось тут, на заоблачной вершине бесплодной скалы, на грани безбрежных пустынь, это пиршество: и эти свежие цветы, на которых еще не высохла роса, и драгоценные рыбы морские, и всякая дичь, и золотые плоды, и эти ароматы далеких стран, и пестрые, как восточная сказка, ковры, и прелестные рабыни в прозрачных одеждах, и золото, и драгоценные камни, и стеклянные сосуды, которые в те времена были очень редки и ценились почти как золотые. Тут наслаждались все чувства сразу: зрение – теплой игрой красок и линий, сиянием огней, красотой женщин, обоняние – курениями и цветами, слух – музыкой, то нежной, то бурно-страстной, вкус – утонченной пищей и старыми, огневыми винами, осязание – нежностью тканей и мягкими ложами. Но всего прелестнее, всего очаровательнее была для Вителлия Саломея, которая возлежала рядом с ним и, прелестно картавя, болтала о далеком и милом Риме. Вителлий все более и более убеждался в том, что не поддержать Ирода было бы со стороны Рима непростительной ошибкой, и был доволен тем, что это значительное и для родины столь полезное дело выпало на его долю. И, когда осушил он чашу за здоровье колдуньи Саломеи, – ее близость, а в особенности это ее очаровательное картавление будоражили его до дна – красавица с улыбкой на своих змеиных, ярко-красных устах понюхала – точно поцеловала – только что распустившуюся черно-красную, бархатную розу и протянула ее ему…
Пир шумел… После первых же чаш языки развязались. Громче и страстнее рыдала невидимая музыка в огневых песнях своих, и Хуза, пометив едва уловимое движение левой брови Ирода, сделал неуловимый знак к дверям. Широко распахнулись огромные дубовые двери, и из синей звездной тьмы в зал вдруг полился, извиваясь полуобнаженными телами, светлый поток танцовщиц с пьяными улыбками на молодых, прекрасных лицах. И гирлянды их оплели шумные, пьяные столы, и танец их нарастал в страсти, в дерзании, зажигая все более и более уже затуманенные хмелем сердца пирующих. Самый воздух, жаркий и пряный, несмотря на раскрытые в ночь двери и окна, был, казалось, насыщен каким-то жарким безумием, которое палило души людей и заставляло их томительно ждать еще чего-то более жаркого, еще более безумного, уже окончательного… Захватывало даже Ирода, который видел и испытал в Риме и во всяких портовых городах, по которым он скитался, все самое пряное, все самое запретное…
– Ну, Саломея… – уже не совсем уверенным голосом проговорил он. – Может быть, теперь и ты покажешь дорогому гостю нашему свою пляску?..
Саломея лениво и гибко, как змея, потянулась.
– Ой, как не хочется!.. – очаровательно прокартавила она и засмеялась.
– Но, принцесса… – умоляюще протянул совершенно пьяный ею Вителлий.
Она обожгла его черной молнией своего бездонного взгляда и встала.
– Ну, хорошо… – сказала она. – Только для тебя…
Взгляды всего зала – и придворных, и рабов – были прикованы к ней: все если не видели, то слышали о плясках Саломеи. И она подняла свои бездонные глаза к невидимой музыке. Сразу оборвалась пляска, танцовщицы очистили середину блистающего огнем покоя и, сияя глазами и красотой почти обнаженных и жарких тел своих, стали широким, светлым хороводным венком. Саломея, потупившись, лениво, точно во сне, под нежную, певучую мелодию шла к середине круга и дошла, и остановилась, точно в нерешительности… И вдруг в диком порыве широко раскинула свои прекрасные руки и с колдовскою улыбкой на своих красных, как цветок, устах несколько мгновений смотрела на Вителлия… Музыка взвизгнула, страстно разрыдалась, запылала огнями безумия, и Саломея исчезла: вместо нее в середине цветного хоровода, в потопе огней, закрутился какой-то цветной, пьяный вихрь. То стлалась она вся по земле, точно ища по ней каких-то неизведанных еще радостей, то рвалась в небо, то отталкивала все, то призывала всякого, кто смотрел на нее, отдавая ему себя всю: и это стройное, молодое тело, и эту улыбку огневых уст, и всю эту пьяную душу… Она плясала не томную лесбийскую пляску, не страстную калабрийскую тарантеллу, не жуткую восточную пляску среди мечей – она плясала самое себя… И движения ее становились все горячее, все бешенее, все бесстыднее: она уже совсем не скрывала, чего она хочет, она уже отдавала всю себя без всяких прикрас… Иногда легкий стон то восторга, то муки пробегал в раскаленном воздухе пылающей залы. И Вителлий не беспокоился теперь уже о своем Риме. Он знал наверное, что Рим – вздор, знали и чувствовали все, что все на свете вздор, все, кроме этой бешеной, почти обнаженной красавицы, которая зовет их…
Неподвижной статуей она вдруг замерла среди пылающего зала. Пьяная, блуждающая улыбка появилась на разрумянившемся лице и исчезла: было видно, что она изнемогает. Все взревело – неистово, зверино. И она, победительница, царица, медленно среди кликов, дождя цветов и рукоплесканий пошла на свое место. Бледный Вителлий смотрел на нее взглядом покоренного зверя…
– Сегодня ты превзошла самое себя… – задохнулся ошеломленный Ирод. – Проси у меня все, что хочешь… За такую пляску не пожалею и всех земель моих!
Саломея все еще пьяными глазами посмотрела на мать. Точно искра пробежала из глаз в глаза: они обе враз вспомнили этого ненавистного фанатика, который безумными словами своими всенародно хлестал их по щекам, а теперь, все не покоряясь, изнывал в каменном мешке. Ничто не доставит матери столько удовольствия.
– Твои земли?.. – очаровательно прокартавила она и просыпала серебро своего колдовского смеха. – На что мне они? Нет, если ты уж позволяешь мне выбрать, то дай мне… ну, дай мне голову заключенного Иоханана… вот сейчас, перед всеми…
Ирод немного поморщился: он не любил таких вольных жестов, в особенности перед римлянами, но отступать было нельзя. И, поколебавшись мгновение, он повел бровью на Хузу:
– Ну? Слышал?
Тот весь посерел и, поклонившись, вдруг ослабевшими ногами вышел из пьяного, шумного зала: он не любил таких острых удовольствий…
– Ты… Ты божественна… – заплетающимся языком говорил Саломее Вителлий среди страстных рыданий музыки и пьяных кликов пирующих. – На языке человеческом нет слов, чтобы выразить мой восторг. Будь я цезарь, я положил бы к твоим очаровательным ножкам всю Римскую империю, а если бы этого было мало тебе, я… я… поднял бы на ноги все свои легионы и завоевал бы для тебя весь мир…
Она жарко мерцала на римлянина своими черными безднами. Иродиада возлежала, как какой-то золотой истукан, и только тонкие ноздри ее трепетали. Ирод шарил распаленными глазами по обнаженным телам снова плясавших танцовщиц. Он объелся, его мутило, и он уже хотел прибегнуть к перышку, чтобы, пощекотав в горле, вызвать рвоту. Уже многие из пирующих прибегли к этому способу, чтобы, выбросив обед в серебряные лохани, быть в состоянии снова есть и пить. Под высокими сводами раскаленной, точно сгорающей в ослепительных огнях залы стоял возбужденный гомон и смех… И вдруг все чуть ахнуло: в дверях бесшумно встал высокий, дюжий, бесстрастный, до пояса обнаженный египтянин – палач с большим блюдом, на котором тяжело лежала иссиня-бледная голова Иоханана с закатившимися глазами и с черной, жесткой, окровавленной гривой. Широким ровным шагом палач прошел к столу тетрарха и с поклоном показал всем страшно оскалившуюся голову. Женщины с раздувающимися ноздрями жадно смотрели в мертвый лик. Саломея взяла из рук раба блюдо и с змеиной улыбкой своей поднесла его матери.
– Язык!.. – коротко уронила та.
Раб, сдерживая дрожь в руках, вытянул большой, застывший, синий язык мертвеца, и Иродиада, вынув из пышных волос своих золотую булавку, прищурившись, медленно вонзила ее в язык. Она злорадно усмехнулась и пренебрежительно проговорила:
– Выбросьте эту гадость вон!..
И незаметно, лениво потянулась всем своим гибким, прекрасным телом.
– Вот попробуй этого, благородный Вителлий… – проговорила она. – Это языки осенних дроздов в вине… Очень вкусно…
Но Вителлий ничего не слыхал…
– Ты достойна быть женою цезаря… – среди жаркого гомона голосов коснеющим языком, склонясь к Саломее, лепетал воин. – Ты богиня…
Уже светало… Орлы с клекотом кружились над пропастью – в глубине ее, избитый и изорванный о скалы, валялся изуродованный труп Иоханана…







