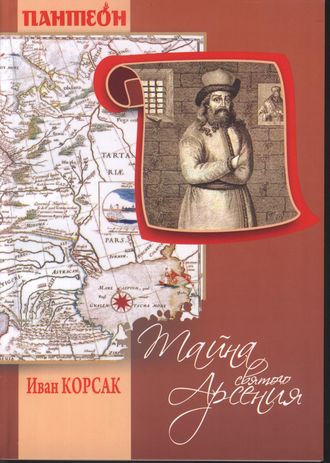
Иван Корсак
Тайна Святого Арсения
"Но каким образом может происходить то, что вы не поражены огромностью тех богатств, которыми вы владеете и которые делают вас настолько могущественными, что вы должны были почувствовать, что ваше такое положение совершенно противно духу вашего призвания. Разве вы не наследники апостолов, которым Бог заповедовал проповедовать презрение к богатствам и которые могли бы быть только бедняками; царство их было не от мира сего; вы соглашаетесь со мной? Разве не правда то, что я решилась возвестить вам?".
Легкий упрек в голосе императрица может позволить себе лишь в начале. Пусть хоть один из этих душпастырей, привычных к высокому почитанию, пусть хоть один попробует поднять голос – у нее будет, чем на место поставить. В келье Арсения Мациевича найдены во время обыска письма многих здесь присутствующих, сияющих раззолоченным облачением; эти арестованные письма до поры до времени пусть полежат, но их она может вынуть когда-либо в случае надобности. Императрица может и должна сейчас разговаривать с ними иным тоном, где уместен металл, а не женские упрёки.
"Как же можете вы пользоваться богатствами, не противореча своему положению, которое должно быть неразлучно с христианской бедностью? Как смеете вы без угрызения совести пользоваться таким имуществом и поместьями, которые дают вам могущество, как царям? Ах! Разве вы не имеете под своею властью рабов больше, чем некоторые европейские государи имеют подданных? Вы слишком просвещенны, чтобы не понимать, что все это состояние производит так много злоупотреблений во владениях государства, что вы не можете его сохранить за собой, не будучи несправедливыми по отношению к самому государству; а вы должны сознавать, что вам менее, чем кому-либо другому, позволено быть несправедливыми и если вы несправедливы, то вы тем более виновны в этом, что лучше других знаете свои обязанности".
Румянец, пятнистый и злой, выступил на лице императрицы. Как еще им объяснить: отныне вы не служители алтаря, не духовные сановники, а является государственными лицами и власть монарха для вас более всего.
"И если я должна рассчитывать на вашу верность, преданность, то я должна также льстить себя надеждой, что найду в вас особенно преданных моей короне верных подданных. Если это так, то не умедлите же возвратить моей короне то, что вы похитили у нее незаметно – постепенно".
Неподвижными, высеченными из камня сидели члены Синода, боясь даже переглянуться, даже пошевелиться. Они отныне – воры? Они, берегшие и стремившиеся преумножить веками подаренное монастырям и церквям? Те, которые школы открывали, типографии или госпиталя для неимущего люда? Значит, именно они обворовали эту разгоряченную и разгневанную приблуду, которая невесть откуда прибилась на их седые головы, у которой нет и капли русской крови, но так наивно нагло, словно горстями песка, бросает им между глаз: "Все русское – мое!".
Но кто посмеет выразить такое вслух? Среди арестованных писем Мациевича есть письма Гавриила Санкт-Петербургского и Афанасия Тверского, Амвросия Крутицкого и Тимофея Московского. Достаточно стрясти из тех страниц пыль, а чернила по времени выцвести еще не успели. Кто посмеет, когда еще перед глазами Арсений Мациевич, заболевший простудою в дороге, и цинга после Камчатских экспедиций не захотела оставить его – вылезли волосы, гнойные раны раз за разом открывались на теле; Мациевич, уважаемый иерарх, ставший расстригою, словно настоящий воришка?
Императрица внимательно вглядывалась в покрытые морщинами лица сановитых душпастырей перед собой, она, наверное, догадывалась, какие неучтивые мысли роятся в этих вроде бы весьма мудрых головах, но это ее никоим образом не огорчало, быстрее радовало и смешило; что-то подзуживало ответить смешным русским словцом – русские присказки старательно и охотно стала зубрить, ответить что-то наподобие "А выкуси!" ей хотелось, но не могла.
Однако сразу после заседания Синода села за письменный стол. Вольтеру надлежало сообщить о своей добросердечности: "Арсений, епископ Ростовский… был сужденным митрополитом Новгородским, и всем Синодом осужден, как фанатик, виновный в замыслах враждебных, как православной вере, так и верховной власти, лишенный сана и священничества и переданный в руки светского начальства. Я дала ему прощение и удовлетворилась тем, что перевела его в монашеское звание".
С другим документом уже на ночь погнали гонцы, не жалея коней, как значилось в высочайшем повелении, повезли гонцы еще одно распоряжение. Кудрявые строки на дорогой бумаге гласили: "Ровняя себя в протерпении Златоусту, стараясь возбудить ропот и неудовольствие на правительство, в коварных затеях не разбирал способов, ибо и лжи клеветы и пророчества и молитвы и слова Божии он не усовестился употреблять всуе… А по сему – под крепкое смотрение, и ни бумаги, ни чернил не давать там".
Гнали кони ложбинами и перелесками, так что даже белая пена из удил летела, спешили гонцы…
11
Прокурор Нарышкин отыскал Арсения Мациевича на монастырском дворе. Митрополит, трудно дыша, рубил дрова – по постановлению суда он несколько раз в неделю должен был мыть полы, рубить дрова, выполнять другую черную работу. Арсений как раз с выдохом загнал топор в толстое полено, однако оно, сучковатое, с первого раза не поддалось, и тогда Арсений вместе с застрявшим топором поднял его над головой, чтобы во второй раз, уже обухом, ударить по колоде; полено то ли тяжеловатое, то ли сил не хватило, повело его прежде в одну сторону, тогда в другую, он заточился, будто пьяный.
– Имею обязанность провести допрос, – представился Нарышкин.
Арсений молча взялся освобождать топор из нерасколотого полена, пуляя и дергая за топорище, наконец, ему это удалось и он так же, не обмолвившись словом, пошел за Нарышкиным.
Прокурор, судя по всему, был хорошо осведомлен с монастырской жизнью Мациевича.
"Предыдущие императоры и цари Церковь разным добром награждали. В настоящее время же не только награды нечего ожидать, а еще и грабят. В Ярославле даже утварь церковную уже отобрали", – говорили подобное монахам? – Нарышкин водил глазами по бумаге неотрывно – то ли так внимательно вчитываясь в написанное, или не хотел встретиться взглядом с митрополитом.
– Видит Бог, что это горькая правда.
– "Даже турки свои мечети награждают, а в России Содом и Гоморра". Ваши слова?
– Взойдет ангел с Небес в день последний – и враг Церкви не укроется.
– "Дворянство, – говорили караульному офицеру Алексеевскому, – забыло предков своих, которые поместья монастырям даровали, теперь же добро грабит". Говорили?
– Истину знают святые Небеса.
– "В настоящее время, увидев, что императрица Екатерина не тверда в русском законе и не знает народной жизни, завистливые на церковное имущество царедворцы подсунули несведущей императрице злой указ, и она подписала слепо"… Подтверждаете свои слова? – Нарышкин так и не поднял от бумаги глаза, словно приклеились они там.
– "Кто имеет уши, пусть слышит, что Дух говорит Церквям"…
"Ишь, какой хитрюга, за Откровение Иоанна прячется, – сердитой и раздраженной осой зажужжала мысль Нарышкина. – Не только самого понесло в мятежники, еще и другим неоправданные надежды подает. Архимандрит Антоний, который весьма уверовал в болтовню этого престарелого узника, утешался среди монахов: "Случится изменение на императорском троне, Арсения освободят, и он опять будет архиереем, имущество вернут монастырям, и Арсений заберет с собой меня". А еще архимандрита радовали слухи среди духовенства, что суд Синода проходил с нарушениями исконных правил, потому сан митрополита из владыки Арсения фактически не снят, а все свелось к самому обычному переодеванию – Бог забрал тогда ум у кривосердных судей.
Здесь в прокурорских бумагах все записано, напрасно Мациевич отговорками отделывается, он даже не знает, что, когда пошли доносы от пьянчуги иеродиакона Лебедева в губернскую канцелярию, начались допросы, то Антоний отрекся от него, мало того, рассказал на следствии, как Арсений Святой Синод упрекал.
– Может, и о Синоде не говорили, не ругали?
– Нет, – крутнул головой Арсений – ему так болела спина, потому что чуть ли не с возом дров за день управился. – Не укорял я Синод, только говорил, что, будучи архиереем, писал в Синод так, чтобы на Страшный суд стать спокойно. А писанное мной Синод растолковал ошибочно, поэтому буду я с ним на Страшном суде судиться.
Ему тяжело было стоять, боль потихоньку становилась сильнее, сейчас он чувствовал себя так, как будто спиной лег на голый под шибко натопленной печи.
Наконец Арсений вынул из кармана медный пятак и положил его сверху прокурорских бумаг.
– Милостыню? Мне?! – лицо Нарышкина побелело, и он что есть силы хрястнул по столу рукой, даже хлопок пошел под звонким сводом старинной монастырской кельи. – Я прокурор, а не попрошайка!
Арсений лишь грустно покивал головой. В видении, которое наплывало на него, представлялся ему Нарышкин, перед которым льстиво кланяется люд, потому что стал он большим начальником, управителем государственных заводов, виделось, как самого Нарышкина уже допрашивают, потому что растратил казенные большие деньги, и как его заключают в крепость, присудив пять копеек в день на содержание – не будет больше иметь и до смерти.
– Берите, – тихо отвечает митрополит – Вот увидите, еще понадобится.
Раздраженный Нарышкин теперь копал на Арсения еще упорнее, не минуя допросами ни монахов, ни светских монастырских слуг, запирал в кельях на несколько дней без воды и еды "подумать и вспомнить". И таки накопал столько, что императрица немедленно передала дело генерал-прокурору Вяземскому.
-Узнайте, нет ли в Выборге, Нарве или Ревели особенно надежного каземата для этого лгуна, – велела императрица и просто таки порадовалась набежавшему словцу. – Так и назвать его – Враль, и ни одна душа на белом свете не должна знать другое его имя. Никто не будет иметь права знать…
12
Осенью 1770 года над Москвой кружили вороны, от их зловещего крика под высокими свинцовыми тучами стыла кровь и без того напуганных москвичей.
Пока в Петербурге звенели оркестры громких балов по поводу большей или меньшей победы в турецкой войне, невидимый враг, для которого не существует преград, проник чуть ли не в каждый московский дом – чума вошла в город внезапно и такой же невидимою косой клала люд, как созревшую траву в косовицу.
Врачи и ученые посылали спешные депеши в Петербург, писали, что срочно сделать нужно, чтобы эпидемию хотя бы остановить, и те депеши оседали в канцеляриях, кочевали из одного ящика в другой; кто-то из ворожей посоветовал только жечь костер, чтобы едким дымом отгонять беду – и те черные дымы шаткими столбами вздымались над Москвой загадочным призрачным лесом.
Болезнь началась в Генеральном сухопутном госпитале среди возвратившихся из турецкой кампании, тогда перекинулась на Суконный двор. Власти не удалось отправить в карантин рабочих из Суконного двора, перепуганный люд разбежался, разнося городом чуму.
Мальчишка из семьи Страховых каждое утро носил записку с числом умерших, поэтому, едва увидев малиновый пиджачок с голубым воротничком малолетнего курьера, открывал люд окна и с тревогой окликал:
– Сколько, дитя?
– Шестьсот!
– Сколько, сколько?
– Шестьсот! – опять кричал мальчишка, и жители утешительно крестились:
– Слава Богу, слава Богу…
Благодарное знамение возлагал люд на себя потому, что вчера тот же мальчишка в малиновом пиджачке отвечал: "Восемьсот!"
Трупы человеческие, которые обсели черные и зеленоватые толстые мухи, не успевали даже убирать, поэтому вороны совсем свыклись и перестали бояться людей. Обер-полицмейстер приказал выпустить преступников-колодников из тюрем и создать из них команды захоронений – те колодники по совместительству с новой работой еще и грабили и без того прибитый бедой люд. Мортусы из тех похоронных бригад, в масках и просмоленных балахонах, крюками, словно колоды, таскали человеческие тела, бросали их на подводы и вывозили за город или бросали здесь же в ямы, врывались в дома и тянули живых в карантин – москвичи скрывали страдающих тех больных, чтобы даже здоровым в тот карантин не попасть, потому что выход оттуда, в основном, был лишь в могилу. Генерал-губернатор граф Салтыков убежал из Москвы в село Марфино, как из пожара, за ним убегали офицеры, дворяне, чиновники. Через одиннадцать месяцев после начала эпидемии императрица Екатерина отправила в Москву главнокомандующим с самыми широкими полномочиями князя Григория Орлова, генерал-аншефа и своего фаворита.
У страха глаза велики. И такую же быстроту имели слухи, которые ширились при человеческом горе.
– Нас спасёт икона Боголюбской Богоматери! – разнесся слух в разгар беды. – Та икона, что у Варварских ворот.
Вал люда покатился туда, толкаясь, ругаясь, затаив надежду на последнее спасение. Люди прикладывались к иконе, давали щедрые пожертвования, ревностно читали молитвы на молебнах, которые служили безликие священники, объявившиеся мгновенно и не имевшие на то права без благословления архиерейского.
Новая беда вспыхнула и разгорелась, как огонь в жатвенный день. Кто-то распорядился ту икону, чтобы не переносилась чума, забрать в церковь Иоанна и Кира, а священников доставить к духовному начальству. Возмущенный люд священников отбивал силой, а сундук с пожертвованиями попробовали забрать солдаты.
У Спасских ворот тревожно ударили колокола и поплыли над запуганными московскими улицами.
– Богородицу грабят! – возглас этот поднял на ноги тысячи людей, кто хватал дубовый кол, кто просто камень, который попал на глаза.
Повстанцы в поисках виновных ворвались в Чудов монастырь, разгромили винные погреба купца Птицына, ринулись расправляться с ненавистным генералом Еропкиным.
Огромная толпа стекалась к Кремлю, намерения мятежников не вызывали сомнения.
– Подкатить пушки к Спасским, Боровицким и Никольским воротам! – раздалась команда.
Белый флаг, с которым шли офицеры к повстанцам, был истоптан и порван, а парламентеры сами едва спаслись.
– Картечью огонь! – прозвучал приказ.
Заревели чуть ли не в один голос пушки, ядра со зловещим свистом, описав дугу, попали посреди люда: вскрики, стон, исполосованные тела да еще новая команда "Целься!" таки остановили мятежников.
А на следующий день кавалерия, взблескивая саблями на сентябрьском солнце, пошла в атаку.
Бунт придушили. Писарь, нервно брызгая чернилами от пережитого, выводил на бумаге в Петербург срочное донесение: "78 человек убитых, 279-арестованных, 72– битых кнутами и отправленных на каторгу, 91-битых кнутами и отправленных на казенную работу, 4 – повешенных".
А в литейной мастерской в Петербурге, между тем, суетились мастера, и разливался металл для срочного заказа. Императрица повелела за усмирение бунта вылить в честь генерал-аншефа Орлова памятную медаль "За избавление Москвы от язвы". Князя Григория приветствовали при дворе с музыкой, с церемониями, как истинного героя.
Москве же было не до оркестров – скрипели телеги, вывозились труппы убитых и просто умерших от чумы, обустраивались новые кладбища – Ваганьковское, Дорогомиловское, Даниловское, Миусское, Преображенское, Введенское… Двести тысяч легло москвичей, почти столько же, сколько жило в начале того века в городе, легло от чумы, завезенной из победной, так шумно отмеченной приемами, балами и высокими наградами, войны с Турцией.
13
Она была уверена, что с тем митрополитом (к счастью, уже прежним) в действительности же со сморщенным от прожитых лет, словно вяленая груша, языкастым дедом, с облезлыми от давней цинги волосами, неприятным и колючим монахом, ей в жизни встречаться уже не придется : далековато на север отвезли его прыткие кони. Упоминания об Арсении, если и наплывали, императрица быстренько выталкивала из памяти и мыслей, как выталкивают за порог непрошеного гостя.
Впервые так легко избавиться ей от упоминания о Мациевича не удавалось, когда поступила неожиданная весть о внезапной смерти епископа Гедеона по дороге в Псков – только и успел ухватиться за сердце и вскрикнуть, даже карету извозчик не смог остановить. "Мало разве в жизни случается досадного и непредвиденного, – выталкивала, обеими руками выпихивала из мыслей зловещее воспоминание об Арсениевом пророческом слове о Гедеоне на том суде. Стечение обстоятельств – и всё".
Не прошло и два месяца, как другая грустная весть докатилась до Петербурга, странная, непредвиденная, непонятная.
Упал свод церкви Трех святых, что рядом с Крестовой палатой в Кремле, где судили митрополита. Здание не такое уж давнее, хорошие мастера его возводили, еще и иностранцев приглашали тогда для присмотра.
Рухнула церковь; слава Богу, что служба не правилась, и никого как раз не было, рухнула ни с того ни с сего, без ветра и бури, без сотрясения земного: только земля вздрогнула и клубы серой, как будто пепел, пыли поднялись в небо.
Как совпадение, народ удивлен – и в памяти дедов-прадедов не было, чтобы церкви падали, – начались суды и кривотолки человеческие.
– За грехи наши…
– А может, и не наши.
– Праведного здесь осудили.
– Говорил же митрополит…
– Миру конец: Бог знамения показывает.
Народ прибывал, кольцо люда вокруг сужалось, уже и битым кирпичом топтались, только порох вспархивал из-под ног.
– Разойтись! – кричала стража и замахивалась, как будто для удара, но выкрикивала так несмело и неуверенно, потому что и у самой ужас покалывал спины тоненькими иглами.
– А еще насмехались над митрополитом Арсением, – судачил вполголоса люд, осторожно оглядываясь, нет ли вблизи кого-то чужого, потому что за неосмотрительное слово можно не пороха этого кирпичного понюхать, а казематной плесени.
Императрице уже в этот раз невмоготу было отогнать тяжелые воспоминания и горькие, брошенные невольно слова Мациевича. Вызванные спешно сановники только руками разводили, лишь Шешковский осмелился догадку свою выразить.
– Доносят, что кто-то примудрился Вралю передать святые мощи Димитрия… Вот он и приобрел непонятную силу.
Шешковский проговорил и тут же запнулся, пожалел о собственной поспешности: императрица на глазах преображалась в лице, побагровело то лицо, пятнами пошло.
– Воробьев вам стеречь, а не государственного преступника! – Императрицу, неизменно осмотрительную и сдержанную, такой придворным еще видеть не приходилось. – Найти, чьи это дела!
Шешковский, на которого окрысилась государыня, тихонько пятился за спины придворных, и гусиной становилась кожа на всем теле, словно вылез из воды на холодный ветер – так можно самому попасть в зарешеченный каменный дом, где до сих пор его пленников держали.
Несколько ночей после этого, едва сомкнет веки, императрице снилась невиданная до сих пор картина церкви, которая рушится, стон земной и клубы пыли в небе; вздрогнув, она просыпалась, пробовала даже читать, но как только задремнуть старалась, то опять наклонялся и как будто проваливался церковный купол…
Одна беда редко ходит. От Шешковского, что после памятного разговора то ли слегка заикаться стал, то ли просто приобрел привычку подольше думать, пошли прочие тревожные донесения. Зашевелились тайные недруги ее, поддерживающие законного, на их взгляд, претендента на трон Ивана Антоновича.
Уже на следующий день, как только взошла на престол, Екатерина Вторая из Петербурга послала генерал-майору Силину свой указ.
"Вскоре по получении сего имеете, ежели можно того же дня, а, по крайней мере, на другой день безыменного колодника, содержащегося в Шлиссельбургской крепости, под вашим смотрением, вывезти сами из оной в Кексгольм, а в Шлиссельбурге в самой оной крепости очистить лучшие покои и прибрать, по крайней мере, по лучшей опрятности оные; которые изготовить, содержать по указу".
Четвертого июля генерал-майор докладывал из села Морья, что в трех десятках верст от Шлиссельбурга, о своем непредвиденном приключении. Буря разбила их нехитрую посудину на озере, и они с арестантом ожидают в селе теперь другое судно, чтобы как-то доплыть в Кексгольм. Наконец Ивана Антоновича доставили назад в Шлиссельбург.
Со страхом, с неизвестным, непонятным сочувствием посетила новая императрица своего конкурента в казематах зловещей славы. "Да он же сумасшедший, – посмотрела, покачала головой и махнула на все. – Животное существование, пусть себе остается".
Сейчас она не могла так махнуть рукой, отнестись легкомысленно к новым донесениям было бы непростительной ошибкой.
"А еще кто-то завидует моей удаче", – делала гримасу, словно вдруг зуб заболел, и эта боль, занудная, никак не хотела отступать.
– Захотят освободить Ивана Антоновича – при наименьшей попытке его… – распорядится императрица таким тоном, что переспрашивать детали ни у кого не было охоты.
14
В саксонском кабачке играла музыка, в саксонском кабачке выплясывали миловидные цыганки – смуглые и стройные, друг друга, вероятно, красивее, хоть воду с лица пей; как вывернется которая станом, как начнёт веять красочной юбкой, то даже истома брала офицера Шванчича, кровь закипала, и бурлило, и пружинило молодое тело. Сюда любило заглядывать офицерье, и Шванчич кабачок не часто обходил стороной. Ему смаковало красное вино, завезенное из неблизких испанских краев, быстрая музыка просто таки тормошила и манила к танцу, но его больше интересовала одна цыганка, что ко всему прочему еще и подмигивала. Сияющая и разгоряченная, она подмигивала всем, и подогретому вином Шванчичу казалось, что подмигивает она ему как-то особенно.
Братья Орловы ввалились в кабачок, как к себе домой, Федор и Алексей, оба высокие и широкоплечие, уже навеселе, увидев знакомого Шванчича, направились к его столику, и Алексей умудрился на ходу щипнуть цыганку, которая так сияла улыбкой и подмигивала Шванчичу.
– Не трогай, – добродушно проворчал тот. – Это мне.
– А ты ее разве на базаре купил? – выставил зубы на показ Алексей.
– Цыганское племя принадлежит миру, – Алексей продолжал раздавать весёлые шутки. – А еще тому, у кого силы больше.
Здоровяк Шванчич понял вызов и рыкнул сердитым, разбуженным среди зимы медведем. Он таки не уступал по росту и силе любому из пяти братьев Орловых, мог кулаком выбить кирпич в стене, а в заварухе молодецкой чувствовал себя, как рыба в воде – дрался отчаянно, никогда при этом не переставая улыбаться.
– Да пошел ты, – и бросил закрученное, как старые бараньи рога, матерное слово.
Алексей без длинных размышлений зацедил ему под ухо, и неудачно, руку соперник как-то отбил и, в свою очередь, влепил Алексею такого пинка, что тот полетел кувырком.
Еще через мгновение клубок из трех тел покатился между столами, выкатился за порог, хрястнувши выломленной дверью; Шванчич сумел вскочить на ноги и, став к стене спиной, по очереди бил обоих братьев.
Кровь смешалась с вином, добавляя лихорадки драке, он долго держался против двоих, пока Алексей не попал в лицо: зацедил со всей силы, даже руку в плече почувствовал, ту руку, которая одним ударом сабли могла отсечь голову старого быка.
Когда Шванчич упал, для Федора с Алексеем наступила настоящая потеха – его били ногами, бутузили под ребра и в пах, по рукам, которыми тот силился заслонять лицо, дубасили что есть мочи, копали единовременно и по очереди, пока тело не стихло и не перестало даже шевелиться.
Шванчич долго лежал так в грязи, под ночным дождем, трудно дыша и едва постанывая, пока Алексей, переполненный заморским вином, не вышел к ветру. Из последних сил Шванчич поднялся на ноги и, выхватив саблю, черканул по Алексеевом лицу. Два из него стали бы, если бы не побитая рука Шванчича, а так (в рубашке таки родился) лезвие лишь разодрало щеку, от уха ко рту. Окровавленного, в полусознании брата Федор успел довезти к хирургу – с тех пор шрам глубокой бороздой остался, который на холоде то синел, то становился багровым.
Тот случай был единственным поражением Алексея. Он мог что угодно отколоть и быть уверенным в безнаказанности – за ним стояла такая же широкая, как и у него, спина брата Григория. Григорий бросился в глаза Екатерине, еще когда она была лишь великой княгиней, задолго до восхождения на императорский престол. Отбив Григория у хорошей приятельницы графини Брюс, великая княгиня по достоинству оценила вкусы графини – молодое и упругое тело Григория мяло ее неистово, вбрасывало в неистовство, в беспамятство, она забывала напрочь и мужа, и предыдущих любовников, ее несло бурными волнами и так хотелось, чтобы этому безудержному потопу никогда не было конца. Верный камердинер Василий Шкурин, не засвечивая свет, тихонько каждый раз отворял дверь и Григорий, воровато крадучись, нырял в опочивальню.
Но однажды, тешась молодым и упругим телом любовника и выгибаясь выброшенной на берег рыбиной, она в порыве ласки нежно потерла его по щеке ладонью. Потерла и похолодела, под пальцами чувствовался глубокий рубец Алексея.
Она выскочила из постели и засветила свечу.
– Как вы посмели? – возмущенный полушепот – полукрик на Алексея никак не подействовал.
– А какая вам разница, – Алексей устало надевал панталоны. – Вам с Орловыми не стоит ссориться. Потому что они не только в постели гвардейцы, но и… – и не договорил.
Алексеевы слова стали пророческими, когда нужно было девать куда-то мужа.
Григорий оказался весьма ловким действительно не только в постели, он таки был наблюдательным человеком. Когда императрица начала быть весьма мягкой с Григорием Потемкиным, который стремительно делал карьеру от капрала до камер-юнкера, а взгляд самого Потемкина на располневшее тело императрицы становился словно намасленным, братья Орловы застукали его в одиночестве.
– Не для твоих зубов это мясо, – сказал Григорий Орлов, и пудовый кулак его попал в зубы Потемкина, так что захрустело.
– Хороший пестик, только для другой ступки, – улыбнулся Алексей кривой улыбкой и ударил что есть силы ногой в пах.
Сыпнули искры из глаз, Потемкин свалился, и теперь уже в кругу братьев, лежа, он никак не мог защищаться от ударов ногами. Били в живот, били под ребра, текла изо рта кровь, хоть как ни закрывал лицо руками, пока удар в глаз носком и вовсе не отобрал сознание: сверкнули внезапно еще в глазах разных оттенков круга, и так же внезапно погасли; наступила ночь.
Он выхаркивал долго эту драку кровью, учился ходить заново, как в детстве, но мощная природная сила его организма в конечном итоге победила, только на один глаз ослеп. Длительное время двадцатичетырехлетний камер-юнкер даже не появлялся при императорском дворе.
А Григорий Орлов хорошие способности заявил не только в постели. Когда Вольтер прислал первое письмо императрице Екатерине, восхищаясь ее будущими реформами, Григорий, между прочим, то ли мысль свою вслух выразил, то ли давал совет:
– Хорошо было бы соболей ему послать…
Императрица бросила взгляд резко, взгляд то ли колебания, то ли резкого несогласия: правильно ли ее поймут?
– Соболи – они и во Франции соболи, – прижал тоном Григорий.
Прислушивалась императрица к его мысли и о Глебове.
– На всех задворках плещут, что Глебов перепутал императорскую казну со своей, – он привычно выкладывал мысли напрямик, по-солдатски, не закручивая их в хитромудрые кружева придворного этикета. – Так не должно быть. Он присвоил большую часть того, что выделялось на переселение в Малороссию сербов, армян, болгар и греков.
Когда императрица позвала Глебова, тот, на удивление, не стал отнекиваться, только покорно наклонил голову, как будто подставлял ее на лобном месте для казни.
– Виноват, императрица, – с такой же покорностью, но уже в голосе, ответил Глебов.
– Вы понимаете, что здесь сибирским холодом тянет? – гневные, но еще отдаленные молнии стали мигать в глазах императрицы.
– Виноват, ваше императорское величество, – не менял голос сановник. – Но когда я давал вам по двадцать пять тысяч рублей, тогда вы еще были великой княгиней, и по десять, и по пятнадцать, которые вы проигрывали в карты, то где их мог я еще взять?
Осторожными шагами императрица освободила Глебова, но под суд не отдала – пусть повисит над ним дамокловым мечом угроза, рот, может, плотнее будет закрыт.
Но в одном государыня не послушала Орлова – обвенчаться с ним.
– Ваша тетя Елизавета обвенчалась же с Разумовским, и тебя никто не осудит, – налегал Григорий.
Деликатно завела она речь об этом с графом Паниным, всезнающим на ее взгляд, и в то же время коварным, мудрым змеем из библейской гравюры, который умел просчитать все на несколько шагов вперед.
В этот раз Панин отрезал без привычных выкрутасов.
– Слово императрицы для меня закон. А кто станет слушаться графини Орловой?
15
– Банкир Судерланд, Ваше императорское величество! – обе половины позолоченной двери приоткрылись, и Судерланд вошел привычной быстрой поступью.
– Как я рада видеть вас, мой милый банкир, – императрица улыбалась искренне, ей действительно становилось веселее от каждой встречи с этим чужестранцем, образованным и галантным, который, однако, никогда не опускался к привычной при дворе надоедливой патоке льстивости.
– День аудиенции в моем календаре каждый раз отмечаю как праздник. – Судерланд умиленно смотрел на перстень императрицы с удивительным камнем, который переливался каким-то необычным, чуть ли не фиолетовым оттенком, – до сих пор его еще не видел.
– Догадываетесь, почему зовут банкиров – нужны средства, – императрице легко как-то велось из Судерландом, она была уверена (и не раз тщательным образом проверяла), что ни одно слово между ними молвленное, не вырвется в Судерланда вне порога дворца. – Большие средства нужны.
– Большим людям – большие деньги, – поклонился банкир, потому что так ему было легче спрятать изменчивую кислинку, которая могла промелькнуть лицом и выдать его, – были хлопоты с невозвращением предыдущего заема.
– Вижу, придворную науку лести усваиваете как примерный спудей.
– Нет, Ваше императорское величество, я просто цитирую сказанное Дидро, и Вольтером, и Гриммом на всех европейских перекрестках.
Судерланд хотя и имел хлопоты с заимствованиями раньше, но был уверен, что многоразово окупятся они: трон крепок, бунты придушены, следовательно,расплатится.



