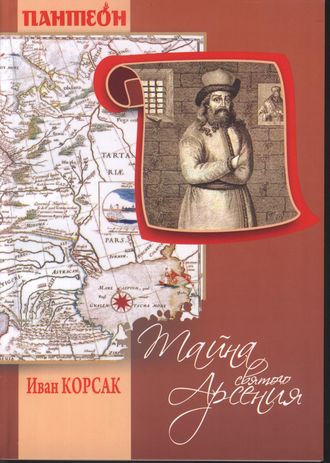
Иван Корсак
Тайна Святого Арсения
Иван Корсак Тайна святого Арсения \роман\
Последний любовник императрицы \русск. вариант\
1
Под звонким старинным сводом каждое слово, даже сказанное потихоньку, осмотрительно и вкрадчиво, звучало особенно выразительно. Те слова из уст суровых судей с задеревенелыми лицами, скованными судорожным страхом от присутствия императрицы, почтенных сановников, Орлова, Глебова и Шешковского, те слова с удивительной легкостью поднимались в высь, зато падали оттуда на плечи митрополита тяжелыми камнями.
Судили митрополита Ростовского Арсения Мациевича.
Желтоватый свет многочисленных свеч делал старшими и более сухими лица высоких иерархов Тимофея Московского, Амвросия Крутицкого, Димитрия Новгородского, Афанасия Тверского, Гавриила Санкт-Петербургского, сидевшими в ряд, и даже лицо самого молодого, тридцатишестилетнего епископа Гедеона Псковского, привычно резвого и непоседливого за церковными стенами, казалось сейчас вырезанным из старой пересушенной липы.
С ближайшим окружением императрица Екатерина Вторая сидела молча поодаль, и только пламя свеч отблескивало то на одном драгоценном камне ее наряда, то на другом, словно перебегало от легкого движения головы из брильянта на брильянт.
Митрополиту не подали стул, он стоял перед судом в полном облачении, которое полагалось его сану, стоял и мысленно молился, чтобы даровало небо терпение и смиренности, чтобы, привычно порывистому и пылкому, ему не изменила рассудительность.
В свои лета, которые тихо шелестели за спиной, Арсений Мациевич не мог обижаться на светских судей, потому что не судьи они ему – слишком много ведал о них. О недавнем подьячем, а в настоящее время обер-прокуроре Глебове, не только Петербургом и Москвой ходили легенды об умении давать и брать взятки, но и гуляли за лесами и перелесками самыми отдаленными губерниями. София Фредерика Августа Ангельт-Цербтская, перекрестка из выгоды, что из лютеранки стала православной Екатериной ІІ… Фактический руководитель Тайной экспедиции Шешковский, что, потешаясь и приветливо улыбаясь, лично выбивал палкой зубы самым почтенным дворянам… Треск, как будто сухую ветвь ломали через колено, белая эмаль на полу, окровавленный рот…
Нет, не судьи ему они. А епископы?
Не обижался на них митрополит. Одних он учил как член Синода, наставлял, выводил в высокий духовный сан, с другими хлеб делил из одного стола. Не было обиды за измену – "и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.". В душе Арсений не корил их также за страх, потому что слишком хорошо был осведомлен с обычаями трона. Единственная тревога, единственная боль допекала ему, словно кто иглой кольнул в сердце и не вынул ее, а только крутил там ею и бередил раз за разом свежую ту рану.
Если сейчас у монастырей и церквей заберут землю и поместья (а уже рыщут по церквям офицеры, описывая, словно арестантское, все церковное добро, вплоть до подсвечника, до алтарей), то не будет принадлежать больше Церковь Христу, а Глебову и Шешковскому.
Поднялся митрополит Димитрий Новгородский, поднялся медленно, без видимой охоты, и так же неохотно стал говорить, но как встретился взглядом с Глебовым, то мгновенно стал строже и голос его окреп.
– Не ты ли, владыка, писал, что Церковь Божья в настоящее время в беде и разрушении… Что ей нет спасения от хищных волков, которые губят и уничтожают имущество церковное, как будто безбожный и преступный царь Юлиан. И если ты, то справедливый ли ответ Коллегии Экономии Сенату? Такой стиль, такие вещи ужасные, резкие писались в ответе, почему-то говорится о Юлиане Отступнике, тогда как Коллегия Экономии существует лишь с 1701 года и сурово выполняет все указы Ее Императорского Величества. Какой же твой выбор, владыка, неужели на стороне недругов трона?
Митрополит Арсений медленно и трудно вдохнул на полную грудь, как будто собрался поднять непосильную ношу: он простудился в дороге, везли в Москву арестованного с большой спешкой, почти всюду вскачь, лишь время от времени меняя обессиленных и взмыленных коней.
В ту Вербницу тысяча семьсот шестьдесят третьего года снега еще не сошли, лишь на взгорьях, кое-где в незатенённой стороне, появлялись и чернели причудливые полоски нерастаявшей пашни – такой волнующий и такой коварный весенний воздух, такое чистое и звонкое, даже колышется, немыслимой голубизны небо, в котором неслышно плывут истосковавшиеся по родному краю грустные птичьи ключи; такой же голубизны несут реки последний лед, и себе звенящий, набравшись лазури небесной. Время пробуждения всего сущего, – умилённо наблюдал по сторонам Арсений с удивительным для себя покоем, – время светлых надежд, ожидания всегда волнующей Пасхальной ночи, пусть даже очень хмурой, но в которую неизменно сквозь мрак и темень пробьются звёзды… Но впереди еще Страстной четверг, еще нужно дожить.
Митрополит прокашлялся, собираясь ответить Димитрию. "Хороший он человек, – подумалось ему, – в сердитом вопросе и подсказку несложную спрятал: признай письмо своё ошибочным, согласись с правотой Коллегии Экономии – и тебе будет легче…".
– Всевышний, Димитрий, человека создал свободным. Но предоставил право самому человеку свою стезю выбирать, – и митрополит, не мигая, посмотрел в глаза епископу.
В воцарившейся тишине лишь свечи потрескивали, как будто о чем-то между собой переговаривались, и Димитрий опустил глаза наземь.
"Ишь, как закрутил хитрюга-митрополит, – над ухом Глебова нагнулся Шешковский, но прошептал так, чтобы слышно было и императрице. – Ко мне бы его, по-другому он бы заговорил". Но императрица то ли не услышала, только у нее уголок уст дернулся непроизвольно.
– Разрешено ли тебе, владыка, самовольно менять текст анафемы, веками звучавший одинаково? – опомнился наконец митрополит Новгородский.
– Димитрий, ради Господа нашего Христа, не ступай на эту стезю… Умоляю тебя, Димитрий, – быстрее простонал, чем вымолвил митрополит.
Димитрию перед этим сон весьма странный приснился. Явился ему иерарх, чем-то похожий на митрополита Арсения, и латынью вынес приговор: "Как наши отцы, среди которых есть святые, жертвуя для церкви добро земное, проклинали воров этого добра, так и я, грешный и недостойный служитель Церкви Христовой, и не моими устами, а устами моих отцов, произношу тебе анафему и внезапную смерть…"
3
Митрополиту Арсению болело другое. С того памятного дня во дворике Киевской академии (вон сколько лет прошумело, сколько воды убежало в Днепре и родной для него реке Луге, на берегах которой он вырос в княжьем городе Владимире-Волынском), с того памятного дня суждено ему нести непростое бремя. Он сидел тогда, юный спудей, полуребенок, еще и усы не проклевывались, сидел на бесхитростно смастеренной деревянной скамье в уютном дворике академии. Наверное, он задремал на ласковом солнце (до утра штудировал Лукреция, так что даже круги разноцветные поплыли вместо букв перед глазами), как вдруг перед ним на дорожке появился незнакомый ему мужчина. Высокий, стройный, длинные волосы спадали на плечи – наверное, заслонил он собой солнце, потому что силуэт его как будто сиянием лёгеньким отсвечивал.
– Арсений, – молвил тот незнакомец. – Тебе уготован дар, который не многим выпадает. Ты будешь знать будущее, заглянуть сможешь через годы.
Парень недоуменно потер ладонью глаза, он понял, что задремал на солнцепёке.
– И свое даже знать буду? – переспросил для видимости.
– Нет, свое не дано никому. Но когда будешь знать судьбу других, то и будешь знать, чего тебе самому не нужно делать.
-А могу ли другим говорить об их будущности?
– Можешь.
– Разве они будут слушать предостережения?
– Господь Бог дал человеку свободу выбора.
Вдруг заколебался мальчишка.
– А как ведать буду, что это не сон?
– Фома Неверующий тоже до поры сомневался, – улыбнулся лишь незнакомец. – Чтобы знал, что не сон, возьми …
Арсений проснулся, солнце поднялось и прижигало, на дорожке перед ним, конечно, никого уже не было. На память пришёл сон, парень бросил взгляд себе на ладонь.
На ладони лежал деревянный крестик на грубой ниточке, простой и нехитро изготовленный из темного дерева крестик.
… Когда Димитрий вспомнил об анафеме, Арсений за весь суд ужаснулся впервые. Он видел, как страх за жизнь митрополита Новгородского, за свой сан, толкнул его на тропинку беды. О себе Арсений не думал, он действительно изменил старинный текст таким образом, что толковать можно и как анафему императрице и другим обидчикам храмов, чья жадность к монастырским поместьям могла окончательно лишить независимости Церковь. Арсений ужаснулся духовной Димитриевой измене…
Но Димитрий уже не в силах был остановиться.
4
– Митрополит, шестого дня марта ты обратился в Синод с письмом… Все, что там написано, является обидой Величества Императорского.
– Горе нам, бедным архиереям, горе не от поган, а от своих, считающих себя овцами правоверными.
– Если бы черное и белое духовенство генерально было переведено на денежное жалование от казны, то и архиереям легче стало бы…
– Когда из чужой ладони питается архиерей, пусть и из ладони казны, то есть государственного мужа – то уже не архиерей… Сохрани же Господь государству быть без архиереев, – Арсений передохнул и минутку помолчал.– Иначе от древней нашей апостольской Церкви случится большая отступность. Иначе верх возьмет вера какая-то иная, а то и появится атеистическое государство…
…Суд шел уже не первый день. Императрица Екатерина Вторая слушала это все показно, без видимой охоты, безразлично поглядывая, как отблескивает пламя свеч на орденах Глебова и Шешковского, или рассматривая в выси, в полумраке суровые лики, нарисованные древними художниками, лики, которые от ослабевшего света становились еще суровее. В действительности, ей стоило немалых усилий держать себя в руках, потому что в душе пылал как бы жар, и каждое слово задиристого митрополита внезапным ветром порождало новые вспышки пламени. "Какой неискренний этот митрополит, – думалось императрице. – Здесь говорит одно, с паствой другое…".
Три дня перед тем ей положили на стол дежурное донесение о разговорах митрополита в Ростове. "Высочество наше неприродная и в Законе нетвердая, и не подлежало бы ей престола принимать, – говорил где-то Арсений Мациевич в близком кругу, – а следовало бы Ивану Антоновичу. Все не постоянное, и не берегут настоящих наследников".
5
К судебному процессу по делу митрополита императрица Екатерина ІІ готовилась предварительно: осмотрительно и вкрадчиво выспрашивала мнения сановников, лично перелистала, брезгливо сплевывая на пальцы, не одну сотню замусоленных страниц из донесений сыщиков Тайной экспедиции. Ей не было кого бояться, потому что одни в могиле, а другие за неподвижными казематными стенами, оставалось последнее прибежище для возможной оппозиции трону – Церковь. Уже давно за высшим духовенством длилась достаточно плотная слежка, и она таки давала пользу. Еще в памяти, как архиепископ Варлаам получил ссылку за то, что в частном письме вместо слов "Ее Императорское Величество" написал просто "Ее Величество".
Для императрицы дело Арсения Мациевича не было лишь его делом, угроза виделась ей куда более широкой и более опасной. В действительности, по ее мнению, ростовский митрополит выступал от всего высшего епископата, доходили даже слухи, что при последующих поборах и конфискации имущества церквей дело может дойти до запрещения вообще отправлять Службу Божью во всем государстве.
Императрица пригласила как-то Степана Ивановича Шешковского и напрямик, без хитростей и выкрутасов, глядя не мигая ему в глаза, спросила:
– Вы знаете в Тайной экспедиции даже больше, чем генерал-прокурор Глебов… Как бы вы посоветовали сделать с тем духовенством, которое не стало надежной подпорой трона?
– А они все одним миром мазаны, – выдержал взгляд Шешковский, и добродушная улыбка разъехалась на его продолговатом лице. – А вы кого-то одного выдерните и показательную науку задайте…
– Вы советуете мне устроить бунт иерархов? – одна бровь императрицы медленно поползла вверх, другая же осталась на месте, как будто примёрзла.
– Нет, Ваше императорское величество, – покрутил головой Шешковский, как будто удобнее приспосабливал ее на коротком теле, а тогда опустил глаза на рукоять своей знаменитой палицы. – Нет, выдернуть можно одного, а остальные высокие душпастыри должны сами осудить его.
– А как не осудят? – бровь императрицы так же медленно опустилась, только уста сжались.
– Осудят, ещё как. – Степан Иванович продолжал пристально рассматривать причудливо вырезанную и украшенную рукоять своей сподручной палицы, словно именно она была как раз главной темой их беседы. – Доказательств, которые будут побуждать, достаточно.
Шешковский хорошо знал, о чем говорил императрице. Легче всего, по его мнению, было с митрополитом Димитрием – ему лично, а не храмам, Екатерина ІІ даровала тысячу душ крепостных сразу после своего восхождения на престол. Степан Иванович вдумчиво и не спеша перечитывал частные письма и Амвросия, и Тимофея, которые сами вслух боялись противоречить властным намерениям, но к этому словно подталкивали митрополита Ростовского, именуя его в письмах "великодушным", "бодрым", "искренним и крайним благодетелем" – списки из тех писем надежно хранятся в Тайной экспедиции, в Петропавловской крепости. Шешковский знал также, что напрасным будет заступничество и светского сановитого люда. Бестужев-Рюмин попробовал было написать императрице сдержанное, деликатное письмо, но получил – и слава Богу! – от ее императорского величества полный отпор: "Я чаю ни при каком государе столько заступления не было за оскорбителя Величества, как ныне за арестованного всем Синодом Митр. Ростовского. И не знаю, какую я бы причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемонии и формы, не по столь еще важным делам, преосвященным головы ссекали".
3
… Суд между тем, хотя и медленно, изо дня в день продвигался вперед, досадные слова обвинений отлетали от старинных стен, поднимались к своду и тяжелыми камнями падали на старческую голову Арсения.
– Это ты, митрополит, осмелился послать неучтивое письмо в Санкт-Петербург, которое вручено Высочеству на собрании генералитета иеромонахом Лукой и прочитано с остановкой секретарём… Это письмо большой гнев государев повлек, а оный схимник со страха ум потерял, был послан в Невский монастырь, где шесть недель держали под караулом и до сих пор в келье замкнут он под надзором. Это ты, митрополит, виновник…
– Почему восстал ты, митрополит, против воли императрицы, которая зовет нас придерживаться правил ума, избавиться от мирской хозяйственной суеты и на государственном жаловании служить лишь Богу? Зачем тебе табун из шестисот коней и десятки тысяч десятин земли, если без хлопот нас казна прокормит?
– Не ты ли, митрополит, нападал на архиереев за послушание императорскому трону, не за то ли обзывал их: "как псы немые, не лая, смотрят?"
После дежурного заседания суда, уже на паперти, Шешковский, по привычке лукаво прищуря глаз, закинул Глебову:
– И что же в мыслях генерал-прокурора?
– Тайная экспедиция наша, Степан Иванович, за ним высмотрела уже все глаза, – Глебов ступал каменными ступенями медленно и осмотрительно, словно не был уверен в их прочности. – Еще только увидит дыбу, глянет, как заплечных дел мастера пробуют кнуты и веревки на прочность, разжигают жаровню и бряцают инструментами для пыток… Мгновенно сознается во всем, вспомнит даже, что он двоюродный брат Папы Римского и кум турецкого султана.
– Думаю, он таки должен стать моим, – улыбнулся, как всегда приязненно и весело, Шешковский.
…Суд подходил к концу, и уже был назначен день снятия сана из митрополита. Хотя об этом нигде не сообщалось, в Кремль, к Синодному двору, люд повалил безудержным потоком, таким плотным и непослушным, что и двойной отряд солдат не смог стать преградой.
– Ведут, ведут! – зашумела до сих пор молчаливая толпа, увидев Арсения в плотном окружении мундиров.
Он шел в полном митрополичьем облачении, медленно ступал камнями, которые и через подошвы казались горячими, а дорогу ему пробивали прикладами мрачные солдаты.
В архиерейской мантии с поручами, в омофоре и белом клобуке, с панагиями на груди и с архиерейской палицей в руке он шел не обреченным невольником, а с достоинством митрополита, готовым на испытание. Затянутое тучами небо на мгновение расступилось, и от солнца внезапно сверкнуло митрополичье облачение, пуская желтые отблески на лица молчаливого и напуганного люда; кто-то бросил ему под ноги несколько ивовых веточек, которые уже распускались, несколько ивовых котиков – митрополит даже на минуту было приостановился, чтобы взглядом встретиться со смельчаком, но его толкнули в спину, а солдат справа прикладом мгновенно ударил крайнего из толпы, не доискиваясь виновников, ударил просто так, для порядка и страха.
На суде к Арсению первым шагнул Димитрий и протянул к клобуку руки, что мелко дрожали.
– Какая печаль, Димитрий, – отстранился Арсений и с молитвой мысленно сам стал снимать клобук. – Твой прислужнический и лукавый язык ведет тебя прямиком к беде – тот лукавый язык тебя самого задушит, и от него умрешь.
Архиепископ Амвросий подошёл, опустив глаза вниз, чтобы омофор снять.
– Куда ты направился, Амвросий? – переспросил с горечью митрополит, сам снимая омофор. – Ты же ел со мной из одного стола, хлеб из одного ножа, вот также и будешь ножом, как вол, заколот.
Гавриил Петербуржский должен был забрать палицу, но Арсений сам взял её от посошника Златоустова и передал Гавриилу.
– Забыл ты, наверное, каким должен быть архиерей Божий. – Митрополит смотрел выше его головы, словно где-то там в пространстве, была выписана судьба архиепископская, и лишь нужно внимательно, не спеша вычитать ее. – За твою Иродиаду твой соперник задушит тебя, потому что танцуя с ней, ты криводушно осудил меня.
Гедеону надлежало снять мантию.
– Жаль лет твоих молодых, – только и вздохнул Арсений. – Не увидишь ты больше престола своего.
Мисаилу судилось последнее – снимать из митрополита его рясу.
– Быстро испек ты горький хлеб свой, приготовленный для меня, – устало, вполголоса проговорил Арсений. – Но разве ты не видишь, что сам, словно хлеб, спечешься в печи?
Кладбищенская тишина воцарилась вмиг, и долго ее нарушить ни у кого не было сил, пока тихий всхлип не послышался – все, не сговариваясь, повернули головы в ту сторону. Это всхлипнул Тимофей Московский, выдержка всё-таки подвела его, и по старческому, густо потресканному от морщин, как на высохшей от жестокой жары южной земле, неспособной уже даже вбирать влагу, по его морщинистому и посеревшему лицу бежали слезы.
– Да он же не в себе! – наклонился Орлов к Глебову и Шешковскому, тот шепот тревожно шелестел, как листья в позднем осеннем, предзимнем лесу. – Его срочно в сумасшедший дом, в крайнем случае, закрыть, как того иеромонаха Луку, и не выпускать из-под караула.
Арсений не мог слышать этого перешептывания, слишком далеко сидела сановитая свита, но он услышал каким-то другим голосом, и тот самый, порывистый и вспыльчивый митрополит, резко повернулся к Орлову.
– А тебе, граф, еще выпадет судьбой короновать того, чья кровь на твоих руках. И не я безумен, а брат твой за содеянное зло жизнь свою завершит в сумасшедшем доме.
– Что он себе позволяет! – побледнела императрица Екатерина, не сдержалась впервые, побледнела, скорее, побелела от гнева, она сжала так кулаки, что ногти впились в ладони. – Ёще и говорится это возле храма!
Арсений повернулся теперь к ней и долгим, укоризненным и грустным взглядом посмотрел на ту, которая одним движением мизинца решала судьбы тысяч и тысяч людей, в чьей власти появилась возможность неохотно, играя, перекраивать страны и будущность народов, перед которой дрожали больше, чем самый ожесточенный грешник дрожал, каясь, перед иконой.
– А ваше величество еще увидится с убиенным мужем… Но не будет иметь христианской кончины, – только и покивал головой митрополит. – И смертный час свой без исповеди встретит в нужнике… Мужа твоего задушили любовники, они и сына задушат. Храм же сами вы испоганили, и он упадет…
Во второй раз наступила кладбищенская тишина, ни один не мог от ужаса даже пошевелиться, казалось, на этом суде не люди присутствуют, а просто восковые фигуры, лишь тени от многочисленных свеч мерцали на задеревенелых, будто бы пожизненно неподвижных лицах.
Первой опомнилась бледная, словно от лунного сияния, императрица; заслонив руками уши, вскрикнула хриплым, неузнаваемым для самой себя голосом:
-Закляпить ему рот!
Призрак виселицы мелькнул, как взблеск зловещего огонька, мелькнул и замерцал в зрачках каждого.
4
Графу Орлову стоило немыслимых усилий сдержать себя, когда митрополит пророчил коронование убитого императора. Граф так сжал зубы, что скрипнули они, словно полозья саней о перемерзший снег: в первый раз при людях ему напомнили о смерти императора Петра ІІІ да еще и возвели вину лично на него. Как смеет этот никудышный митрополит, а в действительности уже самый обычный монах-рассстрига, из которого от старости порох сыплется, как смеет ему такое говорить, ему, чье имя да и имя его брата на неизмеримых пространствах империи весит чуть ли не столько, сколько имя самой императрицы? И что этот монах может понимать в настоящих, величественных интересах России… Такому государству не нужен был император-дурачок, пьянчуга с десяти лет, только и умевший в солдатики играть. Орлов твердо верил, что императрица Екатерина ІІ способна еще развить мощь русской земли, пределы ее расширить за счёт обессилевших бестолковых окраин, которые не способны сами себе помочь. Он был также убежден, что тайна той трапезы навечно уйдет в небытие вместе с этим поколением, а если и выплывет случайно, то умные оценят его изобретательность, его сподвижничество ради русской будущности.
Все готовилось быстро, но продуманно. Первая записка, как документ в случае чего, и, конечно, чтобы не бросить тень на будущую императрицу, была короткой: "Матушка милостивая Государыня, здравствовать Вам мы все желаем… Урод наш очень занемог… Как бы сего дня или ночью не умер".
В дом, где удерживали арестованного императора Петра ІІІ, Алексей Орлов да еще группа именитых гостей, приехал с просветленным и улыбающимся лицом.
– Мы привезли очень хорошую новость, – с порога сознались гости заключенному. – Вас вскоре освободят.
По поводу ожидаемой свободы пригласили Петра ІІІ на трапезу. Все шутили, смеялись, между тем камердинера Брессана вытолкали за дверь, а Орлов незаметно для императора в бокал подлил заготовленный предварительно доверенным врачом яд.
После первого бокала налили во второй раз, но немилосердная внезапная боль подтолкнула Петра ІІІ к догадке.
– Мало того, что мне мешали вступить на шведский трон и украли у меня русскую корону, – произнёс император, едва сдерживая судороги. – У меня еще хотят забрать в придачу жизнь.
Играть в прятки дальше уже не понадобилось: на императора набросились вместе и стали душить подушкой. Тот отбивался отчаянно, но силу неумолимо отбирал яд. Сообразительный Баратынский из салфеток сделал петлю и накинул на шею императора. Петр Федорович силился вырваться, но уже напрасно, его крепко схватили за руки и ноги, а сержант гвардии Энгельгардт затянул петлю на шее.
Тело императора дернулось несколько раз, сопротивляясь смерти, и мгновенно обмякло, и затихло навек.
– Коней! – крикнул Орлов, налил себе еще полный бокал и на сером и грязноватом листке бумаги, который подвернулся под руку, стал быстро писать: "Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось. Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готовь итить на смерть. Но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руку на Государя – но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не сумели мы разнять, а его уже не стало, сами не помним, что делали, но все до единого виноваты – достойны казни, помилуй меня хоть для брата; повинную тебе принес и разыскивать нечего – прости или прикажи скорее окончить, свет не мил, прогневали тебя и погубили души навек!".
В тот же день государыня Екатерина, как писал современник событий, секретарь французского посланника Рюльер, садилась за стол со своими приближенными "в отменной веселости". Среди оживлённой беседы вдруг вбегает Орлов: растрепанный, вспотевший и запыленный, в разорванной почему-то одежде. Государыня, увидев его, молча встала и пошла в кабинет, куда и направился Орлов. Через несколько минут был призван также граф Панин.
– Государь умер. Как известить об этом народ? – без предисловий спросила Екатерина.
– Нужно переждать ночь, – после размышления ответил граф, не очень удивлённый, судя по его невозмутимому лицу. – Только утром.
Все вернулись на места, и обед длился так же оживлённо и весело.
А утром столицу всколыхнула грустная новость – его Величество император Петр ІІІ умер, как сообщалось, от "геморроидальной колики".
Графа Орлова брала желтая и раздражительная злоба на Арсения Мациевича не только за то, что вслух выдал тайну недавнего изменения хозяев престола, а злоба, желтая и жгучая, даже сыпь какая-то на теле появилась, переполняла больше всего на человеческую неблагодарность. Он с братом головы свои мог положить, если бы по-другому жизнь вывернулась – у императора Петра свои сторонники не дремали. Петр таки успел ликвидироватьтакую нужную для трона Тайную Канцелярию (слава Богу, императрица восстановила, только имя предоставив новое – Тайная экспедиция), позволил за границу выезжать свободно, суд гласный обещался (но дудки, не успел) завести… Всякое случиться могло, и тогда бы голова его и брата, отскочив от топора палача, катилась бы, подпрыгивая и брызгая еще не загустевшей кровью, под крики и восхищённое улюлюканье к ногам жаждущих зрелищ зевак.
…В коротком перерыве суда Орлов холодным, как водокрещенский лед, голосом только и сказал императрице:
– Он сам себя лишил права жизни.
– Там он Димитрию говорил о языке, – Глебов крутнул головой, ослабляя воротничок, потому что стал тот почему-то тесноватым. – Но если его собственный язык способен будет хотя бы шевелиться, то еще и не такое наговорит…
Императрица молчала – жизнь научила ее быть весьма осмотрительной. Она, наконец, хотела опомниться, приобрести хотя бы какое-то душевное равновесие, потому что сердце еще бухало в груди от перенапряжения, и в висках шумело, будто затяжной за окном тоскливый дождь…
5
Императрица Екатерина не обиделась на митрополита за "любовников", разве что где-то в душе сама себе горделиво улыбнулась – такое наслаждение и блаженство старому Мациевичу уже даже и не приснится… Она даже на маковое зернышко не могла винить себя, что ее отношения с мужем так изменило неумолимое время. Вспыхнувшая любовь в ранней юности согревала обоих, от пламени той любви весь мир казался розовым, и такой же розовой виделась даль лет – когда заболела, то Петр не плакал, а быстрее рыдал, не кроясь ни от кого и по-детски размазывая ладонью на лице слезы. Со временем любовь заменила обычная дружба, которая переросла незримо в безразличие, впоследствии в настороженность, еще впоследствии потянуло к чужим мужчинам, как после долгого употребления пресного и постного, захотелось ей до невозможности ароматного, нежного, просто тающего во рту, жаркого.
От Григория Орлова забеременела врасплох, почему-то не подозревая, что понесла, а когда поняла, то уже было поздно. Беременность легко и непринужденно скрывалась под пышными платьями и причудливыми кружевами и выкрутасами придворных нарядов. А когда взяли первые схватки, то хуже боли терзало разоблачение.
Ей повезло, первые крики услышал лишь верный слуга Василий Шкурин, для которого беременность не составляла тайну; по глазам Екатерины он все понял, потому что не только отзвук потуг, которые корчили тело, усмотрел,– в первую очередь, засветился в глазах и все сильнее становился испуг, мгновенно перерастающий в страх загнанного животного, непосильный такой, неподъемный до немощи страх.
– Не пугайтесь… Все будет хорошо, я все сделаю, – неожиданная выдумка пришла в голову Шкурину, и он метнулся к двери. – Я все сделаю, – закинул уже из порога, – может, меня и не забудете…
Екатерина и ведать не могла, куда так прытко погнал слуга, ей уже было все безразлично – боль схваток чередовалась с не менее жгучей в изможденной душе болью ужасной и недалекой такой уже будущности. Неумолимо надвигалась катастрофа всей ее жизни: муж, с его характером, быстрее всего пострижет ее в монахини, ребенка бросят в тюрьму, как уже бросили Ивана Антоновича, Гришка ее, милый и любимый Орлов, наверное, будет казнен. И опять вздрагивает тело в схватках, крутит немилосердной судорогой, и еле, из последней силы удается в себе задушить крик роженицы.
И вдруг в окнах сверкнуло, отсвет красный замигал оконными стеклами, и Екатерина выглянула на непонятное сияние.
Горел дом камер-лакея Шкурина, который не так уж и далеко был от дворца. Огонь выхватывался из окон, поднимался стремительно вверх, словно пробуя раз и во второй раз лизнуть крышу, и вот полностью все здание полыхало, потрескивало и сыпало сердитыми искрами в небо…
В соседних покоях поднялся тревожный гул, все выбегали, одни спешили для спасения, другие просто из любопытства, и никому не было дела до неё – муж тоже поспешил на пожар, потому что из-за такого огня пол-Петербурга могло испепелиться.
А вскоре на пороге опять появился Василий Шкурин.
"Вон куда погнал он, – радостная догадка, которая снимала камень с души, промелькнула молнией у роженицы. – Камер-лакей поджег свой дом".
– Все хорошо, – на чумазом от сажи лице светились в улыбке зубы. – Теперь я бездомен…
Родильница, к счастью, освободилась быстро, младенца, хлюпая едва теплой водой, обмыли и завернули в бобровую шубу.
– Как назовете ребенка? – спросил все еще неумытый и сияющий Шкурин.



