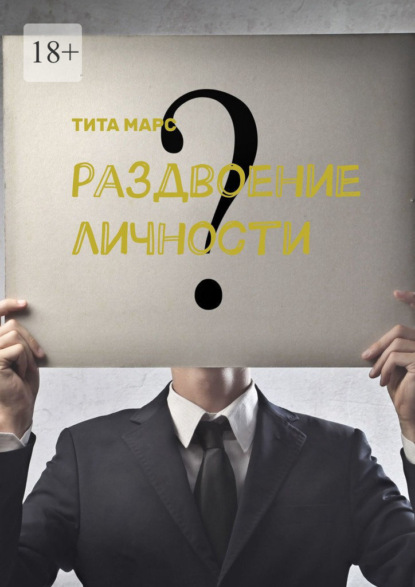Полная версия:
Тита Марс Тита Марс Сосед
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сосед
Тита Марс
© Тита Марс, 2025
ISBN 978-5-0068-2888-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
Пять пакетов. Один с продуктами, а другие с новой одеждой. Поход по магазинам простое дело. А вот донести все до тринадцатого этажа уже сложнее. Об этом подумала Кира, как только вышла из машины и подошла к подъезду. С ее ростом и массой пять пакетов казались непосильной ношей. Невысокая, худенькая. Симпатичная девушка с голубыми глазами и рыжими волосами, собранными в хвост отражалась в зеркальной двери подъезда. Надо было надеть кроссовки, и джинсы, а не туфли и юбку с блузкой.
Эх! Ну ладно. Придётся справляться.
Кира вздохнула и вошла в подъезд. Вышло не очень удачно. Труднее всего было открывать дверь. Один пакет всё-таки упал, и Кира стала его поднимать. Остальные пакеты посыпались следом. Кира кряхтя, стала их собирать. Затем подошла к лифту и стала пытаться на кнопку вызова. Носом. Так как руки были заняты.
И тут вновь пришлось огорчиться. Лифт не ехал. Кира топнула ногой от злости и снова попыталась вызвать кабину.
– Он не работает! Я проверял!
Кира повернулась и выглянула из-под пакетов. Рядом с ней стоял молодой высокий симпатичный парень. Брюнет с зелёными глазами. Вытянутое лицо квадратный подбородок впалые щёки и добрая улыбка. Хотя Кире показалось, что он немного грустный. Одет в обычную чёрную футболку и джинсы. Ничего особенного. Но все равно он был симпатичным. Проглядывались греческие черты.
– И как давно? – спросила Кира. – Как давно лифт не работает?
– Примерно часа два, – ответил он. – А вы на, какой этаж собираетесь?
– На тринадцатый! Проклятие! – он вновь топнула ногой. – Новый дом, а лифт не работает уже не первый раз. Надо было брать квартиру ниже!
– Уверяю, что мало бы помогло, – с улыбкой произнёс парень. – Только если это первый или второй этаж.
– А вы на, каком этаже живёте?
– На двенадцатом.
Кира напрягла память. Она знала всех, кто живёт в этом подъезде. Этого парня она не помнит.
– Странно. Я что-то вас здесь не видела. Дело в том, что я знаю всех соседей. А вы… – она посмотрела на него с подозрением. – Я вас здесь не видела.
– Возможно, потому что меня здесь раньше не было. Я Макс Краснов.
Краснов. Краснов…
А-а-а-а-а.
– Вы, наверное, живёте с Соней. Соней Красновой, – предположила Кира. Краснова в подъезде одна. – Так?
Макс как то помрачнел и замялся.
– Да. С ней. Она моя жена.
Кира взглянула на его правую руку. Кольца на пальце не было. Но может он его снял. Во всяком случае, честно сказал, что женат.
Эх! Как всегда! Встретишь красивого парня, а он женат.
– Понятно. Я Кира Маслова. Получается, живу над вами.
– Ну, теперь, когда мы разобрались что я не вор то…
– Я не считала что вы вор! – прервала его Кира. – Я просто сказала, что вас не знаю. Но ничего о чем вы сказали Максим, я не даже не подумала.
– Подумали.
– Нет!
– Да!
– Нет! Я всегда говорю правду.
Максим засмеялся и махнул рукой.
– Ладно. Не буду спорить. Давайте Кира я лучше помогу вам донести пакеты. В знак уважения к вам и вашей честности, – предложил Максим. – Или вас есть, кому встречать?
– О нет! Меня никто не встречает. Я живу одна. И да. Ваша помощь была бы кстати.
Максим взял у нее три пакета и отправился на верх. Кира поплелась следом. Стук ее каблуков был слышен на весь подъезд. Пока поднимались, Кира мысленно вспоминала Соню. Жену Макса. Красивая блондинка. Правда, немного истеричная. Ее одежда всегда вызывала много вопросов. Кира ни разу не видела на ней приличных нарядов. Все короткое откровенное и в обтяжку. А еще Кира вспомнила одну вещь и даже остановилась ненадолго. Она видела не один раз, как к Соне приходил другой мужчина, и они целовались.
Интересно Макс об этом знает? Может надо ему об этом сказать? Вообще где он столько времени был? Соня живёт здесь два года, и я ни разу не видела с ней Максима.
– Максим извините, что спрашиваю, но где вы были все это время?
Максим вздохнул и невнятно ответил:
– В командировке.
– Настолько длительной? Простите. Это не моё дело.
– Ничего страшного. Вы задали совершенно обычный вопрос. Вот только зачем?
Они прошли восьмой этаж. Кира остановилась, чтобы немного отдышаться. А потом вновь продолжила идти.
– Ну,… Нет. Это не мое дело!
Максим резко остановился и Кира на него едва не налетела.
– Можно вам дать совет Кира? Если начали что-то говорить, то договаривайте. Чтобы потом не возникло проблем. Или когда есть, что сказать, то сначала подумайте. Сейчас вы уже начали говорить, так что продолжайте.
Он пошел дальше. Кира задумалась над тем, что он сказал, и решила что он прав.
– Просто это касается только вас и Сони. Я ни один раз видела ее с другим парнем. И они не показались мне друзьями. Собственно говоря, меня и удивило, когда вы сказали что являетесь ее мужем. Вот. Извините, – кажется, она сегодня будет причиной семейной ссоры.
Максим тяжело вздохнул.
– Как он выглядел?
Кира захлопала ресницами.
– Кто?
– Парень, с которым вы видели Соню.
– А-а-а-а-а! Высокий шатен, – Кира принялась описывать парня, – достаточно крепкого телосложения. Ну как эти… Спортсмены. Который качаются в спортзале. Немного наглый. А еще у него татуировка на правой руке была. Череп с игральными картами. Вроде все.
Кира подняла взгляд и заметила, что Макс вновь резко остановился. Его руки сжали ручки пакетов так, что костяшки пальцев побелели. Он разозлился. Не сложно было догадаться. Возможно, он узнал парня по описанию. Кира не стала спрашивать и сменила тему.
– Максим, а где вы работаете?
Максим пошёл дальше. Оставалось всего пара этажей.
– Столь важно, где я работаю? – немного грубо ответил Максим.
– Нет. Я просто хочу поддержать разговор. Не хотите, можете не отвечать, – он расстроился из-за жены. Это понятно. Особенно если ты знаешь соперника. – Я вот, например, сейчас ищу себя. Пробую в разных профессиях. Сейчас решила поработать в музее. Конечно мои познания в истории очень скудные. Но я пробую. Если не получится, найду что-нибудь другое.
– Одним словом у вас Кира нет постоянной работы.
– Нет, – Кира не видела в этом ничего страшного. – Важно определиться, кем ты хочешь, чем всю жизнь заниматься не любимым делом. Вы со мной не согласны?
Они наконец-то поднялись на тринадцатый этаж. Максим пропустил Киру вперед, так как не знал именно ее квартира.
– Не знаю. Возможно, вы правы. Я вот только недавно осознал, что был не на своём месте, – он поставил пакеты возле двери, которую стала открывать Кира. – И теперь понятия не имею что делать.
Кира открыла дверь и повернулась. Встретилась с Максимом взглядом и поняла, что он действительно не знал, что ему делать. Грустный взгляд и натянутая улыбка.
– Надо двигаться дальше. Не останавливаться. И ни в коем случае не опускаться ниже. То есть если раньше вы, к примеру, менеджером то надо теперь стать директором. И не обязательно на той же работе. Вы понимаете?
– Кажется да. Понимаю. А вы хороший собеседник Кира.
– Просто Кира, – улыбнулась она. – Не надо этих официальностей.
– В таком случае я просто Макс, – он протянул ей руку. – Рад был познакомиться.
Кира посмотрела на его протянутую руку и заметила, что та немного дрожит. Такое ощущение, что он боялся, что она не станет ее пожимать. Кира не знала, почему он этого боялся. Просто протянула свою руку в ответ. Рукопожатие состоялось. По телу словно пробежал ток.
– Чтож… Спасибо, что помог Максим. – И удачи. Поскольку мы соседи то ещё встретимся.
– Обязательно, – улыбнулся ей Максим. – И спасибо за честность.
Кира кивнула и скрылась в своей квартире.
***
Максим перестал улыбаться, как только дверь за девушкой закрылась. Не потому что она ему не понравилась или что-то сделала. Напротив. Кира показалась ему довольно приятной. И самое главное открытой. Говорила то, что думает. Это лучше чем постоянная ложь.
А еще она была симпатичная. Он специально пошёл вперед, что не смотреть на ее ноги. Ему сейчас не до этого. И у него была жена. Хотя кажется это уже не на долго. Он не видел Соню три года. Ехал домой в надежде, что она его всё-таки ждёт. Видимо это не так.
Макс спустился ниже на этаж и постучал в свою дверь. Именно в свою. Квартира принадлежит ему. Конечно, он мог открыть ее ключом, но предпочёл подождать. Хотел увидеть реакцию жены на его приезд.
Несколько минут и послышались шаги и голос Сони.
– Иду-иду. Секунду.
Дверь открылась и перед ним возникла его жена. За три года она нисколько не изменилась. Высокая блондинка с пышной грудью. Разве что она, кажется, накачала губы. Она стояла в синем полупрозрачном халатике и удивлённо хлопала ресницами. Никакой радости на ее лице Макс не заметил.
– Привет, – сухо произнёс он. – Любимая. Я вернулся.
Глаза у Сони округлились до предела. Она точно его не ждала.
– Макс, – выдавила она из себя. – Ты вернулся? То есть,… Конечно, ты вернулся, – Соня отступила, назад пропуская его в квартиру.
– Да, – он вошел и закрыл за собой дверь. Снял обувь и пошёл дальше. – А ты я вижу не очень рада меня видеть.
– Нет! Почему? Очень даже рада, – она последовала следом. – Почему ты не позвонил? – Соня натянула улыбку и попыталась его обнять.
Макс не оценил этого жеста и убрал ее руки со своей шеи.
– Хотел сделать сюрприз, – сухо ответил он. – И, кажется, он удался. Скажи в этом наряде ты ходишь постоянно или по определённым обстоятельствам? К примеру, когда кого-то ждёшь.
Глаза девушки забегали из стороны в сторону. Она сцепила руки в замок и стала нервно щёлкать пальцами.
– Это новый халат и я просто решила его померить
Вот она ложь. Макс даже усмехнулся и прошел в спальню. Как он и думал, здесь были мужские вещи. И точно не его.
– Теперь мне понятно, почему за все время ты мне ни разу не написала, – он посмотрел на зелёную футболку, лежащую на стуле. – Сначала я думал, что ты просто не можешь смириться с тем, что произошло. Ехал сюда и надеялся на разговор. Что ты меня обнимешь, заплачешь от радости, и все станет как раньше. Видимо я ошибся. Ты ни разу не написала только потому, что у тебя были занятия поинтереснее.
– Макс… – Соня поняла, что дело плохо и пыталась придумать оправдание. – Макс я действительно очень переживала из-за всего.
– Поэтому сразу прыгнула в постель Ромке. И не надо так смотреть на меня! Я все знаю, – сказал он с полной уверенностью. – Вы бы хоть не встречались так открыто. А то все соседи про вас знают.
Соня открыла рот, а потом закрыла. Заходила из стороны в сторону, а потом только заговорила с нескрываемым недовольством:
– Это та коза сверху! Верно? Это она тебе все рассказала!
Макс был в шоке. Эта женщина даже не пыталась оправдаться и накинулась на того кто ни в чем не виноват.
– Какая разница кто и что мне рассказал? – Макс подошел к жене. – Ты дрянь Соня. Самая настоящая. Пока я отбывал срок, ты кувыркалась с моим другом. Бывшим другом теперь. В моей квартире.
Тут Соня не выдержала и превратилась в настоящую злую фурию.
– А что мне было делать? Тебя посадили. Я осталась одна. Все счета были заморожены. На что я должна была жить?
– И тут рыцарь Ромка появился как по волшебству! – ядовито заметил Макс. – Спас бедняжку. А может, надо было просто пойти работать? Ты знала, что мое заточении временно.
– Нет. Не знала. Ты… – Соня замолчала, поняв, что сейчас наговорит лишнего и уже тогда точно ничего исправить. А этого допустить нельзя. Макс вернулся, а это значит, все его счета теперь разморожены. Соня сразу сделала виноватое выражение лица и подошла к мужу. – Максик! Ну, прости меня, пожалуйста! – обычно это срабатывает. – Мне было так одиноко. Я была не в себе. Я очень виновата. Прости меня, пожалуйста.
Макс смотрел на все это представление, и думал, какой же он был идиот, когда женился на ней. В этой кукле нет ничего настоящего. Даже эмоций. В голове все мысли только о деньгах. Ради них она готова на что угодно.
– Мне вот интересно, а если я скажу тебе лаять, ты станешь это делать? – с усмешкой спросил Макс.
Соня слегка отстранилась. Непонимающе на него посмотрела, а потом ответила:
– Я сделаю что угодно! Ведь я виновата. Макс…
В дверь постучали. Макс даже вздохнул облегчённо. Хоть какое-то спасение от этой.… Не хотелось выражаться. Макс пошёл открывать.
На пороге стол тот, кого на самом деле сегодня ждала его жена. Бывший друг и нынешний любовник жены. Ромка. Собственной персоной. И надо сказать он тоже был удивлён увидеть Макса. Даже очки солнцезащитные снял.
– Макс?! Ты?! – прохрипел Ромка, пряча бутылку вина за спину. – Но как?! Ты же…
– Кажется, я действительно вернулся не вовремя, – Макс сверлил друга холодным взглядом. – У вас я так понял свидание. Отлично! Ром только потому, что я первый день на свободе не стану тебя бить. Хотя не только поэтому. Эта кукла того не стоит.
– Макс! – Ромка вошел в квартиру. – Я могу все объяснить. Мы с Соней…
– Не стоит Ром! Не надо. Она, – Макс кивнул в сторону жены, – мне и так все в подробностях рассказала. Как ты ее утешил, пока я был за решёткой.
– Макс! – Ромка вновь попытался оправдаться. – Это не то, что ты подумал.
– Заткнись! – грубо прервал его Максим и подошёл к жене. – А ты… Я ведь сел из-за тебя. И так подло поступить.
– Максим…
– У тебя сутки чтобы съехать с моей квартиры, – металлическим голосом произнес Макс. – Я подаю на развод, – он направился к выходу. По пути остановился рядом с Ромкой. – А ты не стой. Помоги этой курице собраться. Она теперь ведь твоя, а значит, ты должен носить ее чемоданы. Вперёд!
Максим вышел из квартиры и бегом спустился вниз. Ему хотелось, как можно скорее выйти на свежий воздух пока он не сорвался и не испортил себе первый день свободы. Драка ему точно ни к чему.
***
Вечером Кира решила отправиться на пробежку. Она делала это каждый раз, когда погода позволяла. Надела спортивный костюм и спустилась вниз. Пробежала обычный маршрут и вернулась обратно. Начинало уже темнеть. Людей становилось все меньше.
Подбегая к подъезду, она заметила на лавочке знакомую фигуру. Макс. Он лениво сидел на скамейке и курил сигарету. Кажется не первую.
– Привет, – поздоровалась Кира.
Максим поднял на нее взгляд и сделал затяжку. Красивая девушка с добрыми глазами стояла рядом с ним. Но эта девушка не для него. После всего, что с ним произошло. Не стоит ей портить будущее, общаясь с ним.
– Привет, – поздоровался Максим. – Вышла погулять?
– Вечерняя пробежка, – улыбнулась Кира. – А ты тоже решил выйти погулять?
– Я гуляю уже… – он посмотрел на часы. – Весь день.
Кира сразу заметила, что он поник и снова нервно закурил. Обычно гуляют весь день, когда домой идти не хочется. В его случае это означает проблемы дома. И скорее с женой.
Кира не стоит в это лезть. Не надо. Пожалеешь. Блин!
Сейчас она была на распутье. Пойти домой и ничего не сделать или остаться и поддержать. Все расспросить и может помочь.
Она приняла первое решение.
– Ясно! Но спокойно ночи, – она направилась к подъезду. Но остановилась возле двери и сразу вернулась обратно. Села рядом с Максом и спросила: – Что произошло? Это из-за Сони ты тут один сидишь?
Макс бросил окурок в урну. Ну, вот чего она спрашивает?
– Да. Мы решили разойтись. Я решил. Причина простая – она меня не дождалась.
– И ты решил уйти сам! – догадалась Кира.
– Нет. От чего же? Это моя квартира. А Соня она всегда жила за мой счет. Я просто дал ей сутки, чтобы собраться. Переехать. Правда я не видел, чтобы она что-то перевозила, – он все время находился не далеко. Ходил за сигаретами и вокруг дома.
– А что помириться…
– Нет! – отрезал Макс. – Я предательство не прощаю.
Ну, в принципе я тоже.
– И что? Ты вот так будешь сидеть здесь всю ночь?
– А почему нет? – Макс посмотрел на звездное небо. – Сейчас тепло. А я привык выживать в самых суровых условиях.
Кира сразу вскочила на ноги. Ее доброта, когда нибудь ее погубит. Но она не могла оставить человека на произвол судьбы. На всю ночь.
– Нет! Так не пойдёт. Ты ни в чем не виноват. Это она должна ночевать на улице.
Макс удивлённо посмотрел на нее и невольно улыбнулся. Сейчас Кира была похожа на воинственную женщину с копьем, которая рвалась в бой.
– Кир ты чего?
– Ничего! Это не правильно. Ты вернулся к себе домой и обнаружил.… Не важно. В общем, вставай и пошли.
– Куда?
– Ко мне. Поспишь со мной.… То есть у меня. Короче в моей квартире. У меня три комнаты, так что ты меня не стеснишь. Идем.
– Нет, – такое приглашение добром не кончится. – Я не пойду! – отрезал Макс.
– Нет пойдёшь. К тому же ты, наверное, ничего не ел с дороги. Устал. Я тебя накормлю. Пошли!
Макс сопротивлялся всеми силами.
– Кира ты ничего обо мне не знаешь. Как можно вести незнакомого парня в дом?
– Ты сегодня помог мне донести пакеты, а я помогаю тебе не замёрзнуть.
– Кира это разные вещи.
Вот же упрямый!
– Если тебя это успокоит, то я владею навыками борьбы, – это была почти правда.
– Прямо как профессионал? – Макс вспомнил про ее поиски себя.
– Ну,… почти. Максим пошли уже. За ужином познакомимся поближе. У меня там дома котлеты.
Макс хотел отказаться, но тут его желудок предательски заурчал. Да. Он действительно целый день ничего не ел.
– Кира я не думаю что это хорошая идея.
– Так! Хватит! – Кира взяла его за руку и потянула за собой. – Ты ночуешь сегодня у меня! Меня с детства учили, что людям надо помогать. Так что идём.
Знала бы она кто он, то была бы другого мнения. Но Максим не мог больше сопротивляться и поэтому сдался.
Они поднялись на тринадцатый этаж. Благо лифт уже починили. Кира открыла квартиру и впустила Максима. Скинула кроссовки и побежала на кухню греть ужин.
– Макс ты располагайся. Я пока все разогрею.
Макс снял обувь и прошел в гостиную, внимательно рассматривая обстановку. Судя по вещам, девушка действительно жила одна. Только женские вещи. И кажется, у нее сегодня был показ мод. Одежда лежала на диване, на стульях и даже на двери. Да! Она определённо любит примеряться.
– Макс! – позвала Кира. – Все готово.
Макс пошел на голос. Кира, кажется, обладала большим количеством талантов. И первый это умение быстро накрывать на стол.
– Ого! – Соня его никогда так не встречала. На столе был нарезанный овощной салат котлеты с макаронами хлеб и разные соусы. – Ты что ограбила ресторан или у тебя есть волшебная палочка?
– Ни то ни другое, – ей было приятно услышать похвалу в свой адрес. – Я просто всегда много готовлю. Папа иногда заглядывает. Ну, или.… Вообще люблю готовить. Садись, – пригласила она его за стол. Сама села ближе к плите.
Макс чувствовал неловкость. Ужинает у малознакомой девушки.
– Кира ты потрясающе готовишь, – похвалил он ее через некоторое время. – Спасибо. Теперь я буду точно хорошо спать.
– Я рада, что тебе понравилось. Теперь пошли, покажу твою комнату на сегодня.
Она отвела его в свободную спальню. Она была просторная и вся в светлых тонах. Вообще квартира вся отделана во все светлое.
– Можешь спать здесь. Душ прямо по коридору. Что ещё? – она задумчиво посмотрела по сторонам. – Эм… Вода еда ты знаешь где. Если что я у себя в комнате. Ну, все! Не буду тебе мешать отдыхать.
Она собиралась уйти, но Макс ее остановил.
– Кира, почему ты это делаешь? Ты за ужином ничего у меня не спросила. Кто я и что я. Вдруг я опасный преступник или маньяк? Неужели тебе не страшно оставаться одной в квартире с незнакомцем?
– Нет, – легко ответила Кира. – Будь ты опасен, то давно бы это проявилось. И человек должен сам хотеть о себе все рассказать. Помогать людям это по человечески. Спокойно ночи Максим.
Кира ушла к себе в спальню. Закрыла за собой дверь и упала на свою кровать. Наверное, она сошла с ума! Привести в дом незнакомого человека. Папа если узнает, будет читать ей лекцию целый день.
Да брось Кира! Ничего он не узнает!
Глава
Кира проснулась от громкого стука в дверь. Стучали так, словно хотели вынести ее. Что б тебя! Сегодня же выходной.
Зевая и пытаясь прогнать сон, Кира пошла открывать. Как только это произошло, в квартиру влетел ее отец. Маслов Виктор Николаевич. Высокий лет пятидесяти мужчина. Подтянутый и в то же время немного растрёпанный. Его полицейская форма была немного перекошена. Сам он был взволнованный и вспотевший. Да. Ее отец работал в полиции. Полковник.
– Пап что случилось? Вообще-то сегодня выходной, – Кира зевнула.
– У тебя каждый день выходной, – пробурчал отец. – Ты лучше скажи, ночью ничего не слышала?
– Нет. Я спала? А что случилось?
Отец перестал мельтешить и наконец, остановился.
– Сегодня ночью в квартире, которая находится под твоей, убили человека. Соню Краснову. Твою соседку.
Кира сразу проснулась и во все глаза уставилась на отца.
– Не может быть!
– Может. Там весь пол в крови. Даже к соседям просочилась. Я знаю, что вчера вернулся ее муж. Мне соседи рассказали. Предположительно это мог быть он.
– Нет! – тут же ответила Кира. – Это не он.
– Откуда такая уверенность? – отец подозрительно посмотрел на дочь. – Ты что-то знаешь?
– Да. Это не Макс.
– Макс? Кира, откуда тебе известно его имя?
– Очень просто! Я познакомилась с Максимом, когда он помогал мне донести пакеты. А ещё это не от, так как он ночевал у меня! – если не ушел, конечно.
– Чего? – у отца глаза на лоб полезли. – Ты это на ходу, что ли выдумала?
– Она ничего не выдумала полковник, – заступился за Киру вышедший из спальни Максим. – Максим Краснов. Я всю ночь провёл в этой квартире. Вчера мы с женой решили расстаться. Я дал ей сутки, чтобы переехать и ушел. Кира вечером предложила мне переночевать у нее. Вот и все.
Полковник посмотрел сначала на дочь, а потом на Краснова. Переводил взгляд снова и снова. Пытаясь понять, снится ему это или нет.
– Пап хватит уже! – Кире это надоело. – Тебе все объяснили.
Полковник схватился за голову, а потом подошёл к дочери.
– Вы что с ним… – он стал изображать руками подобие секса.
– Нет! Пап прекрати! Это уже слишком! Мы спали в разных комнатах. И вообще я уже взрослая!
Полковник схватил Киру за руку и оттащил в сторону.
Ну, все! Сейчас начнётся!
– Кира ты с ума сошла?!
Ну вот! Я же говорила!
– … Ты хоть знаешь, кого привела домой?
– Нет! А что? На мой взгляд, Макс нормальный парень. И вообще у него психологическая травма. Ему жена изменила.
– Тем больше вероятность, что он ее убил, – прошипел Виктор, жестикулируя руками. – Это мотив!
– Нет. Пап я говорю, что это не он, – отец иногда начинает перегибать палку.
– Ты знаешь, откуда он приехал вчера? – полковник старался говорить тихо.
– С командировки. И что? – Кира продолжала зевать.
– Его командировка была в тюрьме за убийство. Три года. Выпустили за хорошее поведение.
Кира покосила на Максима, который продолжал стоять в дверях спальни.
– И что?
– Кира ты глухая? Он мог снова убить человека.
– Не мог. Мы болтали всю ночь. Легли спать недавно. А ты нас разбудил. Давай я позже приеду в участок и дам показания. А сейчас можно я пойду, посплю? – Кира обошла отца и направилась к себе в спальню. По дороге остановилась и резко повернулась. – Если ты его сейчас настырно арестуешь, то я позвоню маме! Это сделал не Максим.
Кира бросила недобрый взгляд на отца, и скрылась в спальне, хлопнув дверью. Виктор топнул ногой и подошёл к Краснову.
– Полковника знаю, что вы мне не верите, – начал Макс, – но это…
– Да успокойся ты, – махнул рукой полковник. – Знаю что не ты. Просто Кира она.… Ай! Там такое месиво что.… Закурить есть?
Макс, мягко говоря, был в шоке от этой семейки. Сходил в спальню и принес сигареты. Дал закурить полковнику.
– Она что всегда такая? – Максим посмотрел на Виктора. – Так рьяно бросается защищать?
– Всегда. А ее доброта просто ошеломляет. В детстве ты не представляешь, сколько животных она домой приносила. Эх,… Ладно, – полковник немного успокоился. – Ты это.… Как только она проснется, придите в участок. Показания надо дать. Хорошо?
– Без проблем, – Макс даже спорить не стал. – Полковник если что, то к Соне вчера приходил Ромка Воронцов. Он и есть ее любовник. Он собирался помочь ей переехать.