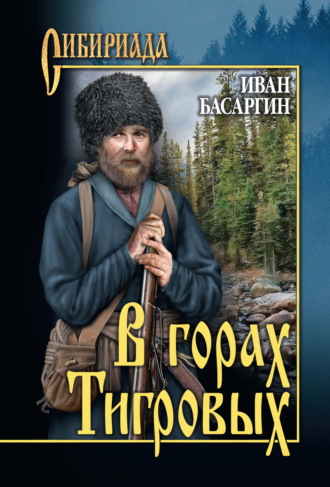
Иван Басаргин
В горах Тигровых
– Теперича те же раскольники торскают ту картошку, ажно за ушами трещит.
– Не гуни, придет наш царь – и все будет в ладах.
– Никто не придет, акромя Исуса Христа. Пугач был Вор. А секут нас праведно, чуток ума через заднее место доставляют. Ты переметчик, я же никогда не изменю своему второму крещению. А царя бунтовать – однова бога бунтовать! – визжал Ефим.
– А рази я не об этом же тебе говорил, что надо бунтовать сразу царя и бога? А потом, рази бы бунтовал я царя, ежли бы пузо мое было сыто? Пусть меня накормят, оденут, дадут в руки надею вместо посоха странника, и я буду им друг закадычный. Так же я им враг до гробовой доски! – гремел Феодосий.
– Не можно так, мы на земле гости, на Небеси будем хозяева. Кто больше мук примет здесь, тому слаще будет жисть в раю.
– Тьфу! Сколько можно говорить тебе, что царь и его ярыги давно спелись с богом и ездят на наших хребтинах, кои к животам приросли. Они сыты. Тоже пришли сюда для испытания крепости божьей? Чего же тогда не испытывают?
– Они пришли от дьявола, – не отступал Ефим. – Гореть им в геенне огненной!
– Ладно, спорить нам некогда, надо поднимать народ на бунт. Ермилу кликнуть, он подымет заводских, всех углежогов сюда, топоры, колья – и айда рушить завод, бить воров!
Но молчали углежоги. Пожимали плечами, мол, мы не супротив бунта, но домой пора, унести бы эти гроши, что заработали, за плуг, да землю подымать, – может быть, земля выручит. Чесали вшивые затылки, бороды, по одному начали расходиться.
Расползлись по своим закопушкам. Феодосий сел на пень и глубоко задумался: «А может быть, зря я зову народ на драчку? Может быть, уйти и нам с миром, а там готовить своих на переход в Беловодье? А этот люд с разных мест, пужлив. Не вытянем, зря сгинем. Э, че говорить…»
Вспомнились слова каторжника: «Велика Русь, велика! Земель край непочат, а люд голоден, космат. От ча? А от та, что царь дан народу от дьявола, а не божий он помазанник, антихристов. Вот и гнет люд, ломает, кровями его упивается, над горем надсмехается. Вампир, чисто вампир. Только праредным царем, божьим царем – можно поднять Русь…»
Не додумал своего Феодосий, приехал управляющий с казаками, приказчик. Казаки навалились на бунтаря, скрутили веревками, будто спеленали. Андрей сдался без боя. Где уж такому воевать, душой слаб. А Урал молчал. Хмурилось небо. Из-за туч трусливо выглянуло солнце и тут же спряталось. И углежоги тоже хороши, видели, как вязали Силовых, но выручать не пришли. Чужая беда, чего встревать? Уходили к своим ямам, чтобы не прорвался огонь, не испортил бы уголь.
– Ви хотель поднимайт бунт, ви будет сидет темный места, немного думайт, штраф за бунт я забирайт, потом пускайт домой. Вы помирайт не будет, вы будет потом еще уголь сжигайт.
– Не поднимали мы бунта. Никодим обманул нас, за короб платил по копейке, потом враз заплатил по три копейки.
– Никодим правильно делайт, это я ему сказаль, сколько можно платиль.
– Ежли мы сделали худо, то пусть нас судит губернский суд, а пошто же сразу-то в темницу?
– Я сам есть губернский суд, сам есть на этой земле царь. Ви не ругайтся, а проси меня, тогда суд будет лючше.
Силовых долго вели по подземелью. На голову текла вода, под лаптями тоже хлюпала вода. Привели в каменный грот, сняли наручники и тут же приковали к железным цепям.
– Ну, сынок, кажись, все. Отселева одна дорога – в могилу. Заживо сопреем.
– Бог не даст сгинуть. Будем молиться денно и нощно – и спасемся.
Андрей, чуть гнусавя, читал псалмы:
– «Да воскреснет бог и расточатся врази его, и да убежат от лица его ненавидящие. Ако исчезает дым, тако исчезнут врази его, ако тает воск от лица огня, тако погибнут грешники от лица божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются…»
– Цыц! Щанок, нишкни! И нече тута читать молитвы по усопшим, живы еще! Не выйдет из тебя ладного мужика. Сгубил тебя Ефим.
– Не хулил бы бога, то не были бы мы здесь. Все через тебя нас сюда бросили. Ладно, выпустят, а коль нет, то без отпевания и покаяния сгинем. Но надо уповать на бога, бог не забывает любящих его, а супротивников карает.
Тьма непроглядная, писк крыс, зловоние трупное, хруст чьих-то костей под ногами.
3
Крепки демидовские темницы. Запахом тлена провоняли они. Врос тот запах в серые камни, не выветрится во веки веков. Андрей пытался вести счет дням, но скоро бросил, ведь здесь не было дня, ночь и ночь. Феодосий посмеивался над сыном:
– Вначале бог сотворил землю и небо. Потом разлучил свет с тьмою. Нарече свет днем, а тьму ночью. Вот и попроси бога, чтобыть он послал сюда день. Не может? Грешники? Тогда будем терпеть и энту муку, не привыкать. На люд не обижаюсь, пуган, забит, поднять будет трудно. Уходить будем на поиски Беловодского царства. Нету средь люда той крепости, какая есть у раскольников. Те горло перегрызут недругу. А наши, э, что говорить, сгинем мы туточки. И Варюшка твоя знать не будет, где преют твои косточки.
Крысы толклись под ногами, кусались. Узники топтали их, гремели цепями, спали по очереди: могут живьем съесть. Один раз в день спускался горбун, чтобы подать узникам по плошке похлебки и снова молча уйти. На вопросы не отвечал.
Андрей, чтобы не сойти с ума, читал молитвы, теперь уже не мешал ему отец. Он тоже был на грани сумасшествия. Молитвы не читал, а крыл всех святых и грешных матюжиной, злой, сочной, набористой.
А голос Андрея журчал в подземелье, чистый, звонкий. Подземелье его удесятеряло, молитвы мощно раздавались под сводами, троились.
– Добрая у тебя душа, Андрей. Но в этом мире надо имати и злобинку. Сломят, душу загадят. Бунтовал народ не ты, а я, так пошто же ты не ругаешь меня? Грамотен ты зело. За грамотность спасибо Ефиму. Но Ефим сволочь, обучили его грамоте раскольники, бежал он от них, потом затеял войну против раскольников. Был бит, но не убит. К нам приполз. Отходили. Э, что говорить, человек веру может сменить многажды… Давно приметил. Только непонятен мне царь. Рази будет хозяин усталого быка кнутом стегать? Он, ежли бык не тянет воз в гору, то плечом подопрет, то словом подбодрит. А царь, рази он таков?
– Сокрыта от царя правда, сокрыта. Царь пребываше в темноте.
– Но ить есть бог, он все ведает, вот и вразумил бы неразумного царя.
– Вразумит, придет час, вразумит. Всех на том свете рассудит.
– М-да, рассудит. Ить чуток было сказано нашенской правды, за то темница. Ефим, твой учитель, поди, уже хлеба посеял, молится за упокой наших душ, свету радуется.
Болящий здоровому – не товарищ. А над пашнями поют жаворонки, трезвонят божьи птахи. Хорошо на пашне-то. Дух земной так и шибает в нос. Хорошо!
– Да замолчи ты, тятя! – впервые вырвался крик у Андрея.
– О, энто уже ладно, энто уже по-нашенски. Давай еще, да матом отца-то. Не бойся, не обижусь.
А вода журчит, журчит, будто ручеек в балке. С подволока звонкая капель, будто дождь прошел, скатывается она с росных деревьев. Видит Андрей во сне цветы полевые, Варю. Будто идет и идет с ней на восход солнца. Не забылось лицо Вари. А Софкино, как и сама Софка, куда-то провалилось. Эх, взяться бы за руки и через угорья убежать на Каму, а там ночь, там тихая ласка. Стонал, гремел цепью. А потом начал звучать в этой тьме Варин смех, который градинками звенел по цинковой крыше. Вскакивал, но короткая цепь тут же бросала на гнилую солому.
Пришел горбун и вдруг заговорил:
– Эх, мужики, сгинете вы тута. Одна надея на кузнеца Ермилу, он подбивает народ на бунт, чтобыть шли выручать племянника полковника Селивона.
– А как народ? – напрягся Феодосий.
– Колготится. Это же заводские, а не ваши углежоги. Эти могут заставить немца отпустить вас раньше. Не то пропадете. Были у немца сегодня посланцы от Ермилы, требовали вас, а нет, то обещали завод по бревнышку раскатать. Эти могут. При Пугаче все их деды были бунтарями. А кровя-то одни, бунтарские кровя.
– И за что он нас морит здесь голодом и тьмой? – выдохнул Андрей.
– Э, вас есть за что. Все, что было сказано Феодосием, шло в уши немцу. Вот и задумал проучить чуток говоруна. Вы еще мало здесь томитесь, на дворе лишь июль. Другие, тоже только за слова аль по наговору, так и умирали в этой тьме и вони.
Андрей заметался. В голове звон. Отец заговорил:
– Полковника Селивона здесь знает каждый старец. Богатырь был. Ростом в сажень, ручищи, как корни дуба, бородища до пояса, плечищи, что твоя лежанка. Везли его в клетке мимо Оханска, по государевой дороге, богатей совали в клетку железные прутья, кололи ножами, а он сидит себе и улыбается, боль свою врагам не показывает. Он был последним атаманом Пугачева. Погиб.
– Тятя, а ты веришь, что Пугачев был Петром Федоровичем? Веришь ли в то, что он жив и ходит средь народа?
– Нет. Пугачев был солдатом, мужиком, атаманом, но не царем. Народ хотел видеть в нем царя мужицкого, вот и набросил на себя личину царя.
– Так пошто же ты подбиваешь народ, что жив царь, что надо ждать бунта?
– А пото, что люду нужен посох, надея, чтобы дух его не охлял, душа зло копила.
– Тогда поделом мы здесь сидим.
Горбун принес еду, значит, прошел еще один день. Поставил чашки, подсвечивая фонарем, тихо заговорил:
– Немец дал указ убить вас. Убить и тела бросить в шахту. Заводские остановили завод. Затевают драчку. Но он им сказал, что вы убежали, потому не может выдать вас заводским. Даже обещал понятым, что приведет их сюда. Я должен прибрать гнилые кости, чуть угоить темницу. Такое впервые случается, когда управляющий хочет показать темницу. Знать, припекло. На завод пришел заказ – лить множество пушек, бунт тому помеха. Ловят Ермилу, но его прячет народ.
– Так, видно, богу угодно, – истово перекрестился Андрей.
– Цыц! Вогодух! «Богу угодно». Говорит человек, а ты молчи. Кто нас будет убивать?
– Как всегда – я.
– Ты? – удивился Феодосий. – Мал сокол, но тетерку бьет. Мы на цепях, чего же не убить. Счас аль чуток погодишь, пока мы помолимся?
– Я вас выведу из подземелья. Я дал богу обет, после того как меня заставили убить бабу, что больше никого не убью. Душу после того надорвал. А красивущая была, и не обсказать. Немец мне верит – больше, чем себе, знает – приказ выполню. А бунт все же будет. На земле, ежли вы заметили, что капели нет, стоит страшная сушь. Будет большой мор, много будет бунтовать народ.
– Добре, значит, квашня забродит?
– Должно.
– А когда тесто пойдет через край?
– Со дня на день. Повертайтесь, цепи отомкну. Уходим тотчас же. Прознают, то сгинем. – Ты снова вернешься к немцу?
– Да, чтобыть вот таких бедолаг, как вы, спасать.
– Пошто же сразу не помог бежать?
– Такое дело, – замялся горбун. – Шибко уж красивущ Андрей-то. Зависть душу заполонила. Его может каждая полюбить, а меня кто? То-то, – с надрывом заговорил горбун. – Хотел видеть его смерть, на костях его постоять ногами, был, мол, красив, а вот я топчу твои кости. Бог сподобил меня, отвел лихую зависть, а потом, обет, данный богу, надо сполнять. Пошли, нечего тут сусоли разводить.
Снова вел их горбун по гулкому подземелью. Это были старые шахты, местами завалены, но горбун обходил завалы, дорогу знал. Вел долго. Впереди полумрак – значит, скоро выйдут из подземелья, а там солнце, там жизнь, а не этот мертвящий холод подземелья.
– Постоим, теперь нас никто не догонит, ежли кто и хватится. Пусть ваши глаза пообвыкнут, можете ослепнуть, – ровно говорил горбун. – Тяжек крест палача. Буду праведным. Пошли. Выход рядом.
Силовы осмотрелись, едва узнали друг друга: на плечах лохмотья, изопрели в сырости, глаза провалились в глазницы, косматы и серы.
Вышли наверх. Задохнулись от сухого воздуха, зажмурились от слепящего солнца, упали в травы, впились руками в землю, прослезились. Встали, низко поклонились горбуну, он махнул рукой, сказал:
– Не тому кланяетесь, не бог я и не поп, а убивец. Ходите! Пройдете вон тот лесок, выйдете на тропу, там есть пещера, чуток отдохните, вота вам по куску хлеба, а оттуда выходите на тракт государев и топайте домой. Да ночами старайтесь идти. Могут схватить казаки. Они счас частенько бегают по дорогам, богатых грабят, бедных убивают. Это у них тожить в кровях. – Нырнул в подземелье, будто в преисподнюю ушел.
4
Теплынь июльская разлилась над горами. Голубели они, вершины их сливались с небом. Жарища. Свернулись в трубочки листочки на деревьях, поникли травы, замолкли голоса птиц, даже ветер – и тот где-то спит в прохладном ущелье.
Идут Силовы, уже днем идут, близок свой дом, чего же таиться, смело идут, так же смело смотрят людям в глаза, не пытаясь прикрыть свою наготу. Хмурится Феодосий при виде чахлых хлебов. Трогает руками землю, натрескалась она, как обветренные губы. А это уже большая беда, свалит она мужиков, сомнет. Была у Феодосия надежда на хлеба – рухнула. Он верил, что выберемся из темницы. Почему? Такое трудно объяснить даже Феодосию. В силу, может быть, свою верил.
Сотни рек вбирает в себя Кама-река. Сотни. Сотни бед текут с ней рядом. Сотни. Жалок и беден пермяцкий народ. Жалок и скуден хлеб бедняка, но и тот у него отбирают. Власть, она все может. Может быть, поэтому и ленив и безлик пермяк – сколько ни майся, а толку мало, сколько ни ломи спину, а все голодно. Махнет рукой, плюнет на все и пропьет жалкие гроши в грязном кабаке.
Есть небольшая разница среди этих мужиков: одни крепостные, другие казенные. Крепостные еще в большей неволе живут. Казенным вроде чуть легче. Казенные, или государевы, люди даже чуть гордятся этим, казенный может назвать себя «вольным». А что та воля? Те и другие живут на мякине, так же жгут уголь, пашут чужие земли, так же злы и лохматы. Воля у них не длиннее заячьего хвоста. Конечно, государев человек может зиму на печи пролежать, считая тараканов, но придет срок платить подать – плати. Нет – на лавку, под розги.
А розги на Руси – добрые розги, березовые розги, ладно пропарены да просолены… Скоро не обсмыкаются. Крепкие розги. И бог с ними, с розгами, – стерпел бы пермяк, если бы после розог долги прощались. Не прощаются долги, они переходят из поколения в поколение. За долги уводят последних коровенок, выгребают последние зерна пшеницы, ржи, а порой и портки снимают. Царь и портками не брезгует. А самых ярых задолженников – в Сибирь. Там одумается, оклемается, сбросит с себя пермяцкую лень. Но лень ли?..
Розги, розги. От них и злоба и позор в душе. Но иной строптивый мужичонка, которому все нипочем, вскинет бороденку и скажет:
– Тхе, розги! Эка невидаль! Русь на сто рядов бита и сечена, потому позора в том не вижу. Знамо, телу чуток больно да душе душно, а так жить можно. Человек, ить он ко всему привыкнет, дажить к петле, чуток побрыкался – и привыкнет. Ниче, привыкать надыть, но и забывать об энтом нельзя.
– Верна-а, – протянет мужичина, поднимаясь с лавки, подтягивая портки, – нелеченый конь язвами исходит, а мужик памятью да злобой. Позора, и правда, в энтой сече нету, пусть будет сумно тем, кто сек нас…
Вот и лечили свои души мужики случайными бунтами, драками, а после этого снова ложились на лавки. А знали, когда затевали бунт, что сечены будут. Но бунтовали.
А богатей, что со стороны наслаждался поркой, тоже скажет:
– Розги – дело пользительное, без них не устоять Расее! Не устоять! Потому порите, шибче порите, чтобы крепко стоял трон царский. Вон, ежли бабу не бьешь, то она думает, что не любишь. Бабу люби, как душу, но и тряси, как грушу. В пятницу бей, а в субботу в печи парь. Тогда она будет мила и покладиста. Так и мужика-нерадивца.
И всему виной подать. Она камнем висит на шее мужика. От нее кровавые мозоли на плечах, спина кровава, душа тоже кровью исходит. Есть с чего: царю курочку, а мужику – репу, и той не вдосталь.
Подать…
С болью в душе смотрел Феодосий на иссохшую землю, на седину в травах, на рыжие хлеба, что едва завязали колос и начали засыхать. Вон и сороки, вороны приутихли, не гомонят, не кричат, тоже млеют от жары, сидят на деревьях с широко раскрытыми клювами, ловят прохладу. Осыпается средь лета листва с деревьев. Горит земля. Падал Феодосий на эту землю, вгонял ногти в нее, чуть волком не выл. Проклинал все на свете. А что толку? Из проклятий дождь не родишь.
Горел костерок в ночи, гнал от себя черноту ночи. Подранком сидел у костра Феодосий. Андрей безмятежно спал. Слезы текли по щекам старика, прятались в густой бороде. Рыдал, молча рыдал, рыдал зло, от безвыходности рыдал. Жизнь свою распроклятущую оплакивал. Уронил на грудь бороду-лопату, тяжело задумался. Было с чего. Долгов стало еще больше. Деньги немец отобрал, едва жизни не лишил. Только сейчас Феодосий начал понимать, как рядом ходила смерть. Отвел горбун. Не слышал Феодосий шорохов ночи, даже робкого говорка ключика не слышал, весь ушел в себя, в свои тягостные думы. Сидел, похожий на камень-валун, глыбаст, неотесан. Костер чуть притушил звезды. За костром чьи-то шаги, тихие, вкрадчивые. Но Феодосий даже головы не повернул. Грабить, а что у них грабить?
Человек вырвался из темноты. На плечах армяк, в разбитых лаптях. Этот грабить не будет, даже если есть что.
– Мир и почтение кругу сему! О, старые знакомцы! – воскликнул бродяга.
– А, это ты, каторжник! – устало бросил Феодосий. – Мир, мир! Садись к огоньку, погрей душу.
– Не узнать вас, голы, безлошадны, аль беда приключилась?
– Ограбили нас начисто, за праведное слово ограбили. Феодосий коротко рассказал про ссору с приказчиком и что из этого вышло.
– Для того и рождается мужик, чтобы его кто-то грабил. На мужике держится земля, без него все бы с голодухи подохли.
– Как твои дела?
– Плохи. Женка умерла. Вот и иду один в Беловодье. Иду и пою, как птаха райская. Ежели все обойдется, то почну новую жисть. Ты тожить бросай эту землю-мачеху и дуй, не стой, по моим следам. Чудо у нас было недавно, сам видел из кустов: ехал царь по Казанскому тракту, а тут мужики задумали ему сунуть челобитную, а их в петли. Сам царь кричал, чтобы шибче пороли. Просветлил мозги ладно. Теперича не будут говорить, что царь ничего не ведает.
– Не то ты глаголешь, человек, – проснулся Андрей, – царь не станет бить мужиков. Это их били его приспешники. Боятся, что царь правду прознает.
– Эх, младен, эк тебя разносит, ты тожить веришь, что царь добр? Пустое. У царей не бывает доброты,
– Ты прав, ходячий человек; ежли бы каждого царь самолично выстегал, многие бы за ум взялись. А то ить выходит, что один за гуж, а другой палки в колеса ставит. А на сына махни рукой. Мал, а пытается судить о многом.
До полуночи шел неспешный разговор о жизни, о Беловодском царстве. Чуть вздремнули, а утром каторжник ушел на восток, Силовы пошагали на запад. Спешили домой. Миновали Строгановский завод и скоро вышли к берегу Камы. На угорье виднелся Оханск. На пароме купца Семишина перебрались на другой берег и снова пошли месить дорожную пыль разбитыми лаптями, скоро родная Осиновка.
Пришли в деревню под вечер, когда усталое солнце припало к угорьям, с пастбищ потянулись коровы, тоже усталые и тощие. На выпасах выгорела трава.
Феодосий первым зашел на подворье. Сел на бревно, задумался. Будто подкрадываясь, начали собираться мужики. Молча окружали Силовых. В глазах страшинка. Все были уверены, что эти двое погибли. И вот пришли. Уж не поблазнило ли? Нет. Феодосий косо посмотрел на мужиков, вскочил и заорал:
– Изменщики, супостаты! Распротак вашу мать! Мы гнили в штольне, а что вы исделали, чтобыть помочь нам? Чтоб вас разъязвило на сто рядов.
– Не ори! Меньше бы брякал языком, то такого бы не случилось, – вскинул бороденку Ефим Жданов – И не сидели мы руки сложа, ходили в губернию, но сами едва в кутузку не угодили. Никто и слушать нас не стал, назвали бунтарями и под арест. За серебряный отпустили нас казаки. Остатней деньги лишились. Пусть мы не вызволили, так бог вас вызволил. Чего еще надо-то?
– Горбун нас спас, будто и заводские шумели, а не бог.
– Знать, их бог вразумил, – не сдавался Ефим.
– Не шуми, Феодосий, жив – и ладно, остальное приложится.
– Меланья уже по вас молебен заказала. За сорокоуст последнее попу снесла.
– Дура! Чем жить будем, ить все сгорело?
– Сосновая кора еще есть в лесу. Надо загодя припасать. Репа успела вырасти, пока она повыручает.
– Снова забунтуют мужики.
– Это уж как пить дать, забунтуют, чего же больше.
– Ладно, идите по домам, – бросил Феодосий. – Дайте в дом войти, – прогнал Феодосий друзей.
Феодосий вошел в дом. Сел в кутний угол, насупился. В доме грязно, душно, мухота – не продохнуть.
Вернулись Силовы с полей. Четыре сына обугленными пнями застыли перед отцом. Замерли невестки. Лишь быстроглазая Стешка, любимая дочь Феодосия, бросилась к отцу, повисла на шее, начала смачно целовать в губы, щеки, затараторила:
– Тятенька, миленький, возвернулся. Мы думали, сгинули. Ой, как я рада, даже под сердцем захолонуло.
– Ладно, будя, цокотунья, – чуть подобрел Феодосий, но тут же насупился снова.
Стешка на год младше Андрея. Любил отец ее сурово, по-мужицки; то рукой тронет за плечо, то шутливо шлепнет по крутому заду, но в работе, тайком от других, давал ей послабление. Отдохни, мол, еще наробишься, бабья доля – стон и боли.
– Зовите мать, чего она там мешкает? Аль не знает, что мы пришли?
– Уж знает, но пошла по пути рубахи сполоснуть, потом все изошли. Духотища – страсть.
Максим, старший сын, надвинулся на отца, сейчас полыхнет грозой. Сорвется кабаном-секачом и сомнет отца. Сорвался, закричал:
– Пришли, с чем пришли? Надо было не языками молоть, а робить в три силы. Лучше бы совсем не приходили. Все нам Ефим рассказал. Нашелся мужицкий царь? Че принесли в кармане?
– Вшу на аркане. Вот хочу ее вытянуть из кармана, а она, сучья морда, упирается, – устало, будто слушая себя со стороны, говорил Феодосий. – Жирнущая, тварина, хошь сало с нее топи, хошь в шти бросай заместо свинятинки. Один нам бродяга сказывал, что, мол, в Даурии, есть такая страна в Расее, таких вшей нарошно разводят, а потом жарят и заместо семечек едят, только щелкоток стоит. Знать, лучше бы не приходили, а сгинули в темнице? Та-а-ак! – вдруг подпрыгнул со скамьи, со страшной силой ударил сына, его кулачина будто вмял грудь, далеко отбросил Максима, тот растянулся на дощатом полу. – Варнак, отца не почитать? Вот теперича ответствуй, пошто у тебя на пашнях рожь посохла, овощь сгорела? Не слышу!
– Дэк ить засуха.
– Засуха от бога, а наша маета от кого?..
Меланья тихо вошла в избу. Хохотнула. Вожак вернулся в табун, требовал покорности. Кажется, покорил, могли бы и смять. Все злы. Обняла за плечи мужа, тихо сказала:
– В силе еще, чертушка! Корись, Максим. Ишь че удумал, почал мать погонять, никому от тебя продыху не стало. Кланяйся в ноги мне и отцу! Ну! – Поцеловала Феодосия в губы.
– Ну будя лизаться, взяла барскую моду.
– Соскучилась. Андрейка, милай, обними мать-то, – схватила за плечи Андрея, зарылась лицом в скатанных кудряшках.
Поднялся с пола Максим, поклонился в ноги отцу, проворчал:
– Прости, Христа ради, тятенька!
– Ладно, кто наказан, тот прощен. Знай край да не падай.
Остальные сыновья молчали: Василий стоял у печи, ковырял в носу пальцем, Иван сидел на лавке, смотрел под ноги, чертил лаптем половицу, Алексей рассматривал свои огромные ручищи.
Гроза прошла, внучата повисли на руках и плечах деда. Все сели к столу.
– Что будем делать? – спросил семью Феодосий. – Ты, Максим?
– Пойдем к богатеям сена косить. Все чуток заробим.
– Лады. Все идут на сена, а мы с Андреем дома, свои будем с бабами косить.
– Зачем надрываться? – насупленно заговорил Иван. – Розг так и так не миновать.
– Минуем, должны миновать. Хотя долг у нас растет, не копить же его до второго пришествия Христа. Меланья, вечерять, а потом мы с Андрюхой попаримся в печи, вошату сгоним да тела согреем.
– У нас одна репа.
– Заглавная мужицкая едома. Она богом дана мужику. Без нее – погибель.
Помолились на прокопченные иконы; хотя Феодосий в отходах почти не молился, но в семье за неверие ругал. Сам же говорил: может, я делаю промашку, что ругаюсь с богом, так пусть дети не идут по стопам своего заблудшего родителя.
После ужина Феодосий пошел осматривать подворье. Порядка здесь не было, в сараях прохудились крыши, покосились ворота, амбар пуст, дверь слетела с петли, и никто не поправит.
Раньше Силовы жили крепко: водились свиньи, куры, коровы, коней до пяти штук стояло в конюшне. Но скоро захирели, царь Николай повысил податную сумму, на заводах за уголь стали платить меньше, поля родили хуже. Вот все и пошло в разор. Сейчас у Силовых одна коровенка, которая кормит десяток внуков и внучек. По ложке молока достается каждому. Запах куриный давно выветрился. А свиньи – это уже совсем непозволительная роскошь.
– Каторга, кругом каторга, – прогудел Феодосий. – Прав тот беловодец-каторжник, что вся Русь каторга аль инвалидная команда, где нет головы и о людях некому заботиться.
5
Падают, падают чернильные ночи одна за другой на землю пермяцкую, на деревню Осиновку. Спит она тревожным сном, нудливым, клопиным сном. Кривой месяц немым вопросом завис в небе, смотрит на Осиновку. Дома черны, крыши прогнулись, как спины старых котов. Во всем нужда проглядывает. А горячий воздух, даже в ночь, катится и катится над хлебами, сушит и сушит и без того иссушенную землю. Жарко, душно. Душно земле, душно людям. В каждом доме затаился страх, перепуганным воробьем стучит под сердцем. Мечутся по темным углам изб тревожные думы, тягучие, как смола, челноками снуют в голове. Стонут во сне мужики и бабы, от безвыходности стонут. Тяжки их кудлатые головы, нет им покоя.
Живет покой разве что в домах Трефила Зубина, Фомы Мякинина. Вон они гордо вскинули тесовые крыши над деревней, над соломенными кровлишками. Там достаток. Там радость и жизнь.
Трефил Зубин, открыв рот, раздувая пышные усы, густо храпит, натянув на себя белоснежное рядно. Он только что прогнал от себя блудницу Дуську. Вдова! Чего с ней вожжаться! Для дома не гожа, а вот для баловства – да. При зубинском достатке можно и барскую бабу взять, чтобы манерничать могла, как говорил сам Зубин, для потехи приседать и ласково говорить на французском языке, пусть непонятно, так то и лучше. Откуда у Дуськи ласковость взять? Баба, черная баба.
Прав Зубин. Дуська – черная баба, как все бабы-пермячки. Да и откуда им стать белыми? Все они забиты, затерты, перегружены заботой и работой. Нагрузили на них, бесправных, тысячи дел, так что и продыху нет.
Месяц заглянул в окно. Уперся неярким лучом в крашеный пол, тронул изразцовую печь, горницу осветил, там спали суровые и жадные до работы сыновья Зубина. Забежал в Варькину боковушку, тронул ее мягкую постель, но пуста она была. Выпорхнула в окна зорянка. Убежала, счастливая, к Андрею. Тронулась умом девка, связалась с лапотником.
Не обошел месяц и дом Силовых. Боже, что думает эта девица? Здесь все спали вповалку и на полу. Кровати резные давно забрала подать. Перепутаны рваные рядна, зарылись бороды в солому. Тесно и дышать нечем. Но каждая баба уткнулась носом в бок своего супруга. Так можно и перепутать, в грех впасть. Зубин часто посмеивался над бедняками, говорил: «И как вы только в такой теснотище своих баб находите, как детей рожаете?» – «От бога, от бога наши дети зачаты», – теребя бородку, отвечал Ефим. «От бога только одна Дева Мария зачала, да и то есть сказ, что будто к ней мимоходом забегал архангел Гавриил. Может, не от бога… Ха-ха-ха!»
Спертый воздух, зубовный скрежет. Куда ни положит свою голову Феодосий – все жестко. Подушек нет: царь и их прибрал. Не то явь, не то сон, перед глазами незнакомая земля, тайга, море-океан. Видел людей вольных, дух вольный обонял. И брел, и брел по той земле, трогал руками сочные травы, хлеба, не мог нарадоваться. Радовался тихому миру, свободе мужицкой. Прекрасная земля, чудное царство… И вдруг он снова видел каторжника, слышал его наставления: «Пройдешь Сибирь, переплывешь через Байкал-море, потом уходи на реку Шилку, она приведет тебя к реке Амури. Стан свой гоноши на Усть-Стрелке. Там стоит казачий пост. Но эти люди до денег жадны. Потому их завсегда можно купить, и пропустят они ваши лодки хошь на край света. За копейку забайкальский казак и в церкви чижолый дух пустит. Только плати… Так и убежите вы в Беловодье. А уж как придете в Беловодье, то там мир и райское песнопение…»
Земля обетованная! Лесов – глазом не окинуть. Поля обрываются у берега моря. Травы в рост, хлеба, где каждый колос в четверть, земля будто пух, ноги тонут в ней. Все вокруг емко, сочно, все близко сердцу мужицкому. Земли много, паши – не перепахать.
Плещутся волны за окнами, запах неведомого моря щекочет ноздри, бьет соленая волна в берег, от крутого ветра дребезжит стекло в раме. Дзенькает. Добрались до мужицкого царства! Хорошо-то как! Пусть ярится море, на то оно и море, чтобы яриться, а потом ласково шелестеть волной на берегу. Пусть! Каждый волен показать свою силу-силушку!..
6
Заполошный крик и сильный стук в переплет рамы разбудил Феодосия. Поднял Силовых на ноги. Десятский орал что есть мочи:
– Эй, Силовы, поднимайтесь! Урядник кличет свой покос косить!
– Вашу бабушку! Такой сон спугнули! Господи, эко хороша там землица-то! Глаз радует, а уж душу – и не обсказать! Все млеет в тебе, будто впервой бабу полюбил. Сволочи! Не дали во сне пожить там.
И сразу навалилась вязкая лень, скука, безразличие. Отрешенно посмотрел на своих, бросил:
– Вставайте!
Меланья уже хлопотала у печи.
– Вот на кого напасти нет, так это на нашего урядника. Не успели дух перевести, тут же понадобились ему робить. Свои травы сохнут на корню, а тут за спаси Христос чужие коси. Ему что – оттяпал у нас заливные луга, и душа не болит, а тут… – Встал, отряхнул с холщовых штанов солому, подошел к рукомойнику, плеснул в бороду пригоршню воды, вытерся рукавом. Сел к столу. Репа была напарена еще с вечера, чуть разогрела ее Меланья – и на стол.
– Дал бы нам бог вместо репы блины! – со вздохом бросил Максим.
– Замолчь, щанок, ишь растявкался! – посуровел Феодосий – Бога не замай, еще мал. Не будь его, совсем бы зачахли.
Андрей усмехнулся. Непонятный человек – отец. При нем клянет бога на все корки, при других сынах за бога горой. В подземелье тоже бога, кроме как матом, и не поминал.
– Квас и вода – богатырская еда, – продолжал Феодосий.
– Ага, однако бог судит и делит люд не по-божески. У божьего человека – попа от свинячьего визга в ушах звенит, а у нас тишь. У него и свиньи лучше едят, чем мы.
– Сказано молчать в застолье!
Солнце еще где-то блуждало у горизонта, будто не могло найти себе окна, чтобы выйти в чистое небо, а мужики уже были на ногах. Хоть и говорил Феодосий: мол, кто встает с росами, те не будут босыми, – присказка не вязалась с жизнью. Реденький туман курился над рекой Осиновкой. Жидкая роса упала на травы. Конечно, легче косить даже по такой росе, но надолго ли она? Косить придется весь день, смахивая пот с лица. Правда, в ночь травы будто приободрились, повеселели, приподнялись, расправились. В день снова поникнут.




