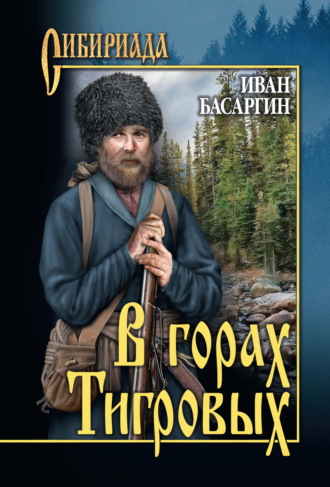
Иван Басаргин
В горах Тигровых
© Басаргин И.У., 2017
© ООО «Издательство «Вече», 2017
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
* * *
Часть первая. Бунтари
1
Широко, с богатырской уверенностью течет Кама-река. Туманятся тихие плесы по утрам, стонут чайки, крякают утки на заводях и озерах. А когда приходит ночь, то тихо вздыхает, будто ей так же тяжело, как и человеку, который живет на ее берегах. А может быть, жаль ей человека? И как не пожалеть? Стоит над Камой стон, редко слышен над Камой смех. Но плывут над Камой-рекой думки шальные, думки разбойные, думки бунтарские.
Мужицкая река. Всюду мужики, они гонят плоты, тянут баржи, бегают по реке на лодках-плоскодонках. Завшивлены, оборваны, косматы, и души их расхристаны. Это Русь. Это суровое мужицкое лицо. Болтаются на шеях медные кресты, трут шеи грязные гайтаны. Не ново. Тягуче поют бурлаки «Дубинушку», стонливую, привычную. Жарит их солнце, жжет ноги песок. Э, что говорить, долго тебе, Русь, быть завшивленной и косматой, чем-то похожей на медведя после зимней спячки. А что делать?..
Феодосий Силов со товарищи гонят плоты в далекую Астрахань. Отдыхают, радуются солнцу. То не работа – ворочать тяжелыми кормилами, так, баловство. Хотя пока прошли щеки бурных перекатов Камы, не раз приходилось смотреть в лицо смерти. Да и до того, как спустить лес на воду, пришлось поломать спину: со стоном и хрипом волочили бревна к реке, потом сбивали из них длинные и неповоротливые плоты-самокрутки, чтобы сплавить их и продать купцу-барыге. Что заработают? Гроши, за которые и портков новых не справить.
– Э-ге-ге-гей! – орет во всю мочь Феодосий Силов. А голосище у него как иерихонская труба. Таким голосом только мертвых из могил поднимать, когда будет второе явление Христа народу. Заглушит даже трубы архангелов. – Иване, навались, догоняй! – потрясает кулачинами мужик.
Вай! Вай! Вай! – весело откликается Силову прибрежное эхо. Разбудил сонливое.
Андрей, мизинный сын Феодосия, косит родниковые глаза на отца – чего, мол, орет? Здесь так тихо и мирно, что только и подумать о боге, о судьбах людских. А орет Феодосий от избытка сил, а силы у него не занимать, хотя ему уже далеко за полста лет. Ну и пусть орет. Андрей опустил ноги в теплую камскую воду и посматривает на берега. А берег тоже живет: ровными рядами, как солдаты, что идут в наступление, шли мужики, косы поднимались враз, дружно, падали к ногам травы покорные. Это крепостные косили сено для помещика. Свое будут косить потом, косить в убогих ложках, на засушливых угодьях.
Травы… Вот эти-то травы и стояли перед глазами Андрея, а над ними протяжный крик, как стон чайки: «Ан-дрей-ей! Вернись! Андре-ей! Судьба моя!» – так кричала Софка Пятышина. От этого крика и сейчас холодеет под сердцем, тягостно на душе…
…Вот они идут по росистым травам, бредут по ним, как по воде. Софка же оплела шею Андрея своими гибкими руками и ведет его к звездам, что припали к земле. А потом они целовались. Было жарко и необычно. Потом был «блуд великий», от него-то и бежал Андрей. Не мог не бежать Андрей от Софки. Набожный, чистый, не принял Софкиной любви…
Было с чего. Андрея обучал грамоте и воспитывал в духе божьем Ефим Жданов, самый честный человек в деревне. Таким его принимал Андрей. Говорил Ефим: «Прелюбодеяние – грех великий». Но забыл старый, что первая любовь – чиста и безгрешна. Первая любовь – это первый следок судьбы, первые радости земные. Все забыл с годами старик.
«Андрей-ей»! – повис чей-то крик над рекой, Андрей вздрогнул и обернулся. «Андрей, греби доселева, пора мужикам едому нести».
«Блазнить стало. Ну на кой ляд мне видится Софка? Ить, кажись, мне любигся Варя. Варя добрая, тихая, а Софка огнистая, жаркущая. Боюсь я ее. Господи, прости мой грех!» – перекрестился Андрей, встал, подошел к отцу и принял из его рук кормило. Задним кормилом ворочал Ефим Жданов.
– Пороби, пороби, с души болесть сойдет, – усмехнулся отец, будто прочитал думы сына.
«Андре-ей! Ты судьба моя!»
Софка упала в травы и забилась в тяжелом плаче, задохнулась в душевном крике. А Андрей убегал. От себя убегал. От любовного неистовства Софки убегал. Только можно ли от любви убегать? Убежал. А потом пришла другая любовь, тихая, божеская, где только было касание рук, тихий смех, тепло под сердцем. Софка однажды бросила Андрею: «Ты еще вспомнишь меня. Не одну маету за первую любовь примешь. Богом прикрылся, но знай: то было тоже божье…»
Навстречу тянули баржу бурлаки, тяжело, надсадно тянули. Они тоже будут тянуть баржу от Астрахани до Перми. Не пойдешь же пешком в такую, даль зря. Деньги проешь, что заработал на плотах. Тогда и на глаза домой не показывайся. Каждый должен нести копейку в дом, копейку на царскую подать. И быть Андрею в общей связке, петь Андрею «Дубинушку». Хоть он и молод, но во всем горазд; и плот свяжет, и дом срубит, а ко всему рослый, широкоплечий, а уж силушки ему не занимать стать. Силовской родовы, чего уж там. Хотя он обличьем не похож на Силовых, по-монгольски скуластых, чернявых, будто с одной колодки шитых. Андрей же белокур, да так белокур, как одуванчик после цветения. Дунь на его кудряшки, и кажется, что они пухом разлетятся по сторонам. Глаза – небо голубое, если не голубей, а там тихая тоска утонула. Андрей пошел в мать-пермячку, робкую и податливую во всем, – Меланью. Да и душой в нее, не соврет, не обманет, не попрекнет бога за тягости, что шлет он на людей. Ходит мягко, с чуть отрешенным видом, часто напевает молитвы.
Не любо такое Феодосию. Сам горяч, резок на словах и в деле. Даже порой жесток, если это надо. Хочет видеть сына таким же, как сам. Привязал его к себе, как веревкой. Задумка есть – выбить из сына душевную хлипкость работой, обозлить тяготами, голодом, частым гостем у мужиков, чтобы он излил свою душу в злой матюжине, чтобы закричал во всю силу легких от радости, если она есть, силу бы в этом крике испытал, берега бы разбудил. Но Андрей пока оставался самим собой.
Ползут плоты. Вот они прошли Оханск, протянулись мимо родной Осиновки, но недосуг забежать мужикам к своим, зудкое тело в печи попарить, вшу выжарить. Надо спешить, следом тянутся плоты, падет цена на лес – в прогаре будут. Да и к жатве надо поспеть, хлеба наливаются ядреными колосьями. И каждому хочется, особенно голове семьи, нажать первую горсть хлеба.
Течет Кама-река. Просторны ее берега, широки заводи. Поодаль тянутся угорья, чуть ниже ложки, долинки, луга заливные. Не земля, а радость мужицкая, хоть она и потлива, не всегда урожайна, но побольше бы такой земли – и мужик бы поднялся на ноги. Но не мужицкая это земля. Чужая земля: то помещичья, то купеческая, то государева. Силовы, Воровы, Ждановы – все это государевы люди. Будто и вольны, но от подати их государь не освободил. А уж подать, будь она проклята, все на нее уходит: и деньги, что будут заработаны, и урожай, что зреет на пашнях. Платить так, за спаси Христос! Государева земля, а почему не мужицкая? Чудно устроен мир: мужик пашет, мужик сеет, но сеятель не ест вдоволь хлеба.
– А про ча я должен кормить царя? Пошто я кормлю воров и нищих? – орет на Ефима Жданова Феодосий.
– Хэ, дура, а рази ты не понимаешь слова «муж». Муж – значитца голова всему существу на земле. А раз голова, то и корми всех: кто богат, кто нищ, – спокойно отвечал Жданов.
– Умен! А пошто я должен кормить всех?
– Так бог повелел. Кормить во искупление грехов своих.
– Бог повелел? Так пусть бы он мне дал земли поболе да чуток продыху, тогда бы я богу в ноги поклонился, государю тожить. А так я не боле как раб божий, раб царский. А так всяка тля тебе в душу лезет да с ложкой в твою чашку. Дай мне волю, я бы засыпал Расею хлебом, вот те крест, по маковку бы засыпал…
Течет Кама-река, ложатся на угорья тихие ночи, звездные, мудрые: с комариным звоном, тихим шелестом волн, с шепотом зреющих хлебов, ржаных, сытных. Спят плоты, уткнувшись в берег. Лишь не до сна людям. Та же печаль, те же думы спать не дают. Нудят душу. Ефим Жданов доит свою козлиную бороду, тянет руки к огню, шмыгает острым носом, миролюбиво гудит:
– Все дано от бога, во всем дела божьи. Ни един волос не падет с головы человека без веления бога.
– Ха-ха! Знать, оттого ты и лыс стал, что бог того восхотел? Врешь! Не божии то дела! – рыкает Феодосий – Куда ни плюнь, все не в радость!
– Грешно такое говорить. Бог на небеси, он все зрит. Все!
– Ежли бы зрил, рази бы слал такую маету на мужика? Как я ни кряхти, а нонче и пятой части подати не смогу выплатить. Две части с хлеба, три с отхода. Долгов с прошлого года рублев на пятнадцать набралось. Вот и считай, что зряшно я вшу кормил. Так и так розог не миновать.
– Бунтовать надо, – ворчит Иван Воров. – Бунтовать!
– Бунтовать, а кого в голову? То-то. Нет у нас головы, потому нишкните. Много бунтуем, а толку мало. На наших спинах вороги росписи делают, – рыкает и на Борова Феодосий.
– А что делать?
– Уповать на бога, а не бунтовать. Все идет от бога, даже вша – и та божий плод. За муки наши, за радение наше апостол Петр откроет нам райские ворота. И будем мы жить в тиши и песнопении.
– Заткнись! Я хочу здеся слышать ту тишь и песнопение. Эх, знать бы в точности свою судьбу, тогда пошел бы я по ее следам и никуда бы не сворачивал. Но не знаю. А коль не знаю, то и плыву за ней, как наши плоты по воде.
– Тятя, а тятя, не ярись, след наших судеб ведом только богу. И даже в худом можно видеть красоту и божье творение на этой земле. Ты послушай, послушай, как шепчется ночь. А? Ажно душа млеет от этой тиши райской, благодати земной. Чего же ругать бога и судьбу свою?
– Не юродствуй! – еще сильнее взорвался Феодосий. Ему стыдно было за сына. Такое говорить при мужиках, они вон и глаза опустили. Твоя, Ефим, работа! Исделал сына юродивым: бог, пташечки, райское песнопение. Вот заведет Андрей семью, тогда познает желчь, которая не однова у него отрыгнется. Головой будет, весь и спрос с него, не раз снимет порты да ляжет на лавку дубовую под розги березовые. Забудет думать о тихих ночах и тиши райской.
– Эх, Феодосий, Феодосий, гореть тебе в геенне огненной. Супротив бога идешь, туда же сына зовешь.
– Нишкни! Отнял сына. Хрена бы вам с редькой вместо хлеба, – может бы, начисто бога забыли. Запели бы другое. У, козел божий!..
Таким спорам нет конца. Сколько помнят этих друзей люди, столько они и спорят. Но раньше Феодосий бога не клял, с опаской говорил, что он, мол, творит что-то не так, сейчас же стал даже матом его крыть. Далеко зашел мужик, далеко! Раньше он спор кончал такими словами: «Кому быть повешенным, тот не утонет. Судьба не дозволит, а судьба – дело темное, как и завтрашний день». Сейчас же добавлял к этому: «Бог тоже дело темное, пожалуй, темней судьбы и завтрашнего дня». Приказывал спать.
Дремала ночь. Далеко, за угорьем, метались сполохи. То ли горело какое-то село, то ли мужики взбунтовались и жгут помещика. Такое здесь не в новинку.
Андрей шагнул от костра и лег в травы. Еще не росные, еще теплые. Лежал и слушал перезвон кузнечиков, тонкий напев комаров, шумные вздохи реки. Смотрел, как плакала июльская ночь звездами, среди них плескалась луна. Он еще чист душой, не накопилась в нем злоба, не заматерело сердце от невзгод, чтобы все это выплеснулось в заполошном крике: «Бей! Круши! Бога мать!..»
Так дни и ночи. Отдохнули. Продали лес в Астрахани, не свой лес, с этого леса добрая половина денег пойдет купцу, что держит сплав в верховьях Камы. Нанялись тянуть баржу с солью. Не привыкать, уменья не занимать. Каждое плесо знают, каждую мель ногами промеряли. Дотянут. На то они и мужики, а мужик все должен мочь: плоты вязать, гнать их по рекам, тянуть баржи, пахать, сеять, жать, выжигать уголь для заводов, железо плавить, травы косить, мраморные дворцы строить для царя и вельмож. На мужике Русь держится, как земля на трех китах. Феодосий уже не спорит с Ефимом Ждановым. Спор пустой, от него мужику легче не будет. Живет и рассказывает о прошлом. Не верится в то, что он говорит, но и за сказ мужик деньги не просит. Отчего же не послушать.
– Вольна была эта земля, – начинал Феодосий, тянул клешнястые руки к костру, тяжелые, с въевшейся навсегда пылью, – вольны были здесь думы, вольны в делах своих люди. Во времена заполошного царя Ивана Грозного бежал сюда мой пращур, бежал от боярина, чтобыть вольным стать. Пришел на Каму-реку, поклонился ей, воды испил, и возрадовалось сердце… Его мирно встретили тихие и добрые зыряне и пермяки. Пригрели они вольнодумца, обласкали, дали землю, построили дом. Жили те люди в достатке, может, потому и были добры и покладисты. При нищете – добрым не будешь. У тех людей главным богом был бог Лен, творец всего сущего на земле. Он, как добрый дедушка, коему и спешить-то некуда, учил людей пониманию жизни и мудрости. И люди те не ведали даже слова «грех». Все они были чисты и безгрешны, потому как бог все грехи людские на себя взял. Ибо все люди есть дети божьи, и он за каждого в ответе.
В лесах жил другой бог – Вор Айка. Он тоже не сидел без дела, а очищал леса от болестей, от гнили, берег их, зверя холил. И люд шел в те леса не за корыстью, а за очищением души своей. Ибо лес делает человека добрее, выше и мудрее в думах своих. И люди любили свои леса, берегли каждое деревце, считали, что оно тоже может кричать от боли, ежели не в дело его пущать.
Хлеба и пашни защищала добрая богиня Вушерка, девственница и доброхотица. Не давала скудеть земле, болеть хлебам. Сама была чиста, ако росы, делала такими же чистыми и людей своих. Люди любили Вушерку, поклонялись ей как дивной бабе…
Долго жили те люди в чистоте и доброте, в тиши лесной и птичьем песнопении, пока не пришел к ним монах Стефан. Пришел и отнял у них веру, дал единого бога, а с тем богом грехи людские, муки душевные. Принес дьявола и чертей, домового и водяного. Сумел повести за собой тех мирных зырян и пермяков, а они, сами не ведая всей пагубности, возвели этого монаха-брандахлыста во святые, назвав его Стефаном Пермским.
А скоро пожаловал сюда и разбойный атаман Ермак. Стефан пленил души пермяков и зырян, а Ермак пленил все, подвел и пращура нашего и этих людей под высокую руку царя. Порушил мир, добро затоптал…
– Дух твой, Феодосий, сомустил дьявол. Ты такое снова говоришь о святых и боге, что страхотно делается, мурашки бегают по спине, – вставил Ефим.
– Не мешай. Может быть, и запутался я в богах-то, ежели бы вернулись сюда те боги, то ушел бы я к ним. Добра в нашем боге едином, да еще в трех лицах, трехликий он, а может быть, двоедушный ко всему. Ежли нет добра на земле, то не может быть его и в раю, ибо земля и рай – это все божье. Бабу узнают по сарафану: чист – знать и в доме все чисто и угоено, тогда и душа добра и чиста. Мужика узнают по его воротам: ежли они прямые и красивые, знать, в доме достаток и мужик не ленив. О нас, конешно, такое не скажешь, просто мы захирели душой и телом. Бога же – по его делам. Царя – по мужику. Чист и сыт мужик – знать, и помыслы царя и дела его чисты, людские, человечные. Наш же царь и наш бог будто спелись, дуют в одну дуду, а жисти мужикам не дают, ездят на них, как на клячах, выбивают последний дух розгами.
– Изыди, нечистая сила, – махал длинными руками Ефим.
– А ты помолись, может быть, и убежит из моей души сатана. Не убежит, крепко прижился. Дай досказать, пусть люд судит, кого мы славим, кому молимся. Вот и ответь мне, Ефим: ежли я лба с утра не перекрестил, знать, я грешник?
– Тако, тако, – кивал бородой Ефим.
– Нет, не тако, я святой, Ефимушко, я вламываю, как кобылица, я люд кормлю, божьего помазанника тоже, Расею кормлю, чтобыть она была крепка, не уступала бы ворогу в силе. А мы бездельника, коий жрет мой хлеб, сидит в пустыне, – во святые. Во святые за то, что он лоб свой бьет денно и нощно, пошто бы ему также не поробить на пашне аль еще где? Святых развелось поболе, чем у меня вошей. И все они корыстны и подлодушны, бо мечтают о своем бессмертии, о райской жизни. Вот ежли бы они держали свое тело в посте и молили бы бога, чтобы он и в загробной жизни послал бы их в ад, тогда бы я поверил в их святость. А так не моги и говорить мне об их святости.
– С такими помыслами я бы тебя посередке оставил, чтобы ты маялся между раем и адом. Чтобы ты познал и бога и дьявола.
– Ха-ха! Все ты врешь, бо ты есть путаник и божий козел. Стара присказка, мол, хлеб ести в поте лица своего. Я ем-то в поте, а помещик только и потеет, когда чай с малиной пьет. Тоже метит в рай. Вот ежли уж кто заслужил рай, то мой дед Евлампий. Он, ног не жалея, руды и золото всю жисть искал. Все, что находил, то передавал купцу Демидову. И вот нашел он золото и россыпь камней самоцветных на земле Строгановых. Прознал Строганов про находку и давай улещать деда посулами. Евлампий ни в какую: мол, дал слово служить Демидовым верой и правдой и от того слова не откажусь. Не отказался, хоть Строганов и обещал деду купеческое звание, сгнил в темнице подземной, но остался верен слову. А с той поры Силовы дали обет не искать злата и камня самоцветного. А вот ты, Ефимушка, корыстен, умре твой брат, что же ты сделал? Ты у его женки половину земли оттяпал. Вот и вся твоя святость, вся доброта. Теперь ответствуй: может стать святым Евлампий?
– За долготерпение он стал святым. Бог избрал народ свой для долготерпения, он сам много терпел и нам то же делать велел. Мы должны нести крест мучеников, как он нес его на Голгофу.
– Эхе-хе, упрям ты, Ефим, как козел урядника, все-то гундосишь свое.
– Бог такое в душу вселил.
– Надоел! Не дал досказать дивный сказ. Да уж ладно, от него в душе болесть, обойдетесь. О боге же нашем скажу, что он стар, пото глух к молитвам нашим. Надыть бы выбрать бога помоложе, чтобы за каждого радел, робил бы на нас, а не супротив нас.
– Не моги такое говорить, предадут анафеме! Живьем сожгут!
– Ты сожгешь? Ты предашь попу-блуднику? Меня и мою дружбу предашь?
– Ради бога все мочно.
– Эх, житуха! Бог мает душу, а попы и царь – тело.
– Попы – божьи пастыри, а царь за бога на земле, а мы их овцы…
– Коих ведут под нож, – закончил Феодосий, вздохнул и улегся спать.
– Топоры точить надыть! – проворчал Иван Воров и тоже отполз от костра подремать.
Расползлись и другие. Стало тихо и мирно на земле ночной.
Мужики вернулись к жатве. Хлеба родились добрые, сочные, так и просились на серп, в горсть мужицкую, ласковую, сильную. И зря нудился Силов, зря, больше половины подати уплатил, и с отхода, и с хлебов. А впереди еще зима, уйдут с сыном уголь для демидовских заводов выжигать, остальные же сыновья уйдут валить лес помещику. Копейка к копейке – рубль. Смотришь, и открутится от розог голова Силовых. Урядник тоже в эту осень был покладист, его женка, Любка, родила рыжего мальчонку, – правда, не похож на урядника, но не беда: чей бы бычок ни прыгал, а теленочек наш, так говорят в народе. Урядник даже пивом угостил мужиков. Они, тоже добрые от богатого урожая и угощения, помогли уряднику хлеба сжать, сено вывезти на подворье. Известное дело, рука руку моет, то обе чисты будут.
И вот с колючими ветрами ушли жечь уголь Феодосий и Андрей. Ушли надолго, вернутся с талым снегом.
2
Урал. Каменный пряс земли. Круты здесь горы, высоки их вершины, столь высоки, что даже пашут ленивые облака. На замшелых скалах вьют свои гнезда орлы, спят в обнимку с туманами. Полощутся в бездонных озерах звезды, там же купается корявая луна. Густы леса, в лесах звери. Здесь можно, как говорят, не сходя с места, отковать меч из взятого из земли железа, осыпать его рукоять самоцветами, сделать золотую роспись. Все есть на Урале.
А Урал, как старая песня, легендами и сказаниями оброс. Много тайн утонуло в его земле, озерах, затерялось в глухих распадках, затаилось в пещерах. Не отыскать их, не прознать. И живет Урал, копит в себе тайны людские…
Просторна, но низка землянка Феодосия Силова. Строил он ее такой, потому что сюда собираются углежоги в долгие зимние вечера, спорят о делах мирских, поругивают царя, его ярыг, но в то же время не теряют надежд на лучшие времена. Должны они быть. Но когда?
Забегают на огонек лучины бродяги, от них Феодосий узнает, что творится на земле, о чем говорят люди.
Вот и в тот памятный вечер, который заронил дивную мечту в сердце сурового пермяка, Феодосий сидел глыбой на чурке, по привычке тянул лапищи к каменной печи, хмурил мшистые брови, розовела от огненных сполохов борода, черная, вразмах, вразлет, трепетали от гнева ноздри широкого носа, не по душе Силову разговор. Напружинился, сейчас прыгнет на человека, сомнет его. Но божий странник не хотел замечать палящего взгляда, ровно говорил:
– Да, я старовер-беспоповец. Бегун. Наше бегунство идет от святого Ефимия. Тако мы боремся со злом царским. Наш путь спасения – это не думать о чадах, о женках, о доме, о торгах, стяжаниях, иже не имати ни града, ни села, бегати, досаждати антихристу, не платить подати, не признавать власти, убегать от солдатчины, не давать присяги…
– Брысь! – рыкнул Феодосий – Дурно ваше учение, ако песья блевотина. Бежать! Скрываться! Для ча? От кого? Детей, женок – все бросить? Тронься за вами вся Расея, то все с голодухи подохнем. Другой сказ, ежли бы бунтовали супротив царя, то я с вами. Оружье грешно в руки брать? Тогда мы вам не будем давать едому, гнать вас в шею, посмотрим, что вы запоете. Вон на холод и в ночь, пусть бог тебе даст крышу и тепло! Вон!
– Обозлено твое сердце, бежим, в бегах оно помягчает.
– Вон, чтобыть и глаза мои тебя не видели! Я тоже был раскольником, двуперстием крестил лоб, но за то двуперстие надобно двойную подать платить. Так пусть бог рассудит меня, прав я аль нет, что стал щепотью креститься. А Ефимия я вашего знавал. Дезертир он и моталка. Полезности от его учения нет ни ему, ни люду. Вон! – уже устало гнал бегуна Феодосий.
Ушел бегун. Феодосий повернулся к сыну, что лежал на нарах, сказал:
– Дурак – бегать. А куда вас девать? Мне за каждую душу надобно подушной подати заплатить по девяносто коп и еще одна, да оброчных по два рубля да еще семьдесят коп. А он – бегать. Вас же засекут до смерти. Эх, Пугачева бы сызнова сюда! Вот энто бы для нас приемлемо было.
– Пугач был вор и божий отступник, не от бога он пришел к люду. Царь просто не знает, как мыкается народ, лиходеи-богачи скрывают от него правду.
– Эх ты, младен, царь все знает и ведает, только его голова не добирает, как исделать Русь могутной, а народ сытым. К нашей земле нужен головатый царь, а может быть, мужицкий царь, коий бы наперво поел нашего хлеба, а уж потом в цари…
Не остыл еще Феодосий от гнева на бегуна, как открылась дверь, ворвались морозный пар и свежий воздух, шагнул другой бродяга. Перекрестился тоже двуперстием, бросил:
– Здорово ли живете, мужики?
– Спаси тя Христос, как все люди на Руси, – со злой усмешкой ответил Феодосий – Милости просим к столу, не царский, не боярский, но поесть можно. Чаек, правда, на малиновом листе, хлебушко наполовину с сосновой корой. Може, сдобы подать?
– Спаси тя Христос, сдобы давно не едал, да еда-то жидкая, только пучит, сытности нету в животе. А хлеб с корой посильнее будет, только тяжко с него живот простать. Ну да мы привышные. Каторга и похуже едала хлеба.
– Э, да ты каторга? Отпустили аль как?
– Бежал. Оттель никого не отпущают. Почти всех ногами вперед выносят, то уж отпуск долгий.
– Где томился?
– В земле Даурской.
– Эко куда занесло! Так, а сам-то откель будешь?
– Да вашенский, только чуток будет севернее, в самой тайге, там наша братия жила. На каторгу-то попал из-за помещика. Он повадился ездить к нам на охоту, почал сманивать мою женку, на прелюбодеяние соблазнять. Вот и шоркнул я его в логу. Сдох, как кобель. Прознали, мне вечную каторгу, женку в крепостные, а братию тоже туда, многие сбежали, а часть будто так и осталась в крепости у помещика. Пять раз убегал, на шестой повезло.
– А как поймают?
– Ну и че, вечная, она есть вечная, поймают, более уже добавлять некуда. Иду, чтобы женку свою отнять и снова туда же. – На каторгу?
– Да нет же, для ча бы я туда перся, побегу в Беловодское царство, там, брат, житуха райская.
– Куды, куды?
– Да не кудыкай под руку-то. Есть такое царство, только далеконько отсюда будет. Мужицкое царство. – Пошто же мы не знаем про то царство? – потянулся Феодосий к каторжнику.
– А пото, что о нем не каждому говорят, вот глянул на тебя и враз поверил, потому как ты черней грозовой тучи сидишь в этой завалюхе, знать, о чем-то думаешь. Таким вот и сказываю про то Беловодье. Потом же, туда надо звать мужиков с крепким умом, да чаще мучеников царских. Гля. – Каторжник поднял косматые волосы со лба, углежоги увидели темное клеймо «К». – А вот здеся, под бородой, на правой щеке, стоит буквица «А», на левой же «Т», вот и читается «КАТ». Таких туда примают. Бывал в том Беловодье нашенский, из каторжан, прознал все честь по чести, вернулся, чтобы своих набрать для подмоги тому царству, но его схватили ярыги, захлестали плетьми. Успел он сказать, что там нет царя, попов; раз нет тех и других, то нет и податей. Люд живет, робит с песнями, все сыты, все одеты. Главит то царство мужицкое вече. Словом, как писано в Святом Писании, то царство и есть земля обетованная.
– Садись поешь, чать, голоден с дороги.
Каторжник ел, подставляя руку под кусок хлеба, чтобы ни одна крошка не упала на пол. Грешно хлебом сорить. Поел. Феодосий начал тормошить:
– Расскажи точнехонько, где лежит то царство?
– Раззудил. Не ошибся, кому сказать про то царство. Быть тебе там. Лежит оно, значитца, на берегу окиян-моря. Это, значитца, надо пройти всю Сибирь, миновать землю Даурскую, за море-Байкал перейти, значитца, потом бежать вдоль берегов большой-пребольшой рекой Амури, та река-то и приведет в Беловодье.
– Сколько же шел с земли Даурской?
– Почитай два года. А до того царства надо чапать еще полгода, может, чуть поболей. Я побегу туда. Заберу женку и побегу.
– М-да, – протянул Феодосий, хрустко почесал бороду. – Ходоков бы туда послать, все прознать, – может быть, и мы бы тронулись скопом.
– Ходоки – пустое дело. В одиночку туда трудно будет пробиться: тайга, звери, казачьи посты. Надо уходить большой общиной, так сподручнее. Найдутся и у меня дружки, кои хотят воли, земли, чистой жизни. От Усть-Стрелки и побежим.
– Каторга аль вольные?
– Каторга. Люд же, что живет на берегах Амури, добр и покладист. Ты не трогай – и тя не тронут.
– Что делал-то на каторге?
– Для царской казны золото мыл, чего же боле. Спаси Христос за хлеб, за соль, пошел я, ночь – моя попутчица.
Ушел каторжанин в ночь, ушел и оставил в душе Феодосия смятение и мечту, не то что тот бегун-раскольник. И задумался: «А ежли правду сказал этот человек? Ежли есть такое царство, то ить бежать надо, и немедля!..»
Утром приехал приказчик, осмотрел уголь и сказал:
– Худой уголек, уплачу по копейке за короб и не боле.
Феодосий, было с ним и раньше такое, подошел к приказчику Никодиму, выдернул из-за пояса топор и заревел:
– Порешу супостата! До коих пор будешь обманывать нас?!
Никодим сиганул за спины возчиков, оттуда быстро-быстро заговорил:
– Дэк ить такое приказал сам Франц. Демидов с него деньгу требоват. Его женка – племянница самого Наполеона, она будто восхотела купить корабель, чтобы на нем весь свет объехать. Сам же Демидов будто купил средь моря остров, стал зваться князем Сан-Донато. Понимать надо. Не всяк женат на такой бабе.
– Пусть он женится хошь на самом Полеоне, мы тута ни при чем. Уголек ажно звенит, ни разу огонь не пробился через землю, стомили лучше, чем баба томит молоко в печи. Три копейки короб, аль я тебе башку отрублю.
– Не пужай, Феодосий Тимофеевич, я пужаный, у меня сердце пужаное; так и быть, по три копейки заплачу, но другим об этом ни слова, – умолял приказчик.
Сошлись. Феодосий ссыпал серебро в кожаный мешочек и повесил его на шею, рядом с крестом. И тут же послал Андрея, чтобы он рассказал другим углежогам, как заставил он раскошелиться Никодима. Шум был великий. Никодим, взбешенный, ускакал на завод. Углежоги собрались у закопушки Силова. Судили, рядили, сговорились не продавать уголь дешевле трех копеек короб.
– Кругом обман, лиходейство! Каждый норовит зачерпнуть ложкой поболе, да со дна. Никодим нас обманывал всю зиму; почитай, скоро марту конец, а что мы заробили? И врет все Никодим, что того требоват немец. Сдался он потому, что вор.
Тихо в уральском лесу. Дремлют старые горы, слушают могучий бас Феодосия Силова, его бунтарские речи. А вокруг толпа углежогов. Он говорил:
– Ворам надыть сечь руки, головы. Царь и его ярыги назвали нашего мужицкого царя Петра Федоровича вором, будто тоже отрубили ему голову. Но то неправда, наш царь Петр ходит промеж нас, чтобы снова поднять народ на бунт великий. Бунтовать царя, бунтовать церковь, всю никонианскую ересь побоку, царя тоже – и заживем по старинке, тихо и мирно, как жили здесь наши предки…
Смотрели мужики на Феодосия, мысленно подравнивали бороду, одевали его в царские одежды – и все сходились на том, что это и есть богом спасенный Петр Федорович, атаман Пугачев. Годы не сходились. Но ежели бог спас Петра от лютой смерти, то почему бы не продлить ему жизнь, молодость?
– Тиха ты о расколе-то, – шикал на Феодосия Ефим Жданов. – За брань православной веры сожгут в срубе. А тех, кто раскаялся и снова ушел в раскол, казнят смертью.
– От чудило, от бухало, какая разница – сожгут тебя в срубе или казнят? Однова смерть.
А кое-кто тихо спрашивал Феодосия, уж не он ли богом спасенный царь?
– Куда мне до царя? Головой не вышел. Но доведись править миром, то правил бы не хуже Николашки-полудурка. А че? Ить мой дядя Селивон при Пугачеве был полковником. Воевал ладно, умно, не раз бегали от него супротивники.
Сказывали старики, что Пугачев был великой силы человек. Феодосий тоже был в силе. Однажды на него прыснул медведь, этак пудов на десять, Феодосий схватил космача поперек и бросил его под обрыв, только камни загремели. Ефим Жданов позавидовал, сказал:
– Мне бы такую силушку, пра, мир бы к ногам положил.
Но пока он кричал:
– Не подбивай народ на бунт. Аль забыл картофельный бунт? После него едва кровями отхаркались, снова нас под палки зовешь? Шли супротив «чертова яблока», а теперь без него редкое застолье обходится. Знать, зря бунтовали. Боялись еще, что нас продадут барину, из казенных крепостными сделают. Враки оказались.
Картофельный бунт подняли заполошные раскольники. Они писали, что кто будет есть «чертово яблоко», погибнет, на земле случится мор великий, так-де царь-антихрист хочет.




