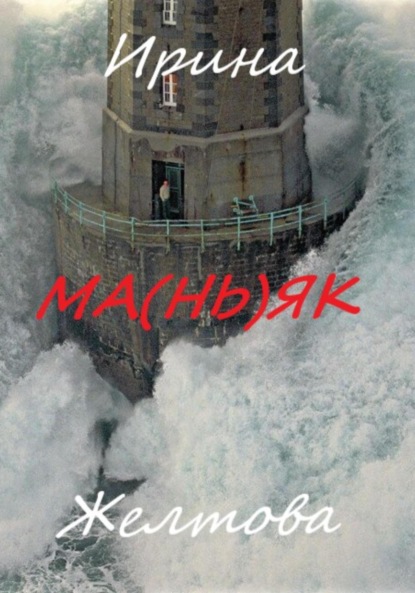Полная версия:
Irina Zheltova Окно ЗАМа
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Irina Zheltova
Окно ЗАМа
Хочется быть частью чего-то вечного, какого-то бессмертного целого.
(с) Дом на краю света
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
У ОКНА
ЗА КАДРОМ
Ришикеш, март 1968 г.
Он подошел к окну и болезненно поморщился: Пол сидел на ступеньках соседнего бунгало и задумчиво перебирал струны гитары. Взъерошенные со сна волосы торчали в разные стороны, придавая его и без того детскому личику выражение совершенной и беспредельной невинности. Джон готов был бы побожиться, что тот еще даже не умывался и не чистил зубы, а прямиком с постели взялся за гитару. Удивительно, что хотя бы нашел у себя терпение одеться, а не броситься к инструменту прямо в неглиже: когда Пола настигало вдохновение, с ним нередко случалось и такое. Джон непроизвольно и неожиданно сильно стиснул пальцами раму окна, впиваясь ногтями в ветхое дерево с облупившейся краской. Слегка наклонил голову, пытаясь разглядеть лучше выражение лица друга. Усмехнулся. Пол весь был погружен в себя. Тонкие пальцы его бегали по грифу, казалось, без всякой цели и смысла, но Джону было прекрасно известно, что именно в таком медитативном состоянии у него рождались всегда его лучшие мелодии, которые пел потом весь мир. Наверное, далее следовало бы заявить нечто претенциозное вроде: в такие минуты молодого гения беспокоить не стоит, иначе мелодическая нить навсегда ускользнет из сознания величайшего композитора современности, а настроение его будет испорчено минимум до конца месяца. Впрочем, как и ваше, если вас угораздит стать источником этого самого беспокойства. И все это безусловно было самой что ни на есть истиной, вот только касалось не Пола, так заразительно сейчас зевавшего и продолжавшего что-то бормотать себе под нос, вероятно, подбирая текст к уже родившейся музыке, а Джона, наблюдавшего за процессом со стороны и едва ли заметившего, как ошметки краски с рамы уже впились ему под ногти. Подойди сейчас к Полу даже не Джон или кто-то еще из Битлз, не Махариши и не Джейн, а просто совершенно случайный человек, задай Полу самый банальный вопрос на свете, и Пол отложит гитару, мило улыбнется, кивнет и обязательно вдумчиво ответит, а потом пожелает нарушителю спокойствия хорошего дня, вернется к гитаре и как ни в чем не бывало допишет свой новый шедевр. А потом встанет со ступенек, отряхнет широкие белые штаны и отправится умываться, а затем есть противный диетический завтрак, который Джон за эти несколько дней пребывания в Ришикеше уже не мог видеть, мечтая о нормальном беконе и человеческой яичнице. Да, гении бывают и такие: не громящие гостиничные номера, а аккуратно стелящие за собой постель. Не огрызающиеся на всех и каждого, а мило беседующие со всяким, подвернувшимся ему под руку. Черт побери, и как у него это только выходит?!
Взгляд Джона скользнул от пальцев к груди и замер на гирлянде ярко-оранжевых цветов. Ну надо же, и ее не поленился нацепить. Вышел на крыльцо при полном параде. Это ж Пол, черт возьми. Он и в Ливерпуле на своей нищей Фортлин роуд выглядел заправским денди в опрятном белом пиджачке и с неизменным элвисовским коком. Он находил время и желание выглядеть на все сто, не имея за душой ничего, и сейчас, имея все, он не изменяет старым привычкам. Джон невольно улыбнулся, вспоминая, как тот поправлял ему галстук перед выходом на сцену – сам Джон почти не придавал значения опрятности своего облика. За него это всегда делал Пол. И он ловил себя на мысли, как приятна ему эта забота, эти прикосновения. Ловил и задерживался на ней, смакуя, но не позволяя себе пойти чуть дальше в объяснении ее причин и природы.
Цветы на груди Пола были совсем свежими. Джейн позаботилась с раннего утра? Сердце Джона неприятно екнуло: по приезде он специально поселился в отдельном бунгало и не позволял Синтии даже проникать внутрь. А Пол, казалось, не уловил в этом поступке ни малейшего намека, ни единого сигнала и со спокойной совестью вселился в соседнее бунгало вместе с рыжеволосой Джейн, которая и радовала его теперь роскошными нарядами и свежими цветами. Менее подходящую женщину рядом с Полом и представить было сложно. Правда, осознавал это один только Джон. Остальные неизменно ахали, какая это красивая пара да как им обоим повезло друг с другом. В один из таких липких моментов неприкрытой лести Джон не выдержал и брякнул в подлинно своем духе:
– Дженни, а как часто ты мастурбируешь? Может, поделишься секретами мастерства?
Узкие зеленые глаза Джейн расширились до совсем уж неподобающих для светской дамы размеров, восторженные окружающие заохали, заизвинялись и сразу откланялись, а Полу, наверное, стоило бы врезать другу в тот же миг, чтобы навсегда отучить от подобных публичных скабрезностей, но он лишь повернулся к невесте и виновато улыбнулся, пожимая плечами. Дескать: это Джон, что с него взять. Шут Джон со своими привычными колкостями. Ничего удивительного. А вот если бы Джейн тогда громко расхохоталась, как бы невзначай касаясь плеча Джона, давая тем самым знак, что она своя, она с ними на одной волне, она понимает этот грубый портовый юмор, тогда, возможно, Джон и вправду рассердился бы. А сердце екнуло бы уже от самой настоящей ревности, которую никогда в действительности не вызывала в нем изящная, кукольная, укоренившаяся в искусстве, сплавленная из лучших образчиков бомонда, но совершенно чужая Полу Джейн. Зачем он вообще обзавелся этой девушкой, которую никогда в реальности и не любил? Джон давно пытался найти ответ на этот вопрос, но все попытки выяснить это у самого Пола неизменно натыкались на милую улыбку, элегантно прикрывающую бетонную стену молчания: Пол умел игнорировать неудобные вопросы, даже если их задавал наглец и шут Джон.
Боль от ошметков краски под ногтями достигла, наконец, сознания, Джон чертыхнулся и затряс рукой, пытаясь избавиться от впившихся в плоть острых кусочков. Потом побежал в ванную вычищать их щеткой с мылом, а когда минут через десять вернулся к окну, Пола на ступеньках уже не было. Двадцатипятилетний гений умел сочинять шедевры за считанные минуты. Джон вздохнул, подошел к зеркалу, кое-как пригладил шевелюру и вышел из бунгало. На несколько мгновений замер у двери, словно бы мучительно вспоминая о чем-то или не решаясь на что-то. Затем отпустил ручку, дверь жалобно скрипнула и захлопнулась, а Джон уже стремительно шагал по тропинке к соседнему бунгало. Ну теперь у него, по крайней мере, есть беспроигрышный повод заглянуть к другу и обсудить свежую песню: тому точно будет о чем поговорить, а Джон… ну, в конце концов, он может показать Полу набросок Child of Nature, который давно вертелся в голове. И тот не догадается, что зашел Джон просто так. Потому что хотел его видеть. Потому что прошло уже несколько дней покоя, жары и медитации, а они еще ни разу не остались с глазу на глаз и не поговорили. С Джейн он уж как-нибудь разберется. И без стука дернул на себя дверь соседнего бунгало, искренне надеясь, что не застанет Пола снова в том неудобном положении, в котором так часто в прошлом уже заставал его.
И опоздал совсем немного: Пол как раз почти успел переодеться и в этот самый момент застегивал на груди плотную голубую рубашку.
– Чем белый костюм не угодил? – язвительно усмехнулся Джон и протянул ладонь для приветствия.
– О! Я как раз к тебе собирался, – с неподдельной искренностью расплылся в улыбке Пол. – Набросал тут кое-что, хотел показать.
– У меня тоже пара идеек наметилась, – и Джон без спроса плюхнулся на диван, взял гитару Пола и, ни на секунду не замешкавшись, принялся перебирать струны.
Вошедшая в гостиную Джейн замерла, наблюдая за игрой Джона, потом нахмурилась и пробормотала, казалось, не обращаясь ни к кому конкретно:
– Гитара же леворукая, разве нет?
Пол, расслышав ее удивленную реплику, подошел к невесте, обнял ее за плечи и звонко чмокнул в висок:
– Джона это никогда не смущало. Он с легкостью играет и на леворукой.
– Поправочка, – вмешался Джон. – На его леворукой. С остальными как-то не складывается.
– А что, есть какая-то разница? У Пола какие-то особые гитары? – продолжала настаивать Джейн. – Струны как-то иначе натянуты?
– Так, ну хватит, – перебил ее Джон, делая Полу знак, что пора бы избавиться от Джейн и заняться делом.
– Милая, – тут же заюлил тот. – Я позже все тебе объясню. А сейчас нам с Джоном надо работать.
– Ну ладно, – пожала она плечами. – Я тогда пойду досыпать. С этой медитацией поднялась сегодня ни свет ни заря, – она заразительно зевнула и скрылась в спальне.
Понимая, что задержаться в бунгало теперь уже не удастся, Джон поднялся:
– Пойдем посидим снаружи? Не хочу при ней…
– Да, не будем ее беспокоить, – кивнул Пол и пропустил друга вперед, аккуратно и бесшумно закрывая дверь за собой.
На веранде за домом стояли два летних кресла, Пол присел на ближайшее, откинул голову и шумно выдохнул:
– На самом деле, я и сам не выспался. Но с раннего утра эта мелодия покоя не дает. Пришлось подобрать, чтобы не забыть, – и он запел очень тихо: Born a poor young country boy, mother nature's son… All day long I’m sitting singing songs for everyone.
Джон до боли сжал подлокотники кресла, едва сдерживая мучительный стон: с каждым разом это становилось все более невыносимым – вид этих тонких пальцев, бегающих по струнам, этих полуприкрытых век с дрожащими ресницами, этих непослушных темных прядей на совсем еще мальчишеском лбу… Этот голос, умеющий быть таким разным – резким, хриплым, грубым, нежным, тонким, просящим, прыгающим из рыка в шепот и обратно. Джон закусил губу и отвернулся. Кажется, в Лондоне все-таки было легче. Встречаться раз в неделю по субботам, сидеть на краю бассейна, болтать ногами в нагретой воде и обмениваться ничего не значащими фразами, зная, что за спиной где-то в доме хлопочет Синтия, и можно не напрягаться, не мучиться душевными болями. Видеться чаще в студии, чем где-либо еще, а потом расходиться по своим крепостям, изредка перезваниваться, но все чаще натыкаться на автоответчик. Иногда посматривать на черно-белое фото на стене, сделанное всего-то пару лет назад, когда, впрочем, все было настолько иначе, что и глаза Джона с фото светились каким-то совершенно непостижимым счастьем лишь оттого, что он стоит рядом Полом, положив руки ему на плечи, и ему позволено так стоять, Пол ничего не переведет в шутку, не оттолкнет со смехом, а вытерпит до конца череды снимков. И фотограф не торопится, он знает свое дело, он нащупывает висящее в воздухе, почти ощутимое физически напряжение и ловит его, ловит в объектив, на вспышку. И Пол терпит. А Джон наслаждается.
Черт побери, иногда и впрямь лучше не видеть, убрать с глаз долой и не напоминать себе, не теребить успокоившуюся было память. Индия – это, конечно, здорово и увлекательно, но… слишком близко. Непозволительно. После полутора лет отстранения, отчуждения, поиска новых друзей и увлечений снова сидеть с ним бок-о-бок, слушать, как он напевает что-то себе под нос, и продолжать играть роль друга. Невыносимо. Джон открыл глаза, и взгляд его замер на воротнике голубой рубашки, не смея переместиться чуть выше к шее. Решение во всем признаться приходило тысячу раз за все эти почти одиннадцать лет. И тысячу раз отметалось как совершенно негодное. Ну какие тут могут быть откровения? Все и так ясно. Искусство, музыка, Джейн, хорошее вино – вот и все. Смыслы и подсмыслы – это не про Пола, он прост, линеен и одномерен. Ни камня за пазухой, ни порочного увлечения за душой.
Джон придвигает деревянное кресло чуть ближе. Порыв снова настигает, накрывает его с головой, и он пытается сопротивляться: если когда и следовало заводить обо всем этом речь, так в Париже в 1961-м, в мире романтики и банановых коктейлей. Но не сейчас со спящей за стеной Джейн, с миллионами в кошельках и с безнадежно искалеченными славой и распутством душами. Джулия бы этого не одобрила. Она непременно заставила бы Джона высказаться, и будь что будет. Любая правда хуже неизвестности. В конце концов, чем черт не шутит? Да и подходящая формулировка уже давно пришла на ум, оформилась и звучала вполне себе безобидно. Если Пол не придаст ей особого значения, то все пройдет как надо, и он вряд ли поймет, чего Джон хочет на самом деле.
Джон шумно откашлялся, повернулся к другу и произнес, качая головой:
– Неплохо. В тексте править нечего. Милая гитарная баллада. Вполне сгодится для второй стороны альбома, – и хитро улыбнулся во весь рот.
– Ах ты! – рассмеялся Пол, ставя гитару рядом с креслом. – Покажи лучше свой набросок. Посмотрим, на какую сторону отправить его.
– Настроения нет, – махнул рукой Джон, изо всех сил пытаясь делать вид, что ему и вправду лень, а хочется просто побездельничать, послушать шум деревьев, болтать ерунду, наслаждаясь привычным все принимающим молчанием Пола… – Мы ведь богема, не так разве? Давай хоть в Индии отдохнем от этой музыкальной гонки. Я чертовски устал.
– Мы уже полтора года не гастролируем, – брови Пола взлетели вверх в искреннем изумлении. – Ты себя плохо чувствуешь? Может, стоит до врача дойти? Джон, ЛСД в таких количествах до добра не доведет.
– К черту. Я свою норму знаю. Перенюхаю и перепью любого Тару, а? – и деланно рассмеялся.
– Сейчас его любой перепьет, – печально протянул Пол. – Не трогай парня. О мертвых уж либо хорошо…
– … либо ничего, кроме правды, – перебил его Джон. – Мерзкий парнишка был. Туда ему и дорога.
– Джон! – Пол давно уже привык к подобным выходкам друга, но все равно считал нужным каждый раз осаживать бестактного шута.
– Что, качественную дурь тебе подгонял? Иначе чего бы ты за него заступался? И именно с ним первую марку лизнул…
– Не надоело? – устало выдохнул Пол. – В который раз уже обсуждаем тот мой первый ЛСД-трип. Если бы не Тара, меня, может, сейчас и в живых-то не было. Он опытный, проконтролировал дозировку… А с тобой вдвоем мы бы точно угробились.
– Барри тоже ох какой опытный! – проскрипел Джон, вытягиваясь в струнку и корча странные рожи.
– Ты же понимаешь, что мы не можем вечно топтаться на месте. Наша музыка должна развиваться, и Барри очень помогает мне в этом. Достает эксклюзивную литературу и фильмы, какие-то дефицитные билеты на редкие спектакли.
– Плевать я хотел на всю эту богемную чушь. Хочу быть старым рок-н-ролльщиком в драной коже, как в Гамбурге.
– А кто мне только что заявил, что мы богема, а? – подловил его Пол и тут же тепло улыбнулся.
– Богема, – черт побери, – тут не поспоришь. И мне мерзко от этого. Все эти бассейны, роллс-ройсы, лимузины, дорогие вечеринки, шикарные шмотки, дома, где легко потеряться… как будто все это не со мной происходит. Это не я, не тот 19-летний Джон, который верил в вечную любовь и вечное счастье, не заключающееся в деньгах и количестве тачек. Слушай, давай бросим все это, а? Ну вот хоть прямо сейчас. Выкупим тот остров. Ну или какой-нибудь другой, если тебе конкретно тот не по душе. Поселимся там, пошлем к дьяволу весь мир, пусть лопают Сержанта и наслаждаются, а у нас будет свой маленький мир.
– Думаешь, о таком счастье мечтал юный Джон бунтарь? – усмехнулся Пол, протягивая руку и осторожно гладя Джона по запястью. – Уединенная жизнь на краю света? Джон хотел славы, денег, девушек, яркой и беззаботной жизни.
– Он любить хотел, – обиженно выдавил из себя Джон. – Не как богема.
– Любить весь этот мир со всем его разнообразием, любить и исправлять его, изменять к лучшему, быть его частью, но одновременно и возглавить. Вот такой сумасшедший и неповторимый гений был тот юный Джон, – губы Пола вновь растянулись в доброй улыбке.
– Нет, тебя, – неуклюже брякнул Джон и тут же прикусил язык, отворачиваясь и отчего-то болезненно надеясь, что Пол не поймет и даже переспрашивать не станет, просто пропустит этот выношенный годами, вымученный порыв нечаянной дерзости мимо ушей и дальше продолжит вспоминать юного Джона бунтаря.
Но Пол нахмурился и по стародавней привычке закусил большой палец: чем неуютнее ему было, тем дольше он не вынимал палец изо рта. Джон замер, чувствуя, как бьется о грудную клетку совершенно осатаневшее сердце.
– Не как богема? – наконец, переспросил Пол. – А как любит богема?
Обиделся, – осенило вдруг Джона. Воспринял на свой счет. Свой и Джейн. Попытки оправдаться прозвучали бы нелепо да и выглядели бы именно как попытки, поэтому Джон выдержал паузу, потом резко развернулся к Полу всем корпусом и, четко выговаривая буквально каждый слог, словно выдавливая засохшую пасту из тюбика, произнес:
– Он всегда хотел любить тебя, – и мир Джона тут же рухнул, придавливая его под собой, ибо он заранее знал ответ, но если раньше можно было хотя бы мечтать и надеяться, то теперь оставалось лишь выслушать неизбежное и проглотить его.
– Джон… – мягко начал Пол без картинных пауз, снова поглаживая его ладонью по руке. – Все хорошо, правда. Все будет хорошо. Битлз проживут долгую прекрасную жизнь, мы никогда не расстанемся. Я всегда буду рядом.
Понял, кажется, все-таки понял, но совсем не так, как рассчитывал Джон. Черт, придется все-таки уточнять, вдаваться в такие ненужные подробности.
– Богеме ведь не зазорно, так? У вас же с Фрейзером уже было такое, разве нет? – ухватился он за последнюю ниточку, понимая, впрочем, что вот теперь уже у Пола просто нет шансов как-то иначе его понять.
– Было что? – наконец-то, насторожился Пол, непроизвольно отдергивая руку, но, кажется, даже не замечая этого невольного жеста.
– Ну, то же, что и у нас с Брайаном в Испании. Ты же не будешь говорить, что поверил мне тогда? А ведь я солгал.
– Джон! – охнул Пол и побледнел.
Темные пряди резко очертили контуры внезапно побелевшего лица, и на секунду Джону почудилось, что Пол превратился в мультяшного героя, персонажа аниме.
– Ну а что, разве богема не имеет права на такие милые шалости? Надо же попробовать в жизни все. В наркоту мы уже окунулись, так почему бы, собственно, не…
– У нас ничего не было с Робертом, – оборвал его Пол. – И быть не могло. Я не из таких, Джон. Уж тебе-то это должно быть известно, – в голосе Пола слышался странный упрек.
– Известно, как же, – съязвил Джон. – Как будто я из этих! Ну захотел Брай отсосать у меня, делов-то. Позволил мужику снять напряжение, подумаешь, велика важность. Мне это ничего не стоит, а у него воспоминания, может, на всю жизнь останутся.
– Да ради бога, Джон, я разве что-то имею против? Только вот какое это отношение имеет ко мне и Роберту?
– Зачем вы ездили тогда в Париж? – в голосе Джона послышалась угроза.
– Боже, мы покупали картины, и ты не хуже меня это знаешь!
– В Париже?
– Там лучшие галереи! Там выставляются все современные художники! Странно было бы искать хорошую живопись где-то за пределами Парижа! – не выдержал Пол.
– То-то у Фрейзера так глазки поблескивали по возвращении. Зажал тоже тебя поди между картинами-то?
– Что за бред ты несешь? – казалось, совершенно искренне был возмущен Пол.
– Ну если у вас и вправду ничего такого не было, – как-то быстро пошел на попятный Джон, – тем лучше. Все когда-то приходится пробовать впервые. Ты же уже и травку курил, и ЛСД глотал. Как насчет новых острых ощущений? – прозвучало это пошло и мерзко, Джон сам поморщился от неуклюже построенной фразы, но уже не мог забрать ее назад, Пол уже все услышал и осознал.
– Роберт прекрасно знает о моей ориентации, – отчеканил он, – и никогда не попытается перейти рамки простых дружеских отношений. Даже если…
– Даже если? – вспыхнул Джон. – Да к черту Фрейзера, не о нем речь.
– Так о ком же тогда?
– О нас, – и мир рухнул повторно. На этот раз уже в самом деле и окончательно.
– Ты хочешь сказать, – с недоверием в голосе переспросил Пол, – что ты и я…
– Богема должна попробовать все, – с картинным равнодушием произнес Джон, но его выдал дрожащий надтреснутый голос.
– Дело правда в богеме и ее вольном образе жизни? – тихо переспросил, кажется, все уже понявший Пол.
Джон лишь помотал головой и тут же спрятал лицо в ладонях, пробормотав сквозь них:
– Давай, черт побери, просто попробуем, а? Не могу так больше, сил моих нет…
Лицо Джона приняло умоляющее выражение помимо его воли, да он и сам уже понял, что безбожно прокололся: хотел свести беседу к безобидному предложению попробовать в этой жизни все и в случае отказа поставить точку эффектной и язвительной шуткой, но все смазалось, поползло, и он чувствовал только, как пальцы впиваются в гладкие деревянные подлокотники, как нога, закинутая на другую, совершенно не по-ленноновски дрожит и дергается, а в глазах застыл вопрос. Вот только отнюдь не немой, а кричащий, раздирающий голосовые связки вопрос «ДА или НЕТ?!»
Джон попытался сгладить этот явный провал робкой улыбкой, но она вышла какой-то совсем уж заискивающей, выжидательной. Даже хорошо, что Пол в этот миг не смотрел на друга. Взгляд его потух и остекленел, рука снова потянулась к губам, зубы впились в ноготь большого пальца… Он нервно задергал аккуратной тонкой стопой в диссонирующем с остальным нарядом ярко-красном носке, а пальцы второй руки хаотично застучали по подлокотнику, словно бы в поисках мелодии, которая могла бы подсказать ответ человеку, который привык на все реагировать музыкой. Музыка была его сутью, его первым и, пожалуй, единственным я. И Джон всегда об этом догадывался, но в полной мере пропитался этим пониманием лишь теперь, когда мучительно ждал ответа, хоть и заранее знал, каким он будет – по окаменевшим чертам, по оледеневшему взгляду, по мучительным движениям узкой стопы… Увести все в шутку уже не получится, слишком поздно. Кажется, до Пола начал доходить истинный смысл их разговора, кажется, он что-то вспомнил, сопоставил, что-то понял и ужаснулся этому пониманию. Поздно отрицать, да и надо ли? Одиннадцать лет нескончаемой внутренней борьбы должны были, наконец, привести к закономерному финалу – на веранде бунгало в Ришикеше на берегу Ганга под ярким индийским солнцем. Среди ярких цветов, окунаясь в монотонные звуки омммммм. В обстановке света, счастья и любви. Любви, которой просто не должно было, да и не могло случиться.
Но даже поняв ответ, Джон не решался озвучить его сам, а продолжал покорно и выжидательно пожирать глазами зависшего в междумыслии Пола – наш этичный дипломат, всегда умевший выкрутиться из самой щекотливой ситуации, сейчас и вправду завис между мыслями о том, как не обидеть лучшего друга, не оттолкнуть его и при этом не дать тому повода надеяться на что-то большее, кроме самой лучшей, самой крепкой на свете… но только дружбы. Джон никогда еще прежде не видел Пола столь озадаченным. Никогда лицо его не отражало столь очевидных мук… ох, если бы выбора! Где-то неподалеку раздался едва уловимый щелчок затвора фотоаппарата, мелькнула вспышка, но ни один не обратил на эту мелочь никакого внимания.
Джон не хотел торопить друга, но это самоистязание измучило уже и его самого, и он со смехом в голосе пробормотал, наконец:
– Да говори как есть, не бойся обидеть. Словами ты уж точно обижать не умеешь, – и приложил ладонь ко лбу.
Пол поморщился и кивнул:
– Ты прав. Джон, понимаешь…
– Понимаю, – перебил тот. – Можешь не продолжать, я все понял
– Я все же скажу, если позволишь, – мягко настоял Пол и снова протянул руку, чтобы погладить запястье Джона, но тот отстранился и помотал головой, давая понять, что это сейчас уж точно лишнее. – Я понял тебя, понял, что не в богеме тут дело и не в острых ощущениях…
– Ладно, забыли, – не выдержал мучительного начала Джон и снова схватил леворукую гитару Пола, принимаясь нервно перебирать струны.
– Ну не странно ли это, что из всех леворуких гитар играть ты можешь только на моих? – задумчиво протянул Пол, завороженно наблюдая за движением пальцев Джона. – Вот Джейн спросила, чем мои гитары отличаются от всех остальных…
– Ничем, – огрызнулся Джон, не поднимая глаз.
– Вот именно, – словно не замечая обиды и озлобленности в голосе друга, продолжал Пол. – И дай мне сейчас твою – я ведь на ней тоже без труда сыграю что-нибудь. Даже не задумываясь, что она для правши. Потому что она на твоя. С гитарой Джорджа у меня уже так не получится. Разве может быть что-нибудь глубже и сильнее этого ощущения?
Джон нахмурился и поднял на друга удивленный взгляд, не понимая, к чему тот клонит.
– Да прекрати ты, – процедил он. – Завязывай с этой жалостью, я не ранимый подросток. Я все усек. Давай просто забудем. Я признался тебе в любви, ты вежливо отклонил мое предложение. Все как в лучших и интеллигентнейших домах Лондона и Парижа, – и Джон широко улыбнулся, растягивая губы в неестественную гримасу. – Забыли. Давай песню новую покажу. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you… – Пол мягко, но при этом совершенно безапелляционно забрал у него гитару и поставил ее рядом с собой.