
Ирина Тосунян
Я! Помню! Чудное! Мгновенье!.. Вместо мемуаров
Вместо мемуаров
Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь…
Марина Цветаева
Когда Лидии Корнеевне Чуковской исполнилось 13 лет, ее отец, Корней Иванович Чуковский, подарил дочери толстую тетрадь – чтобы вести дневник, – и сказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на твоих глазах. Не рассчитывай на кого – то, кто будет читать, а пиши для себя». И она писала: события, разговоры, факты. Всю свою жизнь. Эти «дневники» стали основой ее литературного творчества, и именно из них потом сложится самая знаменитая ее книга – четырехтомные «Записки об Анне Ахматовой».
Когда меня приняли на работу в редакцию «Литературной Газеты» (газета была тогда на пике популярности и славы), под расписку выдали небольшой, но тяжелый кирпичик диктофона Sonny в черном кожаном футляре, три кассеты к нему – для интервью, и велели хранить их как зеницу. Рукописный «дневник» журналистам был уже без надобности, магнитофонная лента сама дотошно сохраняла все детали бесед и интервью, которые полагалось вести по долгу службы. А чувства? Они, поверьте, были в записи «слышны» и превосходнейшим образом ощущались и сегодня ощущаются.
Следующий диктофон, маленький, с миниатюрными кассетами к нему, я купила уже сама. А когда кассет и мини – кассеток скопилась целая гора и пришло время цифровых технологий и фейсбуковских просторов, мой новый диктофон умостился уже не на ладошке, а на двух пальцах руки… Я завела в социальной сети рубрику «В среде поэтов и эстетов», где стала вспоминать поэтов и прозаиков, современников, которых знаю или знала лично. Со временем «воспоминания – интервью» разрослись, расцветились (из собственного архива) эстетами всех мастей – сценаристами, художниками, музыкантами, режиссерами, актерами…) стали, что называется, жить своей собственной жизнью и своей драматургией. И вылились в книгу, которую вы сейчас открыли, и которая заполнена разговорами и текстами, сделанными на основе бесед с моими знаменитыми современниками. Первая запись датируется 1988 годом, последняя – год 2017 – й.
Вениамин Каверин, Венедикт Ерофеев, Юрий Левитанский, Сергей Аверинцев, Арсений и Андрей Тарковские, Лидия Чуковская, Елена Чуковская, Тамара Иванова, Юрий Нагибин, Борис Хазанов, Владимир Дудинцев, Лидия Григорьева, Юрий Карабчиевский, Семен Липкин, Тонино Гуэрра, Вера Кальман, Давид Тухманов, Константин Райкин, Александр Есенин –Вольпин, Александр Волков и многие другие… К каждой беседе я тщательно и увлеченно готовилась, перебирала все доступные источники, делала выписки, волновалась, радовалась, огорчалась. Это была увлекательная жизнь. Их жизнь. И моя жизнь.
А чтобы читателю было легче ориентироваться, условно разделила книгу на три части – соответственно годам рождения моих собеседников. «Часть Первая» – поколение тех, кто родился в эпоху модерна и Серебряного века. «Часть Вторая» – 20 лет спустя, то есть тридцатые и сороковые – одинаково роковые годы двадцатого столетия. Для третьего раздела взяла строку из романа в стихах «Круг общения. Житейская хроника» поэта Лидии Григорьевой: «И выросли они, войны не зная».
Часть первая
Ровесники эпохи модерна и Серебряного века
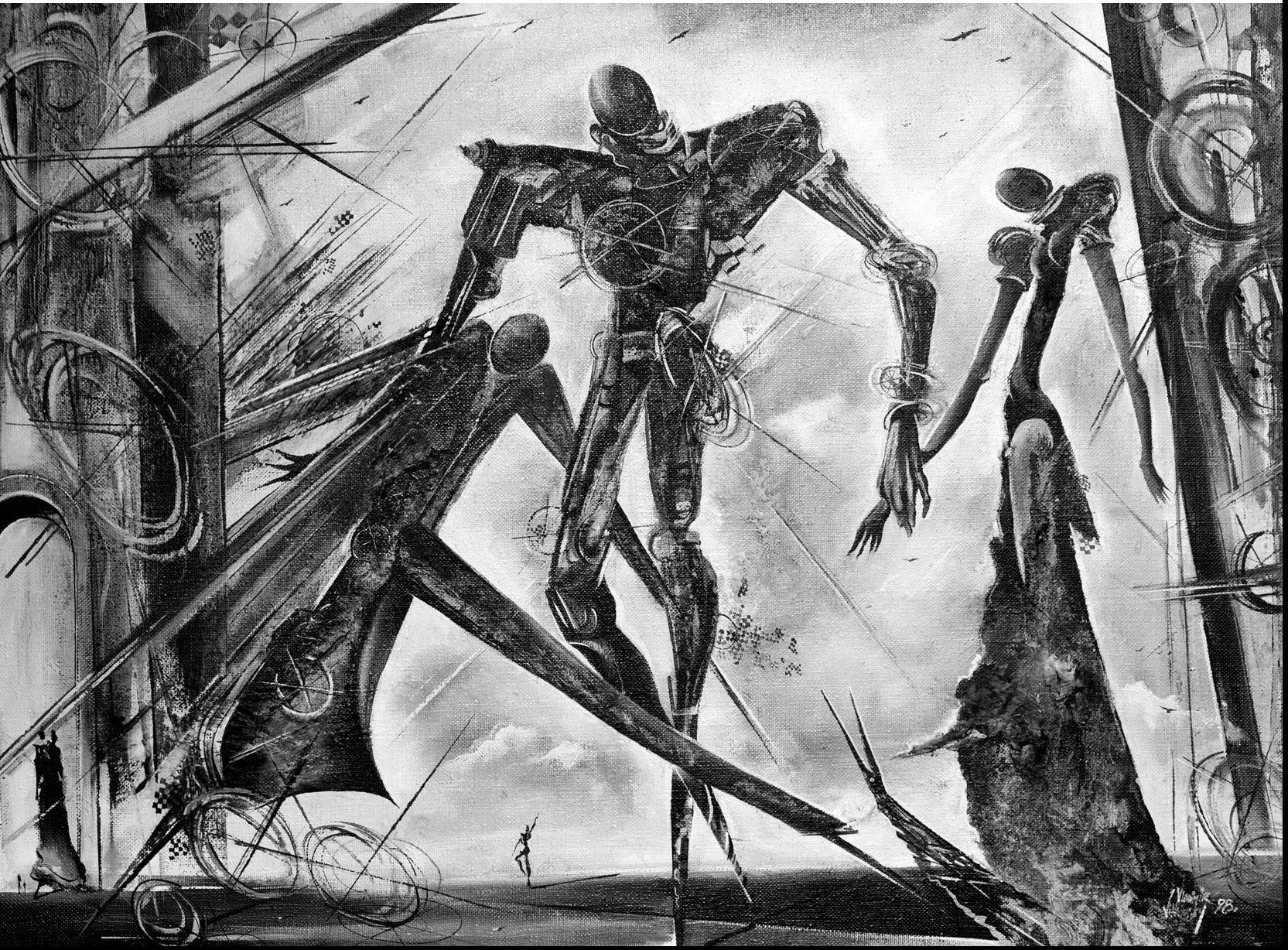

Вениамин Каверин:
«Уже написана первая фраза…»
К Каверину я приехала в самом начале мая 1988 года. Снег в Переделкино уже растаял, но утро было неприветливое, пасмурное. Дверь открыла пожилая и тоже хмурая домоправительница со страшным вывернутым веком (это веко, признаюсь, поначалу изрядно меня испугало). А Вениамин Александрович – маленький, худой, с трудом поутру передвигающийся, – наоборот был приветлив, охоч до разговоров и, в противовес нехолодной погоде и хорошо натопленному дому, плотно упакован в дубленку, шапку и валенки. Писатель только встал и собирался завтракать. Домоправительница внесла поднос с чаем и сладостями. Расчистила краешек длинного обеденного стола, заваленного книгами, журналами, бумагами, расстелила салфетку… Поставила стакан с чаем и для меня. Я тут же примостила на освободившемся пятачке, отвоеванном у бумаг, увесистый «кирпичик» диктофона Sony – последнее достижение техники конца восьмидесятых…
– А Вы знаете, – начал разговор Каверин, – каждое утро я встаю с желанием кинуться к письменному столу, написать хотя бы несколько строк…
Я застыла: это была прямая цитата из его романа «Двухчасовая прогулка», проштудированного мной как раз накануне приезда к мэтру. «Проверяет меня? Зачем?», – в смятении подумала я и вспомнила, как кто – то из «добрых» коллег «порадовал»: «живой классик», к которому меня отправили «беседовать», имеет обыкновение говорить резкие вещи с наивным видом. И тогда, затравленно оглядев стол, я обнаружила спасительный «рояль в кустах», тот самый, только – только вышедший в свет роман, ухватила, открыла на последней странице эпилог и громко, с выражением зачитала:
– Ты написал сказку, – говорит ему один из друзей. И автор задумывается. Может быть, он всю жизнь пишет сказки? Задумчиво бродит он по комнатам. Вот это, кажется, удалось, а это – нет. Скуповато построен дом, мало света, надо бы сделать окна пошире.
И ему <…> начинает мерещиться, что за главным он не разглядел самого главного. Что значительные подробности пробежали рядом с ним и догнать их, оценить их так и не удалось <…>. Историями по – прежнему набит белый свет. Они совершаются открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные – стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них <…>. И вот начинается строгий отбор, вспоминается собственная жизнь, обдумываются отношения. Еще не найдена таинственная связь, которая, может быть, заставит читателя листать страницу за страницей. Белый лист лежит на его столе и на нем – никуда не денешься – уже написана первая фраза…
Я читала, а Каверин смотрел на меня хитрыми смеющимися глазами экзаменатора и аппетитно хрумкал печеньем. Наконец до меня дошло: все, сказанное им и зачитанное мной, для него вовсе не откровение, а состояние, естественное состояние писателя, прожившего в литературе к моменту нашего разговора 67 лет и относящегося к ней сегодня так же, как в ту далекую пору 1921 года, когда под впечатлением первой встречи с Горьким он дал себе клятву посвятить жизнь литературе.
– Вениамин Александрович, – я тоже улыбаюсь (облегченно!), – одно только перечисление уже написанного Вами вызывает трепет и займет много страниц машинописного текста: романы, повести, публицистика, мемуарная литература… Вот книга «Литератор», я прочла ее, не отрываясь, и мне кажется, Ваши опасения «Я много раз начинал эту книгу и откладывал в сторону, потому что мне казалось, что мои письма и многие страницы дневника, связанные с прошедшим, а подчас – и давно прошедшим временем так устарели, что их все равно никто не будет читать», – совершенно излишни. Едва появившись на прилавках магазинов (я сама еле успела купить), книга мгновенно разошлась. Воспоминания о Тынянове, Горьком, Чуковском, Шкловском, Мейерхольде, Таирове… Блестящие имена, интереснейшие художники. Нет только имени Мандельштама. Вот о чем, лично мне, хотелось бы прочитать в первую очередь. В прошлом, 1987 году в ЦДЛ состоялся первый, самый первый вечер памяти Мандельштама, где звучал его чудом сохраненный голос – он читал свои стихи «Я по лесенке приставной…», – и где в числе выступавших с воспоминаниями о поэте были Вы. Ваш рассказ о встречах с Мандельштамом показался мне тогда очень интересным, но нигде этого пока нет…
– Я знал Мандельштама, к сожалению, недостаточно хорошо, и хотя встречаться нам приходилось часто, не был с ним так близок, как Ахматова или Тынянов. Мандельштам ведь был странник, не имевший даже постоянного пристанища. Отчаянно смелый, решительный и чрезвычайно взыскательный к самому себе человек. Я был свидетелем того, как он публиковал свои вещи, и могу сказать, что, пожалуй, не знаю другого так заботливо относящегося к каждому своему слову писателя.
Именно Мандельштам произнес суровый приговор моим юношеским попыткам писать стихи. В 1920 году я считал себя если не выдающимся, то по меньшей мере значительным поэтом. Юрий Тынянов, которому я свои стихи прочел, сказал: «В тебе что – то есть» и посоветовал писать прозу. Над этим «что – то» я впоследствии размышлял много лет. А тогда… гордясь сложностью своих стихов, пошел к Виктору Шкловскому. Шкловский жил в Доме искусств в бывшей спальне Елисеева, умело оборудованной гимнастическими снарядами. Крутя ногами педали неподвижного велосипеда, он выслушал мои стихи и сказал: «Это элементарно». Его жена, чтобы утешить меня, положила лишнюю крупинку сахарина в мой стакан чая.
Но я не утешился, я отправился к Мандельштаму, чтобы услышать буквально следующее: «От таких, как Вы, надо защищать русскую поэзию». С тех пор я уж стихов не писал. Эта встреча с Мандельштамом запомнилась особенно. Он принял меня как невоспитанного человека, который, не снимая шапки, осмелился войти в храм. Сам поэт Осип Мандельштам был далек от визуальности, от вещности. Казалось, что его стихи состоят не из слов, а из оттенков слов, а его задача – создание новых смыслов. Тынянов считал, что свой музыкальный стих он принес из девятнадцатого века, и в этом смысле был, как мне кажется, близок своему единственному последователю, поэту Константину Вагинову, забытому в наше время, но такому сильному и оригинальному, что его поэзия, несомненно, будет оценена, и, может быть, очень скоро. Еще Мандельштам писал грустно – остроумную прозу, и как прозаик, очевидно, не был уверен в себе, потому что, уже сдав в журнал «Звезда» автобиографическую повесть «Египетская марка», трижды брал обратно рукопись, чтобы внести новые и новые исправления. Эти его произведения настолько чужды самому понятию «проза, что подчас кажется, Мандельштам сознательно и с чувством гордости настаивает на жанре «не проза».
– Вы хотите сказать, именно это обостренное чувство гордости, взыскательность к себе и другим причина его гибели?..
– Не так давно ко мне на дачу в Переделкино позвонили из следственных органов и спросили, могу ли я принять следователя, занимающегося делом Мандельштама в связи с его предстоящей реабилитацией? Я его охотно принял. Это был очень интеллигентный, любящий и знающий литературу человек. Он долго и подробно расспрашивал меня о моем знакомстве с Мандельштамом, а потом рассказал, что, в сохранившемся в архивах следственном деле поэта указано, что он высылается на три года в Чердынь за стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…», оскорбляющее Сталина. «Для меня, – сказал следователь, – уже многое ясно. Не ясно, правда, почему Мандельштам был так мягко по тем временам наказан». Я высказал предположение, что Сталин, привыкший к восхвалениям, был, вероятно, ошеломлен прямотой Мандельштама. Что, кстати, подтверждает и его телефонный разговор по поводу этого стихотворения с Пастернаком. Но, добавил я, – это только мои предположения.
– Скажите, а кто такой Павленко? – спросил следователь.
– Как, – изумился я, – Вы не знаете Павленко? В свое время это был один из самых влиятельных руководителей Союза писателей. У него даже прозвище было – «Правленко». Сегодня его имя забыто, ничего стоящего он не создал, так, несколько повестей и рассказов.
– Так вот этот самый Павленко – Правленко, – махнул рукой мой гость, – в НКВД черт знает что написал… А первый раз, когда Мандельштама арестовали, даже тайно присутствовал на допросе – сидел в шкафу, в комнате, где «работали» с поэтом и слушал, что и как тот говорит …
Оказалось, о причинах второго ареста и приговора, вследствие которого поэт был отправлен в лагеря, в деле не оказалось ни слова. Только показания самого Мандельштама, признавшего, что именно он – автор стихотворения. А единственным свидетельством, совпадающим по датам с арестом и высылкой, было письмо Павленко (сочиненное вместе с главным редактором «Нового мира» В.П. Ставским – И.Т.), где тот, по словам моего гостя, беспощадно громил творчество Мандельштама. И это письмо в НКВД, о котором, видимо, доложили Сталину, поэта и погубило. Мнение Павленко, именитого в ту пору литератора, без сомнения, повлияло на решение расправиться с Мандельштамом без предъявления каких – либо обвинений. (Весь этот кусок – о Павленко – в процессе подготовки материала в печать в «Литературной Газете» вырубили из текста. «Рубил» сам первый заместитель главного редактора, заявивший: «В Переделкино главная улица названа именем Павленко, и что теперь, в угоду вам с Кавериным прикажешь ее переименовать?». Но диктофонная – то запись у меня осталась, ее ведь ни росчерком пера, ни топором не вырубишь! – И.Т.).
Мандельштам не сразу погиб. Его просто поставили в условия, которые не давали ни малейшей возможности существовать, и Осип умер (мне Ю.Г. Оксман рассказывал) от голода, копаясь в куче отбросов…
Я помню, как Тынянов (тогда он еще мог ходить) добрался до сквера перед Казанским собором и не заметил, как к нему подошла Ахматова. Не поздоровалась, хотя любила его и была с ним в дружеских отношениях, лишь сказала: «Осип умер». И ушла. Она не в состоянии была говорить о смерти Мандельштама с человеком, у которого, может быть, не хватило бы душевных сил, чтобы без слез перенести эту страшную для нашей литературы весть.
– «Горька судьба поэтов всех племен; / Тяжеле всех судьба казнит Россию…», – эти слова В. Кюхельбекера – эпиграф Вашей повести «Силуэт на стекле», – как бы мостик, который я перекину к следующему вопросу. Повесть посвящена молодому томскому писателю Михаилу Орлову, его трагической судьбе. Имя Орлова впервые прозвучало из ваших уст, в писательских кругах его никто не знал.
– Года четыре назад ко мне явился молодой, плохо одетый и на вид очень несчастливый человек. А прочитав его рукописи, я понял, что передо мной талантливый и в полном смысле слова непризнанный писатель.
Главная мысль, объединяющая повести и рассказы Михаила Орлова, скорее даже, образ мыслей, который диктовал ему поведение в литературе, был не похож на принятый вообще образ мыслей и манеру поведения. С юных лет влюбленный в русскую литературу, он повторил классические традиции – широко раздвинул ее тематические масштабы и сделал это с умом и тактом. У Орлова было много рассказов – например, о Бисмарке, о Наполеоне, о влюбленном китайце, – которые, не имея прямого отношения к нашей действительности, тем не менее были связаны с ней своим нравственным фоном, своим, я бы сказал, нравственно – поэтическим направлением. Он видел перед собой великие примеры – «Египетские ночи», «Моцарт и Сальери» Пушкина, то есть вещи, которые тоже прямого отношения к русской действительности не имеют, но имеют высокую нравственную цель. Об этом Орлов думал, когда писал в своей «Апологии» (я привожу ее в повести «Силуэт на стекле»), о том, что мы напрасно ограничиваем себя только русским материалом. Литература – держава, которая имеет возможность и должна пользоваться всем, что уже сделано и что составляет гордость литератур разных народов. Мы ведь не на каком – то острове находимся, отделенном от всей литературы, мы входим в эту мировую державу.
Я практически не помню ни одного значительного произведения, построенного на «иностранном материале», скажем, о борьбе против фашизма в Германии или об Испанской республике, которую мы защищали.
Орлов эту неестественность прекрасно ощущал, он мыслил широко, и это было ново, хотя, в сущности, должно было быть традиционным. Что сказать, например, о романе Тургенева «Дым», где действие происходит вовсе не в России?.. К сожалению, связь между русским и другими народами, освещение которой – историческое и современное – нам так необходимо, занимает мало места в нашей литературе.
Я говорю о Михаиле Орлове «был», «писал», потому что через три года после нашей встречи, всего 36 лет от роду он умер от тяжелой болезни. В дни нашего знакомства я, как мог, помогал ему, устроил несколько его рассказов в «Смену», стал хлопотать о сборнике рассказов в только что созданном тогда Томском издательстве…
Грустная история. Сборник так и не увидел свет. Директор издательства, человек, скажем так, нерешительный, произведения Орлова ее напугали, может быть, своей формой, может, чем – то еще, не знаю. Но она направила рукопись на консультацию в Госкомиздат. Там ее «отрецензировали», а в сущности, ничего в ней не поняв, буквально разгромили… Вот тогда за покойного писателя вступилась Томская писательская организация, была создана комиссия, один из ее членов, поразивший меня своей образованностью, написал первоклассную, очень четкую и обоснованную рецензию в защиту сборника. И комиссия добилась, чтобы местное издательство не отказывалось от рукописи. Она была послана в соответствующий отдел обкома партии, откуда был получен прекрасный отзыв…
А решения как не было, так и нет, издательство по – прежнему колебалось. Вот таков короткий рассказ о судьбе талантливой рукописи и ее автора.
– Почти все экранизации своих книг Вы считаете в той или иной степени неудачными и с неохотой соглашаетесь на новые. А вот «Силуэт на стекле», названный повестью, написан скорее в жанре кинопрозы. В расчете на экранизацию?
– Нет, я никогда не думаю об экранизации, тем более, как Вы правильно заметили, не раз терпел неудачи в этой области. Лев Толстой когда – то говорил, что для русской литературы вообще не свойственна определенность жанра. Подтверждая эту мысль, можно привести бесчисленное множество примеров. С каждым годом все больше стирается граница между романом и повестью, с одной стороны, и между мемуарами и художественной прозой – с другой. Выход за границы эстетических канонов становится не исключением, а правилом.
Но то, о чем говорите Вы, относится к визуальной части повести. Это совершенно верно, написаны картины, связанные одним сюжетом. Причем я имею в виду не голую фабулу, а сюжет, развитие действия в известной атмосфере, связанное стилистически и построенное на материале, который может заинтересовать и литератора, и любого читателя.
– Что же поразило Вас в судьбе Михаила Орлова?
– Почему я решил написать именно это произведение? Должен сказать, что меня всегда интересовали молодые талантливые неудачники, к тому же жизнь Орлова прошла под знаком правды и ответственности, без которых не может существовать подлинное искусство. Трагическая судьба его не кажется мне случайной.
Повесть я писал сравнительно недолго, показал друзьям, в частности В. Лакшину, который дал ряд дельных советов. Два раза ее переписывал и, наконец, отдал в журнал «Знамя», где пролежав два года, она была опубликована.
– Что же, и эта Ваша вещь направлена на то, чтобы, как заметил один критик, «исправлять нравы»?
– Хотел этого или не хотел, все равно я буду учить нравственности. Я когда – то писал, что в России литература всегда была делом личным, что каждая серьезная книга как бы превращалась в письмо, обращенное к личности читателя. Русская литература не может и не хочет уходить от вопросов нравственности. Лев Толстой, например, с современной точки зрения, писал агитационные романы. Ну что такое «Воскресенье»? —
– Роман, агитирующий за нравственное отношение к женщине?..
– Не нужно слово «нравственность» понимать в элементарном, простом смысле. Мы, писатели, создаем художественную литературу и не призваны называть вещи в полной мере своими именами, это дело публицистики. Мы рисуем иногда тени понятий, но в надежде, что читатель по этим теням поймет, о чем идет речь. Поэтому я нигде не пишу слово «нравственность», надеюсь, что это понятие придет как результат оценки читателем характера, поступка, и, наконец, даже манеры писателя, самого его стиля. Как и в любом искусстве это все построено на оттенках мыслей, иногда на недосказанности, на борьбе характеров. Даже в тех произведениях, где я прямо ставлю добро и зло друг против друга, скажем, в «Двух капитанах» или сказочной повести «Верлиока», я далек от публицистики. Это не математическая формула, это искусство, требующее определенной умственной работы со стороны читателя.
– Когда вышла в свет Ваша первая книга, Вам едва исполнился двадцать один год…
– Да, и я поражаюсь тому, как поздно сегодня писатели вступают в литературу. В мое время было иначе. Современная молодежь плохо знает литературу, и это очень жаль. Потому что линия литературы, путь, по которому она шла – оступаясь, отступая, мучаясь, прячась, – никогда не прекращалась, и никогда не могла прекратиться. Мы вступали в продолжающуюся литературу, где был Блок, стихи и речи которого мы слышали, был Сологуб, Андрей Белый… Одним словом, мы приняли эстафету русской литературы. И когда я утверждаю, что «Воскресенье» – это роман, направленный на прямые нравственные цели, то выстраивается целый ряд других произведений. А что такое «Гамбринус» Куприна? Или «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева? Что такое Горький? Юрий Олеша? Бабель? И вот тут мы натыкаемся на проблему памяти, проблему нравственной обязанности мыслить исторически. Потому что без исторической памяти мы просто не сможем жить, не сможем работать. Это даже не обсуждается, это ясно как воздух.
– Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже говорил о теоретическом значении памяти в истории литературы и четко высветил неизбежную, нависшую над нами, необходимость нравственной позиции…
– И я счастлив, что твердую нравственную позицию, которой неуклонно придерживаюсь всю свою жизнь, заложил во мне Горький…
– Так получилось, что в том же апрельском номере журнала «Знамя», где напечатан «Силуэт на стекле», публикуются мемуары Константина Симонова «Глазами человека моего поколения», снова, в который раз, возвращая нас к очень больной для всех теме – времени культа личности Сталина. В книге «Литератор» у вас есть целая глава, состоящая из переписки с Симоновым, размышлений и воспоминаний о нем. Вы с ним писатели разных поколений. Симонов сформировался в годы, когда одни (вспоминая Ваш роман «Открытая книга»), разговаривая откровенно друг с другом, накрывали наивно подушками телефон, другие – везде и всегда молчали, делая вид, что ничего не происходит). После ХХ съезда партии у многих происходила переоценка ценностей, но нужно было большое мужество, чтобы эту переоценку в своей душе совершить в полной мере. Пример такого мужества – записки Симонова.
Процесс формирования писателей старшего поколения, мне кажется, проходил в более благоприятные для творчества времена. Или на вас культ личности тоже воздействовал в полной мере?
– Вы правы, мы с Симоновым принадлежим к разным литературным поколениям. Но, откровенно говоря, мне, уже очень пожилому человеку, жалко, что журнал «Знамя» напечатал эти воспоминания. Я познакомился с Симоновым в Ялте, в конце 30 – х годов. Это было личное знакомство, которому предшествовало, так сказать, литературное, внушившее мне симпатию и благодарность к нему. Но, знаете, я был поражен, услышав в ответ на мой вопрос, над чем он сейчас работает, что, вот, мол, намерен пойти к председателю Комитета по делам искусств М.Б. Храпченко и предложить ему три темы пьес. Мы, писатели 20 – х годов работали ни с кем не советуясь, что и как писать, и были в этом отношении верными учениками XIX века. Сам факт, что можно предлагать темы для заказа был для меня странным.
Я верил в искренность Симонова, видя его залитое слезами лицо на траурном собрании в Театре киноактера (умер Сталин – И.Т.), от горя он не мог говорить… Но я не могу примириться с тем, что его воспоминания подорвали в моем представлении образ отважного офицера, мужественного человека, каким все его знали. И когда я читаю, что по заказу Сталина он пишет пьесу и советуется с ним, как лучше ее написать, советуется с человеком, сказавшим о посредственной сказке Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука сильнее чем «Фауст» Гете», я думаю: вот оно, ощущение рабства, потеря своего лица. Да, это уже не человек, который творит свою волю в литературе. Думаю, излишне было так широко об этом оповещать.
– Ощущали ли Вы на себе всю тяжесть культа личности?
– Я – такой же, как все. Я все ощущал. Но ни разу, хотя написал много, ни разу не упомянул Сталина ни в прозе, ни в статьях, никогда и нигде. Ну, конечно, разве можно было не знать, не видеть всей лжи, всех предательств? Мое поколение это и видело, и понимало. Границы свободы были в то время чрезвычайно узки и для того, чтобы как – то их раздвинуть, приходилось уходить в другие области. Думаете, почему я так много писал о науке? В науке нельзя лгать, человек, который лжет в науке, тем самым выставляет свою ложь на сцену мирового мнения.
Да, мое окружение не способно было писать пьесы по заказу. Но даже в том, страшном, зажатом положении, в котором мы находились, подлинная литература, несмотря на Павленко и множество ему подобных, никогда не перерождалась. Она – продолжалась. Продолжалась Ахматова, продолжался Пастернак, продолжался Евгений Шварц, с неслыханной смелостью написавший в 1943 году «Дракона»… Литературу убить нельзя. Правда, можно убить отдельных ее представителей, как был убит замечательный писатель Бабель…
– Читая вашу переписку с Горьким, Шкловским, Тыняновым, я подумала: а сегодня писатели друг другу такие письма пишут? Или в наш стремительный век эпистолярный жанр захирел?
– Конечно, пишут. Я сам веду большую переписку и с писателями, и с читателями, но публикую только то, что имеет общий интерес, касается проблем литературы.
За последние годы наша затея – экспериментальный выпуск издательством «Книжная палата» альманаха «Весть», который называется так же, как наша инициативная группа, – объединила В. Быкова, Б. Окуджаву, Ф. Искандера, Д. Самойлова, молодых писателей. Кстати, первый выпуск альманаха уже сверстан. Составлен он из произведений, написанных в наши дни и нигде еще не публиковавшихся. Есть там и моя статья о I съезде Союза писателей СССР, участником которого я был. В ней я привожу имена писателей – делегатов, расстрелянных в конце тридцатых годов (по неполным данным Краткой Литературной Энциклопедии примерно 85 человек).
Передо мной прошла очень длинная писательская жизнь и должен сказать, что, конечно, писем раньше было больше. Писали друг о друге, полемизировали друг с другом и частная переписка смело могла представить интерес для любого нелитератора. Теперь пишут меньше, но пишут. Я, по крайней мере, на недостаток писем жаловаться не могу.
– Судя по Вашему рассказу о Михаиле Орлове, не только пишут, но и приносят рукописи на суд?
– И очень часто. Как – то так получается, что ко мне приходят за советом и помощью главным образом талантливые люди. А бездарные, видимо, зная, что я очень строгий судья, не решаются. Так что считаю, мне повезло, я более или менее в курсе работ нашей молодежи.
– Вы активно выступаете как публицист и в одной из недавних статей написали: «с такой ношей злобных несправедливостей, незаслуженных обид и, наконец, просто преступлений», которые выпали на долю нашей литературы за последние десятилетия, она «не может двигаться вперед или должна двигаться на подгибающихся ногах». С тех пор многое изменилось…
– Сегодня я считаю, наша литература находится в превосходном положении. Я вижу много молодых талантов, я радуюсь, что литература – это ясно доказали опубликованные вещи А. Платонова, Б. Пастернака, В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Гроссмана и многие другие – не прекращалась и не прерывалась никогда, она была зеркалом общества, как была, так и осталась. Приведу цитату из письма читательницы Лидии Гиларьевны Модель: «Много прекрасных публикаций появилось в журналах. Хочется крикнуть: "Пожалейте нас! Мы же 'ополоумеваем' от грандиозного потока (только в журналах), прибывающего каждый месяц. Приходится заводить картотеки – что, где, когда прочитано! А как же быть с основной работой? Сидим в хаосе, перестали убирать квартиры, на столах – свалка – газеты, журналы, письма друзей, на которые приходится отвечать по ночам!"».
На днях меня посетил один молодой писатель, Виктор Ерофеев, который сказал: «Я всей душой за перемены, которые на наших глазах преображают страну». И я согласился с каждым его словом.
То, что в писательской среде, и не только в писательской, идут такие горячие споры, меня не страшит. Потому что эти споры в сущности не касаются самой сути литературного развития, это споры политические, а литература идет уверенно своим путем, и то и дело появляются новые прекрасные произведения. Так что я в очень хорошем настроении, лучшего не бывает. Я полон надежд. У нас – хорошая литература.




