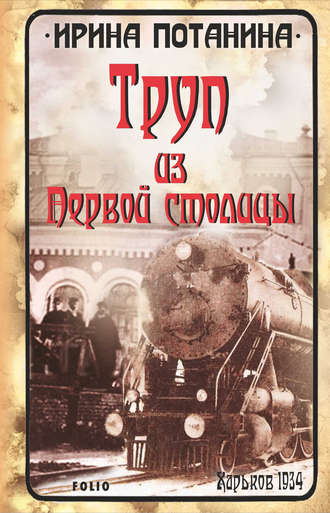
Ирина Потанина
Труп из Первой столицы
– И вовсе я не юная, – насупилась Света. – Я уже даже замужем.
– Ну это уж точно не показатель, – захохотала дама. – Моя сестра встретилась со своим мужем в 14 лет и, хотя обвенчались значительно позже, своим «днем обретения спутника на всю жизнь» она считает именно тот день. А я, если не считать увлечений юности и первого брака – а их считать не стоит, потому что это было пустое, – вышла замуж по-настоящему только шесть лет назад. То есть в 32.
Света не нашлась, что сказать, тем более, информация о почтенном возрасте собеседницы – внешне незнакомка казалась куда моложе – настроила на более уважительный лад. Хозяйка продолжила расспросы.
– Расскажите же, о чем ваше письмо и кому оно адресовано!
– Лично товарищу Сталину! – с нажимом произнесла Света, привстав.
Дама, однако, торжественности момента не оценила. Вместо этого, перекинув ноги с ручки кресла на подушку, принялась рассуждать:
– Поразительно, насколько близким человеком для всех советских граждан сумел стать товарищ Сталин. Вот оно – гармоничное устроение общества. Каждый обращается к генеральному секретарю как к родной матери! Каждый любит его, как высшую справедливость, заботящуюся о всех гражданах…
– Каждый? – настороженно переспросила Света.
– Вы уже третий человек за четыре дня, кто просит поставить подпись под обращением к товарищу Сталину. Одна гражданка писала жалобу на обитающую в перекрытиях дома моль. Один гражданин требовал выселить свою надоедливую соседку. Кто-то еще приходил с письмом о любви харьковчан к челюскинцам и просьбой назвать в честь них какую-нибудь улицу города. Да что там говорить! Даже моя сестра когда-то писала письмо вождю. Он, кстати, не ответил. Но мы все тщательно обмозговали, и знаем почему. Следующее ее письмо, если в таковом будет необходимость, уж поверьте, без ответа не останется.
Тут в комнату вплыло очень странное создание: весьма громоздкая фигура, облаченная в черный шелковый халат с капюшоном в виде птичьей головы, полностью закрывающим лицо. Пухлые, словно надувные пальцы, стиснутые множеством перстней, несли поднос с кофейником, двумя чашками и розетками с чем-то похожим на варенье.
«Ничего себе “милочка”!» – мысленно ахнула Света. Создание же, словно читая мысли, развернуло куриную голову к ней и… глухо закурклыкало. Самым натуральным нечеловечески-птичьим образом. Света прыгнула ближе к телефону, решив, что хозяйка, возможно, попросит сейчас вызвать врача сошедшей с ума даме, но вместо этого услышала ответное курлыканье. Незнакомка и дама в халате, ничуть не смущаясь, разговаривали по-птичьи.
– У мадам сложный акцент, – увидев неподдельный ужас в глазах Светы, поспешила сказать незнакомка. – Впрочем, вы и без акцента, наверное, ничего не понимаете. Это мадам Бувье, знаменитая у нас во Франции писательница и с некоторых пор поэтесса-авангардистка. Мы в шутку зовем ее мадам-поэтка. Так вот, мадам-поэтка говорит, что Милочке нездоровится, поэтому чай она подала сама…
Она с благодарностью поклонилась мадам-поэтке. Света, никогда до этого не слышавшая живой иностранный язык, густо покраснела, устыдившись дикости своей реакции.
– Ох! – спохватилась незнакомка. – Мы, кажется, совсем вас напугали. Разрешите представиться. Мы – группа французских литераторов, приглашенных на ваш республиканский Съезд писателей. Другими словами, мы – свита Луи Арагона. Знаете такого?
Света очень быстро и уверенно закивала. Про выдающегося французского писателя и поэта Луи Арагона газеты писали еще несколько лет назад, когда он приезжал в Москву публично отстаивать права сюрреализма. С отстаиванием у него, кажется, не вышло, но символом романтичной дружбы между коммунистами Франции и Советским Союзом он стал. Сейчас, когда все единоличные писательские ячейки закрылись, расчистив место для будущего всесоюзного писательского объединения, французских товарищей снова пригласили в СССР. В программе было посещение Москвы, а потом участие в качестве почетных гостей в первом Всеукраинском съезде писателей в Харькове. Свете никак не верилось, что с ними можно так запросто встретиться в обычной советской квартире.
– Мадам Бувье и ее юная компаньонка Милена послушали, уезжая из Москвы, доклад какого-то товарища про социалистический реализм как единственно верное направление культуры и облачились в траур. Горюют по убиенному сюрреализму. Носят уже четыре дня эти птичьи халаты, закрывают лица и скорбят. Несмотря на почтенный возраст и славу банальной романистки, мадам слагает прекрасные авангардистские стихи и знает толк в перформансах. Забавно и восхитительно смело, правда? – Не дождавшись от Светы однозначной реакции, дама продолжила: – Куча тряпья, что валяется в соседнем кресле, это наш уважаемый поэт Поль Шанье. Он у нас, скорее, из разряда поклонников, поэтому выступать нигде не будет. Заявлен в делегации одновременно и как поэт, и как исследователь жизни и творчества Маяковского, но на деле ничем не занимается. Не пытайтесь вспомнить, вы его наверняка не знаете. Его никто не знает. Луи считает, что у Поля большое дарование, и все впереди. Если изменит свое поведение, конечно. В общем, юн, талантлив и совершенно безнадежен в смысле самоконтроля и дисциплины. Беспробудно пьет с подросткового возраста, с тех пор, как потерял родителей – русских эмигрантов, скончавшихся от тоски по Родине лет эдак десять назад…
– Я все слышу! – Из скомканного одеяла на соседнем кресле показался ворох черных всклокоченных кудрей, и сонный голос, прокашлявшись, добавил: – И пью я вовсе не с тех пор, а только четвертый день. А что еще тут делать? Я хотел посмотреть СССР, я посмотрел. Я хотел посмотреть Харьков, про который мне все уши прожужжал живший тут до революции дядя, – я посмотрел. Теперь хочу домой, в прохладу каменных террас Монмартра. Немедленно! Я не желаю больше ни секунды плавиться в этой жаркой стране!
– В Париже он просыпается исключительно под вечер, поэтому существование яркого солнца и жаркого пыльного полудня для него новость…
– Какая чушь! Эллочка, свет мой, не нагнетай… А вы, дамочка, не верьте! – неожиданно строго рыкнул поэт на Свету. – Я, в общем-то, хорош и безобиден. Сплю в кресле, потому что Гавриловский храпит, как сатана, и я сбежал.
– Гавриловский вместе с Арагошей давно уже уехали по делам. Писатели сегодня пишут приветствие железному наркому обороны СССР, и Арагошу попросили непременно быть. Там, словно рыбки в ветвях коралла на Таити, снуют свои личные переводчики, поэтому Гавриловский смог сбежать в свое консульство. – Тут дама снова обернулась к Свете и добавила со значением, так, будто это хоть что-то объясняло: – Нет, не в свое, конечно, мы французы. Он просто дружит с водителем из немецкого консульства и тот помогает ему доставать детали для нашего авто. Гавриловский – фанат автодела и страшный педант. Не удивительно, что он дружит с шоферами, причем именно с немецкими. А на Таити я когда-то проживала. Так вот! – Последние слова она говорила, уже снова обернувшись к креслу: – Все на ногах уже давно и все ушли. А вы вчера изволили буянить, объясняться в творческой любви Арагоше, требовать взаимности, получили выговор по заслугам, расстроились и попросту не дошли до своей комнаты. Впрочем, как и всегда, – с улыбкой и даже почти что с нежностью проговорила хозяйка и снова вернулась к описанию компании. – Про центр и стрежень нашего общества – непревзойденного Луи Арагона – я вам уже говорила. Про нашего переводчика и друга адвоката Андре Гавриловского вы только что услышали. Осталось представить только меня. Эльза Триоле. Писательница, супруга и помощница Луи. Не пытайтесь вспомнить, вы меня наверняка…
– А вот и знаю! – перебила воодушевленная Света. – Я в библиотеке работаю! К нам поступала ваша повесть. Я читала! Вы… Я…
И Свету прорвало. Не удержавшись, она рассказала и о своем восхищении слогом писательницы, и о возмущении некоторыми откровенными сценами, которым не место в чистой литературе, и о неприятии буржуазного быта, и о важности таких книг для современного читателя, и, конечно, тут же, без перехода, о закрытой и несправедливо раскритикованной библиотеке при доме писателей имени Василя Блакитного, которую возглавлял такой славный товарищ Быковец…
– Что ж, библиотека – дело серьезное, – сказала Эльза Юрьевна, разобравшись. Она решительно встала и, вытащив из шкафа печатную машинку, пригласила Свету пододвинуться поближе к столу. – Петицию про библиотеку мы, пожалуй, подпишем.
– Э? – не поняла Света.
– Ну не петицию, а эту… как ее, не могу с ходу подобрать советское слово. Коллективную жалобу.
– Не жалобу, а письмо, – обиделась Света и тут же засомневалась: – Хотя…
– Не важно! – перебила Триоле. – Давайте работать! Вы совершаете ту же ошибку, что когда-то моя сестра. Пытаетесь объять необъятное! Написать личное письмо, сохранив общественные формулировки. Нет-нет! Сейчас мы все подправим. Возражения не принимаются. Если вы пишете лично товарищу Сталину, то нужно понимать, что, прежде всего, это письмо мужчине.
Света ахнула, а непутевый поэт нарочито громко присвистнул:
– Ох, Эллочка! Вот это ты загнула!
– Не спорьте! – строго цыкнула Эльза Юрьевна. Поэт покорно склонил голову и замолчал. Эльза Юрьевна опять с улыбкой повернулась к Свете.
– Метод Триоле в укрощении мужчин работает, точно как часы на городской ратуше, – подмигнула она. – Ты строго говоришь: «Не спорьте», требовательно смотришь ему в глаза и все, конфликт исчерпан. Но в письмах, разумеется, иначе. Письмо к мужчине существует в строго определенном жанре. Сначала нужно адресата похвалить, потом показать, что дело, о котором вы пишете, всегда было его личной идеей. И потом уже описывать нападки на это дело и свои робкие просьбы о защите. Понимаете?
И Света, в трезвом уме и ясной памяти, вполне осознавая, что совершает глупость, поддалась атаке группы иностранных товарищей и азартно принялась составлять новый текст.
«Коля меня убьет!» – радостно подумала она, наблюдая, как выбиваемые ловкими пальцами Эльзы Юрьевны буквы складываются в новое предложение, и задним умом прикидывая, удастся ли отстирать старые мешки, завалявшиеся в сарае, чтобы Колина мама пошила из них Свете такое же, как у мадам Триоле, смешное платье с прорезями…
* * *
Тем же утром, но значительно раньше, Коля Горленко тоже пытался объять необъятное. В частности, сохранить профессиональный подход в очень личном для него деле. По дороге в Полтаву он просматривал выданное Игнатом Павловичем досье на Ирину Онуфриеву. На жертву, если придерживаться правильной терминологии. Потомственная аристократка, до Великой октябрьской обучавшаяся в институте благородных девиц, была в возрасте 12-ти лет брошена бежавшими от Красной армии родителями. Осталась на попечении кухарки, которая, освоив все необходимые навыки и проявив себя, со временем стала руководящим работником советского жилкомхозяйства. Попечительница, а точнее приемная мать – в домашнем кругу ее даже так и звали «Ма», то ли сокращая имя Мария, то ли намекая на материнское отношение к Ирине, – дала девочке правильное воспитание и помогла стать на ноги. Онуфриева окончила балетную школу и поступила на работу в балетную труппу, где добилась немалых успехов. Танцевала первые партии, была любима публикой и газетами. О родителях и старом строе говорила с презрением, хотя публичного отречения в газете, как все порядочные люди, не написала. Была замужем за театральным критиком В. Морским… Отличалась некой холодностью и высокомерием, оттого мало с кем дружила. Но если уж дружила, то делала это со всей душой, всеми силами стараясь помочь друзьям и поделиться с ними всем хорошим, что имела в этом мире.
Последнее, ясное дело, Коля прибавлял уже от себя, потому что как раз они со Светой и были теми друзьями, которых Ирина то водила по обожаемому ею Харькову, рассказывая были и небылицы про каждый дом, то зазывала в гости как раз тогда, когда к Морским приходили самые интересные люди города, то, рассказав о репертуаре и особенностях всех многочисленных городских театров, снабжала билетами на спектакли, неизменно сопровождая их какой-нибудь вещичкой, которую одалживала Свете, чтобы той было что надеть в театр…
– Морг в подвале. Труп вас там ждет. Только опознание нужно сначала провести. Вы не годитесь, нужен кто-то из родственников. Таков порядок! – сообщил Коле пожилой полтавский судмедэксперт. Игнат Павлович отправился утрясать бумажные дела и выяснять новые подробности, Коля же пытался договориться о том, чтобы забрать Ирину.
– Не положено! – Все попытки разбивались о законопослушность полтавских сотрудников. – Критическая ситуация? Товарищ, вы в морге! Тут все ситуации такие. Все ЧП у нас по штатному расписанию.
Коля даже сбегал через дорогу на почту и вызвал телеграммой Морского, но тут же получил нагоняй от Игната Павловича.
– Ты кого слушаешь? Слабину дал, вот и выгребаешь теперь. Некогда нам ждать родственников. Полтаве харьковский труп не нужен, нам ясно сказано. Так что забираем и уезжаем. А то можем и без него уехать, пусть сами мучаются…
Пока Коля давал отбой Морскому, Игнат Павлович сам потолковал с судмедэкспертом. Назвал нужные фамилии, пригрозил звонком и трибуналом.
– Так бы сразу и сказали! – пожал плечами законопослушный полтавчанин и пошел за ключами.
Коля тем временем все листал досье и тонул в собственных воспоминаниях. Ирина была удивительно красивой и при этом отчужденно-холодной. Это даже не Коля решил – хотя когда-то он чуть в нее не влюбился, – это отмечали все, хоть единожды увидевшие Ирину. Даже Морской про что-то правильное говорил: «Идеально, как черты лица моей супруги». Отношения у Горленок и Морских разладились примерно год назад. Скорее даже по вине Коли и Светы. Трудные времена были у всех, но именно Света с Колей тогда, не имея ни одной свободной минуты, перестали заходить в гости. Пришли, конечно, когда узнали о смерти приемной матери Ирины. Уже даже не на похороны, а просто выразить соболезнования. Вспомнили, погоревали, ощутили, что настоящая дружба не проходит, даже если люди долго не видятся.
В досье, кстати, писали совсем другое. После смерти приемной матери Ирина Онуфриева якобы существенно изменилась. Открыто грубила начальству, настроила против себя всех, даже дружески расположенных ранее коллег. Со слов балерины и подруги Ирины, новой супруги режиссера Форрегера – Галины Штоль – выходило, что «Онуфриева после смерти приемной матери впала в тоску и не желала принимать ни общение, ни предложения о помощи от окружающих». В тот единственный визит, который Коля со Светой нанесли Морским зимой, Коля этого совсем не почувствовал. Впрочем, и охлаждения отношений между супругами он тоже не заметил. А в досье ясно было написано, что Морские развелись, утверждая, что собираются жить в разных городах и вообще уже почти год проживают под одной крышей без супружеских отношений.
Коля представил себе составителя досье и осуждающе хмыкнул. Ни при каких условиях ни Ирина, ни Морской не стали бы распространяться о подобных вещах. Составитель досье, скорее всего, получил данные от соседей или от сплетников в театре, а представил все так, будто утверждения исходили от разводящихся супругов.
К досье был приложен ряд жалоб на возмутительное поведение гражданки Онуфриевой. Отказалась сдавать какой-то взнос – хорошо, супруг компенсировал и замял скандал. Отказалась решительно осудить работы художника Петрицкого, готовила срыв собрания и не согласованную с общественностью речь – хорошо, сам товарищ Петрицкий прознал о ее планах, сказал, что в защитниках не нуждается и попросил снять ее выступление с повестки дня. Покрасила волосы в «возмутительный цвет», чем сорвала режиссерскую задумку, по которой рыжие танцовщицы в массовке были не предусмотрены…
Последнее было на Ирину совсем не похоже. Как, впрочем, и…
– Это не она! – склонившись в морге над телом жертвы, Николай испытывал одновременно и ужас, и неимоверное счастье.
С одной стороны, по всем статьям выходил полный кошмар: в проверенном правительственном поезде под видом и по документам одной пассажирки ехала совсем другая, неопознанная особа. С другой – это значило, что Ирина, скорее всего, жива. На кушетке с биркой «Ирина Онуфриева» на ноге лежал едва прикрытый простыней после вскрытия труп женщины, Коле совершенно незнакомой.
3

Не знáком, а делом.
Глава, в которой вы узнаете о грустном
С некоторых пор Владимир Морской придерживался правила никому не открывать дверь по ночам. Соседи по квартире – интеллигентная пара с дочерью подросткового возраста, заселившаяся четыре года назад вместо переведенных работать на север прежних жильцов, – нынче находились в санатории «Берминводы» и открыть дверь почтальону в Харькове тоже не могли. В общем, ночные телеграммы Морской получил утром и все сразу. Стоя теперь в прихожей, он растерянно тасовал в руках три бланка, лихорадочно соображая, что все это может значить, и, главное, как теперь быть.
«Ирина убита тчк Соболезнования тчк Готовьтесь выехать Полтава на опознание тчк Коля»
«Сидите дома тчк Караульте Ирину тчк Важны любые вести тчк Горленко»
«Отбой тревоги тчк Ошибка тчк Горленко Коля»
Морской разложил бланки в нужной последовательности и с тяжелым сердцем прошел в спальню. День обещал быть куда более сложным, чем предполагалось, причем предполагалось, что будет он тоже весьма непростым.
Вообще-то, воскресенье всегда проходило под эгидой родительского дня. Чем бы ни предстояло заниматься, Морской брал с собой дочь Ларису, за неделю проживания с правильными мамой и отчимом соскучившуюся по журналистским приключениям и царящей в доме отца артистической атмосфере. Сегодня Морской решил сделать исключение. Одно дело – развод (о нем Ирина и Морской сказали Ларочке вполне спокойно, ведь на отношения с ребенком этот факт не влиял), совсем другое – отъезд. Последнее, конечно, имело куда более разрушительные последствия и ранило куда сильней. Морской, хоть и планировал разговор, но ощущал острый приступ тоски и глухого отчаяния всякий раз, представляя, как скажет одиннадцатилетней девочке, что ее обожаемая Ирина уехала, и они никогда больше не увидятся. Признание и без того хотелось отложить, а сейчас, когда вокруг дел Ирины творилось невесть что, было бы жестоко и некрасиво впутывать Ларису. При этом дочь была единственным человеком в мире, врать которому Морской не умел. Поэтому выход был один – не появляться. Ближайший доступный телефонный аппарат находился в гостеприимном Обществе старых большевиков, что обосновалось в бывшем особняке издателя Юзефовича, потому Морской наскоро привел себя в порядок и помчался вверх по Карла Либкнехта, звонить Ларочке про отмену встречи. На ходу он составлял список всех звонков, которые нужно было бы сделать с такой оказией, и готовил новый небанальный комплимент заведующей телефоном секретарше. Казавшаяся несколько минут назад трагичной ситуация, обрастая хлопотами, обретала будничный характер и переносилась уже почти легко. Вспомнилась увесистая стопка материалов, которую надо было рассмотреть в редакции. В конце концов, для чего еще нужны выходные дни ответственному секретарю крупной газеты? Особенно, если без дела дома и в одиночестве ты немедленно сходишь с ума от воспоминаний и предчувствий. Разумеется, чтобы разобраться, наконец, с должностными обязанностями, а не с текущими журналистскими делами, которыми была занята неделя…
Когда, спустя несколько часов, на пороге редакторского кабинета возник Коля Горленко, Морской его уже почти ждал и удивился только радикальной прическе. Вслух, однако, раскритиковал за другое:
– Вот она, вседозволенность! Мне, чтобы получить разрешение поработать в собственном кабинете в выходной день, пришлось главному редактору звонить. А вас дежурные пропускают, едва глянув на корочку удостоверения!
– Так я же по делу пришел! – не моргнув глазом, нахамил Николай.
Когда-то Горленко и сам пытался работать в редакции, но материалы его были откровенно слабые, и вскоре он отверг «эти глупости», полностью уйдя в криминалистику и частенько обвиняя бывших коллег в незнании жизни и бездельничании.
– И, между прочим, – тут Коля уже без всяких шуток посмотрел на Морского с осуждением: – Я попросил вас не отлучаться из дома. Вдруг Ирина нашлась?
– Во-первых, я получил три телеграммы, и последняя сообщала про «отбой тревоги»! – Морской даже достал все три бланка из кармана. – Во-вторых, с чего вы взяли, что Ирина потерялась? Что за пессимизм? Она уехала в Киев, о чем вы прекрасно осведомлены…
– Во-первых, могли бы посмотреть время на телеграммах, про «отбой» – это вторая, а третья про «сидите дома», – в тон другу недовольно заворчал Горленко. – Во-вторых, ситуация меняется слишком быстро. Сначала я был осведомлен, что Ирина уехала, потом, что Ирину убили, а вот теперь, что Ирина исчезла…
– Удивительная женщина! Она и вас свела с ума! – все еще пытался шутить Морской, тогда как Коле было не до шуток, и он, взяв с приятеля клятву о неразглашении, рассказал обо всем, что знал… И «не до шуток» стало уже всем.
– И вот я вижу – это не Ирина. – заканчивал рассказ он. – И возникает сразу два вопроса. А где тогда Ирина? И что за труп лежит на ее месте? А рядом, ясное дело, Игнат Павлович. И он мне эдак весьма прозрачно намекает, что ответы нужно найти немедленно. А где я их возьму? Кстати, в Киеве наши ребята сегодня уже пошерстили, Ирины нет. К вашей квартире и к ее театру я постового поставил. Пока ничего…
– Наверное, Ирине нужна охрана… Хотя у нас же нет Ирины… Может, я должен написать заявление о пропаже? – не слушающимся голосом спросил Морской. – Или что сделать? Что правильно делать в такой ситуации?
– Что правильно, я вам сейчас поясню. Я потому вас и разыскиваю, чтобы правильно, – удивил Николай. – Но прежде расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы прощались с Ириной.
Морской сосредоточился и начал говорить. Про то, как Ирина попросила проконтролировать грузчиков, водителя, носильщиков и доставку вещей в вагон. Про то, как не смог отказать. Про то, как зашел в вагон и не без сладкого злорадства удостоверился, что вещи забили все купе и половину коридора. Как даже не успел войти в купе и тут же наткнулся на сбежавшую из вагона-ресторана Ирину, у которой разболелась голова. Как вознамерился спокойненько сбежать, но не смог, потому что появилась проводница и разразился скандал. Про то, как ждал в тамбуре, пока Ирина перекладывала вещи, попутно перебив половину увозимой с собой посуды. Потом толкал мешок с книгами к выходу из вагона…
– Выходит, что в последний раз вы видели Ирину в купе вагона? – уточнил Николай.
– Точнее, в коридоре. В купе нельзя было зайти из-за вещей. Ирина просочилась туда чудом, и мне совсем не нравилась идея лезть следом. Но мы почти до момента моего ухода из поезда переговаривались…
– Уверены, что говорили с настоящей Ириной, а не с подделкой?
– Разумеется, – немного даже обиделся Морской. – Мы достаточно лет прожили вместе, чтобы я мог отличить, с кем ругаюсь. Даже если не принимать во внимание голос и интонации, по смыслу фраз я точно могу ручаться, что говорил с Ириной. Никто другой не умеет так виртуозно выворачивать ситуацию, что все кругом, выходит, виноваты. Я – что, обнаружив, как много получилось вещей, не приказал грузчикам оставить половину из них дома. Проводница – что где-то пропадала и не сразу сообщила, что часть вещей нужно выгрузить. Организаторы переезда – что, сказав «брать только личное и необходимое», не объяснили, что предполагается ограничение по количеству и размеру сумок… Ее соседи по новой квартире – что сказали, будто любят книги, и вот Ирина решила для них все привезти…
– Понятно, – перебил Николай, – теперь о главном. Вы ведь должны были сегодня провести экскурсию по городу для группы французских литераторов?
– Да, должен, – честно подтвердил Морской. – В последнее время наша секция краеведов-любителей стала популярна. Мы проводим экскурсии. В том числе для зарубежных гостей. Особо важные делегации сопровождаю я лично. Все с разрешения и под кураторством ваших коллег из «иностранного» отдела, разумеется.
– Да-да, я знаю, – заверил Коля. – Мы уже опросили куратора. Он рассказал, что Луи Арагон от вас в восторге, а мадам Бувье, хоть из-за своих больных ног даже отстала один раз от экскурсии и чуть не заблудилась в подземельях под зданием ломбарда, кричит, что повесится, если им назначат другого экскурсовода.
– Мадам очень экстравагантна, – попытался оправдаться Морской.
– В общем, – продолжил Коля, – раз должны провести экскурсию – проведите. – Тут он замялся и начал как-то неуверенно пояснять: – Мне нужно присмотреться к этой группе. Разговорите их, создайте непринужденную атмосферу. Я пойду с вами. Отдел контроля за иностранцами в курсе. На сегодняшней встрече вместо обычного их представителя буду я.
– Но как все это связано с исчезновением Ирины?
– Это нам и надлежит узнать. Понимаете, в личных вещах нашего неопознанного трупа была одна любопытная книженция. Автор – мадам Анита Бувье. На книге автограф: «Милене с любовью и пожеланиями удачи от автора». И надо же, совпадение: мадам Бувье как раз сейчас находится в Харькове в составе писательской делегации. А вы – ее экскурсовод.
– Ого! – оживился Морской, будто напав на след. – А вы ведь знаете, что с мадам Бувье путешествует некая Милена Иссен. Все зовут ее Милочка, но по документам она как раз Милена.
– В точку! – обрадовался Николай, но тут же снова скис. – Только Игнат Павлович говорит, что это ничего не доказывает. Мало ли на свете Милен, и мало ли кому французская писательница могла подписать книгу. Аргументов недостаточно, чтобы допрашивать уважаемых иностранных гостей, а сами о пропаже они не заявляли. Выходит, это или не их труп, или их, но они что-то скрывают…
– Или они просто еще не заметили пропажу, – перебил Морской. – Они люди странные. Чтоб вы понимали, мадам Бувье и ее Милена ходят в плащах с птичьими головами…
– Я знаю. Потому и не прошу вас опознать труп на фото. Вы ведь все равно не знаете, как выглядит Милена. И никто у нас не знает. У нас нет ни одного фото, а запрашивать те снимки, что делали московские газетчики, Игнат Павлович боится – нарвемся на скандал.
– Международный?
– Хуже! Внутриведомственный! – искренне воскликнул Коля. – Это ж, выходит, мы подозреваем иностранный отдел в том, что они упустили свой объект, позволили ему сесть в наш поезд и там стать жертвой убийства! Поэтому пока решено шума не поднимать, а просто пойти и присмотреться к этим нашим иностранным товарищам. На предмет, во-первых, наличия отсутствия в их рядах гражданки Милены, во-вторых, возможного подозрительного поведения. И вот только если первое и второе совпадет, тогда Игнат Павлович разрешит мне задавать иностранцам вопросы и будоражить их известием об убийстве. Причем, – тут Коля вздохнул особенно тяжело, – устные описания от московских товарищей, которые видели Милену еще без птичьей паранджи… Да, – признался он, перебивая сам себя, – я звонил, но спрашивал как бы про другое, надеюсь, ничем себя не выдал… Так вот, устные описания гласят, что гражданка Иссен запомнилась им как девушка тихая, скромная, красивая, высокая, стройная, с выкрашенными в блестящий медный цвет волосами… Такая вот компаньонка…
– Не понимаю, – перебил Морской.
– Что? Компаньонка – это такая одновременно и медсестра, и помощница, и домработница, и поверенная секретов, – кинулся объяснять Коля.
– Я знаю, кто такие компаньонки, – нетерпеливо отмахнулся Морской. – Не понимаю, что нынче за мода красить волосы. Обычно рыжих дразнят и не любят… Я думал, что Ирина это сделала просто из бунтарства.
– Вот именно! – воскликнул Коля снова. – А тихая, скромная девушка-компаньонка зачем? Никакой моды нет, есть злой умысел. Я все это вижу так: Милена нарочно копировала Ирину, чтобы потом занять ее место в поезде и, выдавая себя за балерину, без всякого положенного иностранцу надзора уехать в Киев. Все это, ясное дело, пока лишь предположения, но пахнут они очень серьезными вещами. Мало того, что совершенно не понятно, что с Ириной, так еще и делегация иностранцев, причем, не абы каких, а больших друзей нашего отечества, и вдруг вовлечена в историю с убийством… И главное, вместо того, чтобы поскорее провести опознание, обыск в вещах покойной и так далее, мне сказано денек понаблюдать… И действовать предельно осторожно, тактично и быстро. Так что без вас не справиться…
– Но… – Морской имел так много возражений, что попросту не знал, с чего начать, – спасибо…
– Не стоит благодарности, – интерпретировал все по-своему Николай. – Я знал, что вы не сможете остаться в стороне от поисков Ирины, и уговорил Игната Павловича создать альтернативную следственную группу, которая без шума все уладит. Вы, я и Света – как в былые времена. Ирины только не хватает, но над этим и поработаем, верно? В кратчайшее время и, главное, осторожно, раскроем это пакостное дело…
«Это самое настоящее безумие! – мысленно паниковал Морской. – Типичный бред. Возможно, просто сон. Вот я проснусь, и все это исчезнет» А вслух сказал:
– Что вам еще известно?
И Коля послушно начал излагать:
– Кроме книги с автографом Бувье, истрепанного «Капитала» Маркса на французском языке, документов Ирины и крупной суммы денег, было также найдено заявление Ирины об уходе из театра… С послезавтрашней датой. С очень глупой формулировкой, мол, все надоело, уезжаю от вас всех подальше куда глаза глядят, найду лучшую работу и лучших коллег. Мы отдали письмо на экспертизу почерка, но я почти уверен, что заявление поддельное и что писала его не Ирина. Так сказать, труп мечтал уйти из труппы… Тьфу! Как попадаю в ваши стены, так снова словоблудие в голову лезет. Раз-два-три, надо сосредоточиться! – Николай замотал головой, прогоняя наваждение.
– Так вот! – продолжил он уже нормально. – Если восстанавливать события, то получается, что за десять минут до отправления в поезде была еще Ирина – ее видели вы, ее видела проводница, ее видели чуть раньше в вагоне-ресторане. А потом – оп, в момент отправки вместо Ирины сидит уже Милена, и ее кто-то убивает… Список пассажиров мои коллеги в Киеве прорабатывают…
* * *
Выходя из первого подъезда писательского дома «Слово», Светлана пребывала уже в куда менее боевом настроении. Все складывалось вроде бы хорошо, пока, составив с прекрасной мадам Триоле очередное письмо и снова почеркав все формулировки, Света, наконец, не спросила, о чем же писала товарищу Сталину сестра Эльзы Юрьевны.







