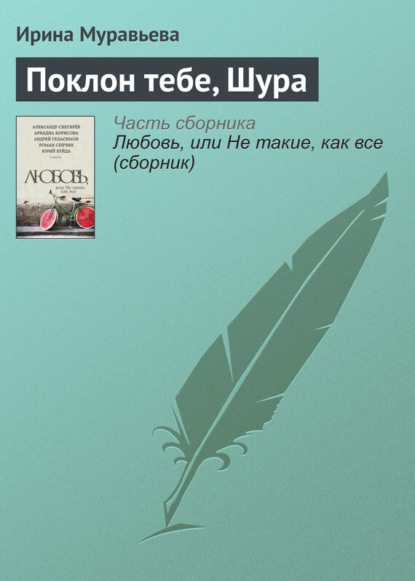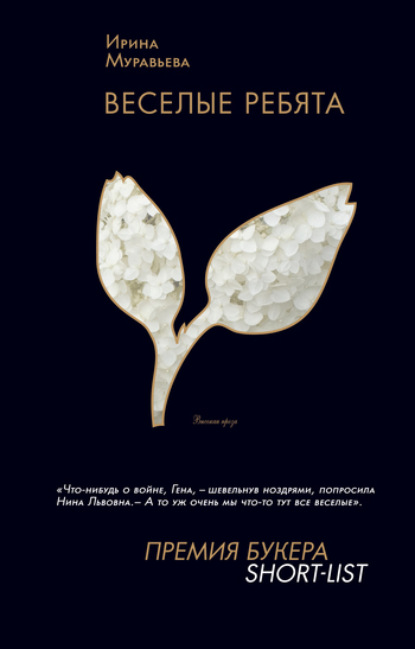
Полная версия:
Ирина Лазаревна Муравьева Веселые ребята
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Ирина Муравьева
Веселые ребята
Часть первая
Раздевалка девочек была отделена от раздевалки мальчиков тонкой перегородкой, через которую было слышно все, включая дыхание и шелест чулок. В закутке, общем для обеих раздевалок, стоял запах острого пота, внутри которого плавало множество побочных запахов, начиная от кислого – резины – и кончая горьковатым запахом польских духов «Черная кошка». Сильнее всего пахло от Юли Фейгензон. От ее влажной, в мягких глубоких складках полноты, на которой еле застегивалась старая школьная форма. Мы сидели на одной парте, и каждое движение ее смуглой руки с короткими пальцами, каждое ленивое почесывание ладонью заросшего темным пушком виска или машинальное погружение карандаша в глубину каштановых, с золотом, слипшихся кудрей приводило к тому, что мокрая, в белесых разводах подмышка, высунувшись из складок передника, ударяла по моим ноздрям дикой силы сладковатым неподвижным запахом, который, как мне казалось, и был душой Фейгензон, выражал собою всю ее – девочку из бедной семьи, молчаливую, рано созревшую, которая уже в девять лет носила огромный, серого цвета лифчик, плохо училась и смотрела на мальчиков смеющимися темными глазами в густых ресницах.
Переодеваясь для урока физкультуры, я старалась выбрать лавку подальше от Фейгензон, которая, кстати сказать, на физкультуру ходила редко и каждый свой пропуск объясняла учителю Николаю Ивановичу – бешеному фронтовику – тем, что у нее «это дело». А Николай Иваныч раздувал волосатые ноздри, всем своим нутром переживая то, что приходится выслушивать, и, упершись левым зрачком в ее распираемый мощной грудью передник, махал рукой с плоскими ногтями потомственного алкоголика:
– Ладно!
Она так просто, так доверчиво сообщала, что не сможет ни перепрыгнуть через козла, ни сделать березку, будто Николай Иваныч был школьной медсестрой, а не чужим человеком, мужчиной, чуть было не сломавшим однажды руку Сергею Чугрову за то, что тот, долговязый и неловкий, карабкаясь по шведской стенке, поскользнулся и неожиданно съехал вниз, прямо на шею растерявшегося от неожиданности, но тут же налившегося сизой кровью физкультурника, который изо всей силы схватил Чугрова за руку и так резко рванул ее вниз, что хрустнули все суставы. Наши мальчики обходили Фейгензон вниманием, она была слишком большой, потной и неподвижной, в то время как им до смерти хотелось вертлявых девчонок с тонкими талиями и темными сосками, которые проступали под майками во время все той же физкультуры, когда раскрасневшаяся одноклассница, сверкая глазами, неслась к кожаному, продранному с одного бока козлу, чтобы под одобрительные покрикивания ломких басков перескочить через него, если получится, а если нет, то упасть, будто ее сразила пуля, на блестящий от пота, продавленный мат, вспыхнув полоской кожи между задравшейся майкой и сатиновыми трусами.
В это утро они сидели на лавочке втроем: Фейгензон, Орлов и Чернецкая. Фейгензон было четырнадцать, потому что она поступила в школу немного позже, а Орлову и Чернецкой тринадцать. Кончался март, долгий, промозглый месяц, когда воздух в высоких, наполовину забеленных окнах актового зала наполняется торопливой надеждой непонятно на что, а снег на земле сжимается и темнеет, как стариковская кожа.
В отличие от тошнотворно пахнущей Фейгензон с ее постоянным посмеиванием и мокрым ртом, Чернецкая была аккуратно причесана, быстроглаза, надушена и без устали кокетничала со всеми лицами мужского пола, начиная со свирепого Николая Ивановича и кончая учителем истории Робертом Яковлевичем, высоким, с тремя скрюченными пальцами, торчащими из обтянутого кожей отростка, – вместо правой руки, и пустым рукавом, засунутым в карман пиджака, – вместо левой. Чернецкая кокетничала и с ним, и с Николаем Ивановичем, и с председателем совета дружины прыщавым Володей, и с милиционером, который руководил переходом через Смоленскую площадь, и с каждым из тех черноусых кубинцев, борцов за свободу и независимость, которые появились однажды в нашей школе на утреннике благодаря ее же, Чернецкой, матери, переводчице с испанского, работающей в Доме дружбы – небольшом, завитом, как улитка, старинном особняке, в котором, говорят, когда-то, еще в прошлом веке, умерла целая дворянская семья, отравившись конфетами.
Чернецкая кокетничала голосом, ресницами, плечами, руками, ногами. Она кокетничала всем существом и по правилам, которые были от рождения впаяны в ее плоть и кровь, а безнадежно отставшие мальчики, не готовые к ее откровенному женскому зову, ошалевали и отвечали на эту вдруг закинутую голову или упавший до шепота грудной голосок своими наивными ребяческими грубостями.
Итак, они сидели на лавочке. Орлов, Чернецкая, Фейгензон. У Орлова был мужской подбородок и темные тяжелые глаза, которыми он внимательно рассматривал все тонкие талии, все крепкие, как шишечки на молоденьких елках, соски, все вспыхивающие бедра. Взгляд этот был намного старше самого Орлова и изнурял его. Он был рассчитан на то, что Орлову не тринадцать, а по крайней мере семнадцать или даже побольше, когда человек уже представляет себе, что ему делать с женскими талиями, чтобы понапрасну не мучиться. Раздался звонок, одновременно с которым Фейгензон тяжело вздохнула и поднялась, а они, слегка касаясь друг друга, продолжали сидеть, словно им и впрямь было важно, чем кончится эстафета, кто быстрей добежит до стенки – Лапидус из команды мальчиков или Карпова Татьяна из команды девочек, поэтому, как только мягкая и неуклюжая Фейгензон поднялась, они одновременно увидели, что влажная лавочка, только что освободившаяся от нее, густо испачкана кровью. Орлов понимающе усмехнулся и заиграл своими тяжелыми темными глазами, а на щеках у Чернецкой вспыхнул сухой красный шиповник.
– Бедные вы, бабы, – вздохнул Орлов, у которого заныл вдруг низ живота и стало кисло во рту. – Достается вам… Бедные…
И преодолевая дрожь в коленях, пошел к двери.
– Куда? – зарычал на него потный Николай Иванович. – А дневник?
– У меня освобождение. – Орлов приостановился. – Зачем вам мой дневник?
– Что-о-о-о? – заорал Николай Иванович. – Ты с кем разговариваешь? На кого голос поднимаешь?
– Я не поднимаю. – Мощный Орлов опустил глаза. Желваки у него заходили. – Я вам объясняю: освобождение после гриппа.
Что померещилось Николаю Ивановичу, Бог его знает. Но – как это бывало всегда, когда подступало бешенство, – он, выкатив наружу застланные кровью белки, рванул Орлова за воротник и с воплем «молчать!» бросил его обратно на лавку. На глазах у Чернецкой, потому что, кроме них, в физкультурном зале никого не было. Но именно оттого, что это случилось на глазах у женщины, которую он только что остро почувствовал, тринадцатилетний Орлов вскочил и басом, не ломающимся, а настоящим, глубоким, хлынувшим из его ходуном заходившего горла, выдохнул прямо в запенившийся рот Николая Ивановича:
– Сам молчать!
И Николай Иванович, на которого неоднократно жаловались пухлой Людмиле Евгеньевне, директору школы, родители тех детей, которых он чудом не изувечил, вдруг действительно замолчал и махнул по своей привычке рукой с темными и плоскими ногтями. Потащился в учительскую, бормоча себе под нос те недожеванные ругательства, которые он бормотал когда-то, сидя, молодым и кудрявым, в гниющем окопе.
– Гена, – задыхаясь, сказала Чернецкая, маленькая женщина, только что присутствовавшая при совершенном ради нее дерзком поступке и жадными ноздрями уловившая запах вызванного ее телом желания. – Разве можно так? Ты же его знаешь…
– А тебя – нет, – спокойно, новым своим, только что прорвавшимся басом ответил Орлов. – Пора бы и нам познакомиться.
Они принялись знакомиться на глазах у обоих классов, слегка растерявшихся от этого столь бурного и откровенного любовного праздника: он смотрел на нее, она смотрела на него, и, если гуляла в перемену под руку с другой девочкой, чаще всего своей ближайшей подругой – длинной, глуховатой Белолипецкой, Орлов неизменно шел сзади, посмеиваясь, прожигая темными глазами ее покатые плечи, узкую спину, маленькие выпуклые ягодицы, взволнованно вздрагивающие от его приклеенного, как горчичник, взгляда. Ясно было, что он ждет не дождется, чтобы скорее закончились уроки и наступила та неуверенная свобода, на которую со всех сторон зарились бывшие фронтовики, инвалиды, матери-одиночки, – вся эта неспокойная учительская шайка, где каждый так и норовил впиться в сладкую детскую душу, вывернуть ее наизнанку, вытряхнуть из нее все не дозревшие еще семена, все нежные косточки, заорать, наливаясь кровью, пристыдить, разодрать когтями, лишь бы отомстить за свое собственное, засиженное навозными мухами, водкой пропахшее детство.
Сразу, как только кончались уроки, смеющийся Орлов норовил подловить Чернецкую в дальнем углу раздевалки и там, среди вороха мокрых, потертых воротников, сброшенных ботинок, клетчатых шарфов, вязаных шапок, прижать ее, розовую, с опущенными глазами, к стене или вдавить ее маленькое нежное тело в гущу растерзанных курток, дождаться, пока она перестанет сопротивляться, застынет под его большими руками, и тогда он, мучаясь разламывающей низ живота болью, начинал осторожно покрывать поцелуями это лицо с узкими глазами молоденькой гейши, острый подбородочек, белую шею, норовя – внутри поцелуя – еще и расстегнуть верхнюю пуговицу коричневого платья и запустить что удастся – руки ли, губы ли – в раскаленную вздрагивающую развилку.
Так они дожили до лета, изнуряя друг друга прикосновениями, обжигая глазами, пока не наступила пыльная московская жара, духота, не слабеющая даже ночью, и в первую неделю июня мама Чернецкой начала стелить себе в гостиной, откуда ей было легче прокрадываться в прихожую, не боясь разбудить чутко похрапывающую в чуланчике домработницу Марь Иванну. В прихожей, где висел большой черный телефон, она торопливо набирала номер и, приглушая голос, зажимая трубку ладонью, по часу шепталась с кем-то, изредка переходя на испанский, постанывала и один раз даже вскрикнула, громко, как голубь, влажно, коряво и глухо, но не испугалась своего крика, потому что мужа ее, отца Натальи Чернецкой, заведующего гинекологическим отделением больницы номер 59, не бывало дома в это время, и где он находился – то ли принимал роды, то ли сам делал детей другим женщинам, – мало беспокоило ее, синхронную переводчицу с испанского языка, прогрызшую себе дорогу наверх, в каменный, завитой, как улитка, Дом дружбы. За несколько этих лет, пока она грызла, еле слышно посапывая от напряжения, торопливо замазывая ярко-малиновой помадой пересыхающие от улыбки и болтовни губы, пришлось мимоходом проглотить нескольких неприятных соперниц, норовивших туда же, куда и она, так же, как она, терпеливо подскакивающих на чужих матрасах внутри чужих дач рядом с чужими, хрипловато икающими от белуги мужьями, которые, в конце концов, и решали, которая из этих женщин подскочила выше других и с кем из них можно, как говорится, идти в разведку.
Она победила соперниц – тихо, умно, незаметно, и тут же он стал безразличен ей – ее собственный муж с оттопыренными от благодарных денег карманами, потому что теперь она уже не только сама получала подарки – духи, мохеровые кофточки, блестящие колготки, – но оказалась выездной, начала ездить на Кубу, где иногда даже сходила за свою из-за черных глаз и испанского темперамента, в то время как настоящие свои – тоже черноглазые и темпераментные – отдавались советским морячкам за бутылку водки и флакон одеколона. О девочке, спящей под зорким присмотром Марь Иванны, мягко и празднично закруглевшей своей уже не вполне детской плотью в эту последнюю зиму, она заботилась ровно настолько, насколько нужно было заботиться о ребенке молодой энергичной женщине, с головой ушедшей в работу, но каждый раз, когда черноусые кубинские друзья спрашивали ее о семье, радостно отвечала, что у нее есть дочка, и тут же показывала фотографию, искренне любуясь нежным, излучающим свет изображением: она сама и ее девочка, сидящие в обнимку под русской березой. Черноглазой грызунье не приходило, разумеется, в голову, что каждый раз, когда она босиком прокрадывается в коридор позвонить, девочка со свесившимися набок спутанными каштановыми кудрями приподнимается на локте и, призакрыв узкие глаза, изо всех сил прислушивается к голубиному материнскому клекоту.
Они занимали большую профессорскую квартиру – Неопалимовский переулок, дом 18 дробь 2, – и сначала с ними жили родители ее мужа, которые постепенно умерли, первой – мать, а прошлым летом отец, тоже гинеколог, очень известный, не боящийся даже делать аборты прямо у себя в кабинете, превращенном после его смерти в комнату внучки.
В дни, когда предполагался аборт, Марь Иванна, в чистом хлопчатобумажном платке, с твердо поджатыми тонкими губами, уводила маленькую женщину Чернецкую гулять на Девичку – так назывался сквер, где она, твердогубая, крепкорукая Марь Иванна, глаз не спускала с аккуратной золотисто-коричневой головки, единственной радости своей осиротевшей жизни. Двадцать шесть лет было Марь Иванне, когда она, похоронив быстро умершего от непонятной болезни жениха, попала в город, долго скиталась по чужим домам, мыкалась по чужим семьям, пока не очутилась наконец в Неопалимовском переулке, дом 18 дробь 2, где через год после ее прихода родилась у молодой хозяйки Стеллочки чудо-девочка с узенькими глазами. Тут Марь Иванна успокоилась и стала эту девочку растить. Поначалу ей помогала профессорская жена Любовь Иосифовна, иссушенная ревностью, старая, седая, с роскошными, до старости сохранившимися волосами, но потом она начала болеть, чахнуть, ездить по бесконечным санаториям, и силы на внучку закончились. Хорошо, если почитает ей перед сном какую-нибудь книжечку, Стеллочки-то и вовсе не бывало дома.
После смерти Любови Иосифовны муж ее, выйдя на пенсию, продолжал принимать больных у себя в кабинете, а все аборты назначал почему-то на пятницу. Марь Иванна уводила Чернецкую гулять и, возвратившись, накрывала обедать в гостиной. Усаживались втроем: дед, домработница и ребенок – внучка. После супа старый профессор шел в свой кабинет и говорил лежащей на кушетке, слегка всегда окровавленной (ноги с внутренней стороны), безобразно бледной пациентке:
– Можете потихоньку вставать и идти домой. Подымется температура – звоните.
Никто и никогда не убирал у него в кабинете после аборта, даже Марь Иванна не допускалась, и маленькую женщину Чернецкую до тошноты испугало однажды то, как дед появился с мокрой и бурой от крови тряпкой в руках, сгорбившись, быстро прошел мимо них с Марь Иванной, опустил глаза, скользнул в уборную и там долго, с силой дергал за ручку, – вода лилась мощно, бурно, а дед все не выходил, и, когда наконец вышел, на лице у него было сердитое выражение.
В июне оба восьмых класса – «А» и «Б» – отправились в трудовой колхозный лагерь для прохождения летней практики с воспитательными целями. Лагерь был разбит на опушке леса в километре от деревни, сорока километрах от города, жить нужно было в палатках, вставать почему-то в шесть, а ложиться в десять, злобно кусались комары, особенно малярийные, в палатках было душно, старые девы – учительницы (Нина Львовна, Галина Аркадьевна) терзали комсомольцев днем и ночью, смягчаясь только тогда, когда начинались песни у костра, и в частности «Синий троллейбус».
Под «Синий троллейбус» неистовые старые девы опускали глаза, начинали перебирать своими неухоженными пальцами края самовязаных ядовито-розовых или тускло-серых с коричневым свитерков, неуверенно подтягивать неверными голосами и, растворяясь своими никем не целованными, никому не понадобившимися телами с клубочками глубоко запрятанных, сморщенных душ в гитарной истоме, чувствовали, что все еще может перемениться, стать голубым и зеленым, и тогда их доцелуют, долюбят, воскреснут Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой, которые были им, здоровым и плотно сбитым педагогам Нине Львовне и Галине Аркадьевне, предназначены, а вот не вышло, не сбылось, лежат в земле сырой, а поверх отвоеванных у фашистов полей стелется туман, и плывут по нему черный буйвол, и белый орел, и форель золотая, а иначе зачем тра-та-та-та-та-та-та живу?
И Нина Львовна, и Галина Аркадьевна не сразу поняли, что происходит между Орловым и Чернецкой. Многое сбивало с толку. Во-первых, Чернецкая была большой активисткой и отличницей, на которую не хотелось сердиться, потому что были для этого другие – неприятные, несговорчивые девочки, например Соколова – огромная, с огненного цвета тяжелой, в жестких кольцах, косой, которая всегда была растрепанной, а щеки бордовыми, а смех оглушительным, и никогда он не умолкал, этот смех, даже ночью, когда, казалось, все уже давно заснули, и тут вдруг, в боковой палатке, вспыхивал хохот дикой и бессовестной Соколовой. Кроме нее было еще несколько таких же, отвратительных для Галины Аркадьевны и Нины Львовны, будущих женщин, ироничных, насмешливых, застенчивых, себе на уме, которые не желали понимать (так уж, наверное, были воспитаны!), насколько все вообще должны быть благодарны нашей советской власти, и вместо этого усмехались, переглядывались с такими же, как они, замкнутыми и насмешливыми мальчиками во время политинформации или когда приезжали в школу уважаемые люди. Мать Зои и Шуры Космодемьянских, например, или любимая девушка бесстрашного весельчака Сережки Тюленина, замученного вместе с Олегом Кошевым, эта самая Валентина, о которой великий писатель Фадеев написал (ах, весна, вишни цветут, жить бы да жить ребятам!), написал Фадеев, что у нее на ногах был золотистый пушок, и Сережка, весельчак, бесстрашный (жить бы да жить!), прямо перед выполнением ответственного задания комсомола полюбовался еще раз этим золотистым пушком, и потом ему было что вспомнить в фашистском застенке, когда иголки загоняли под ногти, кипяток лили на голову… Было что вспомнить.
Ну и что же, что сама Валентина читала о Сережке Тюленине по тетрадке, а ноги у нее были как два сучковатых полена? Ну и что же, что – сутулая, неприветливая, в коричневом берете, – дочитав, она курила папиросы «Север» – одну за другой – прямо в актовом зале, не стесняясь детей, и явно норовила поскорее улизнуть, напялить на свою горбатую спину прокуренное пальтишко? Человек через такое прошел, потерял единственно любимого, сохранил ему верность – отсюда и горб, и берет, отсюда и «Север»! – а всё ради нас, неблагодарных, ради нашего будущего, веселые ребята, и в ноги нужно поклониться такому человеку, в ноги, с пушком ли, без пушка ли, но именно в ноги, и чтобы клятву принести, звонкую комсомольскую клятву… Ах, синий троллейбус!
Сердиться на Чернецкую не хотелось, она была правильно воспитана своей мамой Стеллой Георгиевной, переводчицей с испанского, которая работает с группами кубинских борцов за свободу и независимость. Ездит с ними вместе на Кубу, остров зари багряной.
Слышишь? Идут барбадос? В небе та-та-та их огненный стяг… Слышишь ты или нет, в конце концов?
А такая ведь могла бы получиться избалованная девочка, потому что и домработница у нее (Марь Иванна свою Наташечку не оставила, пристроилась в лагерь поварихой!), и квартира у них великолепная, три комнаты в Неопалимовском, с роялем (дедушка с бабушкой в четыре руки играли!), и кофточки – ни у кого таких нет, даже у директора школы Людмилы Евгеньевны, – а она, Чернецкая, несмотря ни на что, скромная, приветливая, первой вступила в комсомол, и родители у нее – такая красивая пара, еще много лет должно пройти, пока все наши советские семьи будут такие красивые, да хорошо одетые, да так уметь себя вести, как эти…
С Орловым было труднее. Орлов, хоть и считался по возрасту мальчиком, по сути своей был, что называется, настоящим мужиком, и то, что внутри у него мужик этот ходуном ходит, ощущалось даже Галиной Аркадьевной и Ниной Львовной, заставляя их подтягиваться в орловском присутствии, взвешивать слова, краснеть и приглаживать волосы. Посомневавшись, классные руководительницы сошлись на том, что у нас в лагере началась Большая Человеческая Любовь и мешать ей нельзя, потому что она Чистая.
Прикрытые своей Большой и Чистой Любовью, Орлов и Чернецкая ходили как пьяные.
В шесть часов на линейке, когда роса крупными каплями пылала в траве, а в деревне за километр заходились петухи, Орлов самодовольно оглядывал заспанных девочек, только что содравших с волос большие железные бигуди и наскоро накрасивших ресницы. Потом зевал и отворачивался. Вскоре, однако, взгляд его загорался: Чернецкая, всегда немного опаздывающая, подпрыгивая на бегу, торопилась из своей палатки, только что разбуженная добросовестной Марь Иванной. Этим загоревшимся взглядом Орлов неторопливо осматривал с головы до ног каждый каштановый волосок ее, каждую припухлость, изгиб, складочку, облизывался своими большими, вывернутыми губами – желваки его вздрагивали, – а наши угловатые мальчики, остро чувствуя, как далеко он ушел от них по пути мужества, прочищали свои прыщавые горлышки ломким кашлем и перешучивались. Вечером, у костра, девочки усаживались в первый ряд, поближе к огню, мальчики во второй, но оказывалось как-то так, что Орлов сперва сидел, тесно прижимаясь боком к Чернецкой, неподвижно глядящей в огонь, потом он раскладывался – полулежа, опираясь на локоть, – между нею и всеми остальными, заслоняя ее собой, отвоевывая пространство, потом, словно бы забывшись, сгибал локоть, падал затылком на ее колени, руки заламывал за голову, так что в конце концов ладони его соединялись за ее узкой спиной, но тут все настойчивей и настойчивей становились голоса, призывавшие синий троллейбус, потому что благодаря синему троллейбусу все на свете становилось чистым.
Никто из комсомольцев не знал, однако, было ли между ними «всё».
Галина Аркадьевна и Нина Львовна оказались, разумеется, дальше всех от истины, уверенные, что мальчик и девочка – да! – могут дружить, а потом, когда вырастут и поймут, что дружба (она же Любовь!) настоящая, они обменяются кольцами (можно и без колец: ни у Сережки Тюленина, ни у Ульянки Громовой никаких колец не было!), и тогда разрешается им поцеловаться и потом что-то «такое еще» (очередь на двуспальную кровать была на несколько лет дольше очереди на «Хельгу»), что-то «такое еще» разрешается в этой самой кровати, в длинной нейлоновой ночной рубашке, иногда выплывающей, как привидение, в центре ГУМа у фонтана (отдел женского белья и постельных принадлежностей), а уж после «такого еще» улыбающаяся Чернецкая придет в родную школу с голубой колясочкой. Ах, кто это там? Вася, да? Василёк! Ну, поздравляем!
По ночам в лагере дежурили: две девочки и двое мальчиков. Каждой четверке отводилось по два часа. С десяти до двенадцати, с двенадцати до двух, с двух до четырех и с четырех до шести. Ночи были холодными. Озябшие дежурные неизвестно зачем слонялись в тумане, прислушивались, чтобы никто внутри палаток не разговаривал, останавливали тех, кто, спотыкаясь, шел в уборную, спрашивали, куда идет и зачем, потом перемещались на пустую кухню – царство чутко дремлющей Марь Иванны. В кухне разрешалось выпить по стакану чая, согреться, там же травили анекдоты, играли в морской бой, иногда мальчики закуривали, если доверяли тем девочкам, с которыми дежурили, но бывало, что девочки доносили, и тогда на следующий день собиралась экстренная линейка, преступника вызывали на середину лужайки, приказывали стать рядом со знаменем и честно, всем, вслух, громко рассказать, как он дошел до того, чтобы закурить. Галина Аркадьевна и Нина Львовна, с лицами красными, как у вампиров, задавали свои вопросы тихими металлическими голосами и с таким неподдельным ужасом, словно воскресшего Витьку с Моховой застукали на любовнице:
…может быть, ты, Иванов (Петров, Сидоров, Лапидус), решил, что без курения жить не можешь? Так ты нам так и скажи! Или, может быть, ты чувствуешь, что мнение товарищей для тебя больше не авторитет? Может быть, тебе все равно, примут тебя в комсомол или не примут? Ты, может быть, можешь прожить жизнь и БЕЗ комсомола? Без? Ну, говори!
Ах, если бы обратно, в серые костлявые времена, поглубже куда-нибудь, чтобы без разговоров, без поблажек, а запалить костер до самого неба – и туда его, негодяя, курильщика малолетнего, стилягу, в огонь его, чтобы косточки обуглились, чтобы кожей запахло! Стоишь вот, мерзавец, и советская власть тебе нипочем, и за комсомол не умрешь, и для партии жизнью не пожертвуешь, стоишь, с ноги на ногу переминаешься, на губах ухмылочка, а в твои годы другие ребята кровь свою проливали, крови своей не жалели, чтобы ты сейчас, мерзавец, стиляга, мог переминаться спокойно, чтобы над твоей головой никакие американские истребители…
Все это так и хрипело, так и свистело – того гляди вырвется! – в булькающих глотках Нины Львовны и Галины Аркадьевны, но они сдерживались, ненависть выходила беленькими пузырьками из уголков рта, и только дикой жадностью наполнялись их неистовые глаза, когда активисты наши – настоящие ребята! – снова и снова просили разрешения выступить, и шел суд над мерзавцем-курильщиком, шел при блеске луны, в соловьином пении!