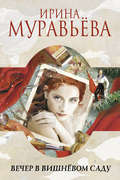Ирина Муравьева
Напряжение счастья (сборник)
Напряжение счастья
Зима была снежная, вся в синем блеске, и пахла пронзительно хвоей. У елочных базаров стояли длинные очереди, и праздничность чувствовалась даже внутри того холода, которым дышали румяные люди. Они растирали ладонями щеки, стучали ногами. Младенцы в глубоких, тяжелых колясках сопели так сладко, что даже от мысли, что этим младенцам тепло на морозе, замерзшим родителям было отрадно.
Я была очень молода, очень доверчива и училась на первом курсе. Уже наступили каникулы, и восторг, переполнявший меня каждое Божие утро, когда я раскрывала глаза и видела в ослепшей от света форточке кусок несказанно далекого неба, запомнился мне потому, что больше ни разу – за всю мою жизнь – он не повторился. Минуты текли, как по соснам смола, но времени не было, время стояло, а вот когда время бежит – тогда грустно.
Ничто не тревожило, все веселило. Новогоднее платье было куплено на Неглинке, в большой, очень темной уборной, куда нужно было спуститься по скользкой ото льда лесенке, и там, в полутьме, где обычно дремала, согнувшись на стуле, лохматая ведьма, а рядом, в ведре, кисли ржавые тряпки, – о, там жизнь кипела! Простому человеку было не понять, отчего, с диким шумом Ниагарского водопада покинув кабинку, где пахло прокисшей клубникой и хлоркой, распаренные женщины не торопятся обратно к свету, а бродят во тьме, словно души умерших, и красят свои вороватые губы, и курят, и медлят, а ведьма со щеткой, проснувшись, шипит, как змея, но не гонит… Прижавшись бедром к незастегнутым сумкам, они стерегли свою новую жертву, читали сердца без очков и биноклей.
Мое сердце прочитывалось легко, как строчка из букваря: «мама мыла раму». Ко мне подходили немедленно, сразу. И так, как оса застывает в варенье, – так я застывала от сладких их взглядов. Никто никогда не грубил, не ругался. Никто не кричал так, как в универмаге: «Вы здесь не стояли! Руками не трогать!».
Ах, нет, все иначе.
– Сапожками интересуетесь, дама?
Я («дама»!) хотела бы платье. Ведь завтра тридцатое, а послезавтра…
– Да, есть одно платьице… Но я не знаю… Жених подарил… – И – слеза на реснице. Сверкает, как елочный шар, даже ярче. – Жених моряком был, служил на подводке… А платьице с другом своим передал… Ох, не знаю!
– А где же он сам?
– Где? Погиб он! Задание выполнил, сам не вернулся…
Не платье, а повесть, точнее, поэма. «Прости!» – со дна моря, «Прощай!» – со дна моря… Мне сразу становится стыдно и страшно.
– Ну, ладно! Была не была! Девчонка, смотрю, молодая, душевная. Пускай хоть она за меня погуляет! А парень-то есть?
– Парень? Нету.
– Ну, нету – так будет. От них, от мерзавцев, чем дальше, тем лучше! Пойдем-ка в кабинку, сама все увидишь.
Влезаем в кабинку, слипаясь щеками.
– Садись и гляди.
Сажусь. Достает из пакета. О чудо! Размер только маленький, но обойдется: уж как-нибудь влезу. (Погибший моряк, видно, спутал невесту с какой-нибудь хрупкой, прозрачной русалкой!).
– Ну, нравится?
– Очень. А можно примерить?
– Ты что, охренела? Какое «примерить»? Вчера вон облава была, не слыхала?
Мертвею.
– Облава?
– А то! Мент спустился: «А ну, все наружу! А ну, документы! «Березку» тут мне развели, понимаешь!» Достал одну дамочку аж с унитаза! Сидела, белье на себя примеряла. Ворвался, мерзавец! Ни дна ни покрышки!
Начинаю лихорадочно пересчитывать смятые бумажки. Бабуля дала шестьдесят. Плюс стипендия. Вчера я к тому же купила колготки.
– Простите, пожалуйста… Вот девяносто…
– Ведь как угадала! Копейка в копейку! Просила одна: «Уступи за сто сорок!». А я говорю: «Это не для продажи!». А ты – молодая, пугливая… В общем, не всякий польстится… И парня вон нету…
Сую всё, что есть, получаю пакет.
– Ты спрячь его, спрячь! Вот так, в сумочку. Глубже! Постой, дай я первая выйду. А ты посиди тут. Спусти потом воду.
Минут через пять поднимаюсь наверх. О, Господи: свет! Это – вечное чудо.
Тридцать первого у меня гости. Заморское платье скрипит при ходьбе. Налезло с трудом, но налезло. (Не знаю, как вылезу, время покажет!) Готовлю по книжке салат «оливье», читаю: «нарежьте два крупных яблока». Бегу в овощной на углу.
Продавщица сизыми, как сливы, толстыми пальцами ныряет в бочку с огурцами.
– А что же кривые-то, дочка?
– Прямые все съели!
– Да ты не сердись! Дашь попробовать, дочка? А то я вчера рано утром взяла, куснула один, так горчит, окаянный!
– «Горчит» ей! На то огурец, чтоб горчить! Не нравится, так не берите! «Горчит» ей!
– Да как «не берите»? Сватов пригласили!
– Пакет у вас есть? Он дырявый небось?
– Зачем же дырявый? Он новый, пакетик…
– Рассолу налить?
– Ой, спасибочки, дочка!
На яблоках – темные ямки гнильцы. Мороз наполняет мой бег звонким скрипом.
Дома напряжение счастья достигает такой силы, что я подхожу к окну, отдергиваю штору и прижимаюсь к стеклу. Все небо дрожит мелкой бисерной дрожью. Одиннадцать. Первый звонок. Три сугроба в дверях: подруга Тамара («Тамар» по-грузински!), любовник Тамары Зураб Бокучава, а третий – чужой, и глаза, как маслины, залитые скользким оливковым маслом.
– Зна-а-комтэс, Ирина. Вот это – Георгий. В Тбилыси живет.
– Ах, в Тбилиси! Тепло там, в Тбилиси?
– В Тбилыси вчера тоже снэг был, но теплый!
У Томки с Зурабом – совет да любовь. Аборт за абортом. Зураб презирает метро, ездит только в такси. Пришлют ему денег, так он, не считая, – сейчас же на рынок. Накупит корзину чурчхелы, киндзы, телятины, творогу, меду, соленьев. Неделю едят, разрумянившись. Вволю. Гостей приглашают. Те тоже едят. Хозяин квартиры – второй год в Зимбабве, хозяйские книжные полки редеют: Ги де Мопассана, Майн Рида, Гюго снесли в магазин «Букинист» и проели. Зимбабва воюет, не до Мопассана.
Промерзшие свертки – на стол.
– Ах, коньяк? Спасибо! А это? Хурма? Мандарины! Вы что, только с рынка?
– Зачэм нам на рынок? Вот, Гия привез.
– Садитесь скорее, а то опоздаем! Пропустим, не дай Бог! Бокалы-то где?
Летаю, как ветер, не чувствую тела.
Звонит телефон. Беру трубку. Акцент. Но мягкий, чуть слышный.
– Ирина?
– Да, я.
– Я к ва-ам сейчас в гости иду. Где ваш корпус?
Зураб привстает:
– Это друг, Валэнтин. Хадили с ним в школу в Тбылиси. Нэ против?
– Ах, нет!
– Пайду тагда встрэчу. Мы с Гией пайдем.
– Зачэм я пайду? А Ирине па-амочь?
– Ах, не беспокойтесь!
– А што там на кухнэ гарит? Што за дым?
– Какой еще дым?
– Нэ знаю, какой, но я нюхаю: дым. Хачу посмотрэть. Пайдем вмэстэ, па-асмотрим.
На кухне целует в плечо.
– Да вы что?
Вздыхает всей грудью, со стоном:
– А-а-ай!
Грудь (видно под белой рубашкой!) черна и вся меховая, до самого горла.
– Я как вас увыдэл, так сразу влюбился!
Минут через десять Зураб приводит в дом остекленевшего от мороза, с нежнейшей бородкою, ангела. На ангеле – белые тапочки, шарф, пиджак, свитерок. Все засыпано снегом.
– А где же пальто?
– Я привык, мне тепло!
Зураб обнимает стеклянного друга:
– Какое тэпло? Ты савсэм идиёт! Тэбэ нада водки, а то ты па-а-дохнешь!
– Садитесь, садитесь!
Часы бьют двенадцать. Успели! Ура!
…сейчас закрываю глаза и смотрю. Вот елка, вот люди. Гирлянды, огни. И все молодые, и мне восемнадцать. А снег за окном все плывет, как река, как пена молочная: с неба на землю.
Помню, что разговор с самого начала был очень горячим, потому что в комнате соединились трое молодых мужчин и две женщины, которых накрыло волненьем, как морем. Помню, что Гия громко, через весь стол, спрашивал у Зураба, сверкая на меня глазами:
– Ты можэшь так здэлать, шьтобы ана уезжала са-а мной в Тбылиси? Ты друг или кто ты?
Зураб отвечал по-грузински, закусывая полную, капризную нижнюю губу, привыкшую с детства к липучей чурчхеле. Потом очень сильно тошнило Тамар, и ей наливали горячего чаю. Потом танцевали, дышали смолой бенгальских огней вперемешку с еловой.
А утром согревшийся ангел раскрыл рюкзачок и вытащил груды страниц и тетрадей. Синявский, Буковский, «Воронежский цикл», «Стихи из романа Живаго», Флоренский…
– Я выйду на площадь! И самосожгусь! – сказал грустный ангел. Мы все присмирели. – Для честных людей есть один только выход.
Я в ужасе представила себе, как он, в простых белых тапках, с куском «оливье», застрявшим в его золотистой бородке, худой, одинокий, из нашего теплого дома пойдет сквозь снег и мороз прямо к Лобному месту, а там… Мы будем здесь есть мандарины, а он сверкнет, как бенгальский огонь, и погибнет.
Никто с ним не спорил, но стали кричать, что лучше уехать, что это умнее.
– Куда ты уэдеш? На чом ты уэдэш? – спрашивал Зураб, прихватив Гию за грудки.
А Гия, расстегнувший ворот нейлоновой рубашки, выкативший красные глаза и кашляющий от собственной шерсти, забившей широкое горло, кричал:
– Алэнэй любыл? Алэнатыну кушал?
– Зачэм мнэ алэни?
– Затем, – вдруг спокойно сказала Тамара, – что можно уйти вместе с северным стадом. Вода замерзает, оленеводы перегоняют стада в Америку. Или в Канаду. Я точно не знаю. Но многие так уходили. Под брюхом оленя. И их не поймали.
Я увидела над собой черное небо, увидела стадо голодных оленей с гордыми величавыми головами и покорными, как у всех голодных животных, влажными глазами в заиндевевших ресницах, увидела равнодушного эскимоса в его многослойных сверкающих шкурах (из тех же оленей, но только убитых), почуяла дикий неистовый холод, сковавший всю жизнь и внутри, и снаружи. И там – под оленьим, скрипящим от снега, худым животом – я увидела ангела. Вернее сказать: новогоднего гостя, но с мертвыми и восковыми ушами…
Тогда, в первые минуты этого робкого раннего утра, я не знала и догадаться не могла, что через несколько лет полного, избалованного Зураба посадят в тюрьму за скупку вынесенного со склада дерматина, которым он обивал двери соседских квартир (чтоб в доме всегда были фрукты, чурчхела, телятина с рынка!), Тамара, родившая девочку Эку с глазами Зураба и носом Зураба, сейчас же оформит развод и уедет, а Гия, вернувшись в свой теплый Тбилиси, исчезнет совсем, навсегда, безвозвратно, как могут исчезнуть одни только люди…
В восемь часов мои гости ушли, а весь самиздат почему-то остался. И отец, вернувшись с празднования Нового года, увидел все эти листочки: Синявский, Буковский, стихи из романа…
– Кто здесь был? – тихо спросил он, белея всем лицом и пугая меня этой бледностью гораздо больше, чем если бы он закричал. – Что тут было?
Я забормотала, что люди – хорошие, очень хорошие…
– Что ты собираешься делать с этим? – И он побелел еще больше.
– Не знаю…
Я, правда, не знала.
– Ты этого – слышишь? – не видела! Этого не было.
– Но мне это дали на время, мне нужно вернуть…
– Ты этого видеть не видела, я повторяю!
И бабуля, только что приехавшая от подруги, с которой до двух часов ночи смотрела по телевизору новогодний «Огонек» и очень смеялась на шутки Аркадия Райкина, стояла в дверях и беззвучно шептала:
– Не смей спорить с папой!
Тогда я, рыдая, ушла в свою комнату, легла на кровать и заснула. Проснувшись, увидела солнце, сосульки, детей в пестрых шубках, ворон, горьких пьяниц, бредущих к ларьку с независимым видом… Увидела всю эту, дорогую моему сердцу, московскую зимнюю жизнь, частью которой была сама, обрадовалась ее ослепительной белизне, своим – еще долгим – веселым каникулам, своей все тогда освещающей юности…
А в самом конце той же самой зимы в Большом зале консерватории состоялся концерт Давида Ойстраха и Святослава Рихтера. Два гения вместе и одновременно. Не знаю, каким же я все-таки чудом достала билеты. А может быть, меня пригласил тот молодой человек, лица которого я почти не помню, но помню, что он был в костюме и галстуке. Концерта я тоже не помню, поскольку мне было и не до концертов, а только до личной и собственной жизни, которая настолько переполняла и радовала меня, что, даже случись тогда Ойстраху с Рихтером вдруг слабым дуэтом запеть под гармошку, я не удивилась бы этому тоже. Но в антракте, когда цепко осмотревшая друг друга московская публика выплыла в фойе, усыпала бархатные красные диванчики и зашмыгала заложенными зимними носами, я вдруг увидела, как по лестнице стрелой промчался тот самый Валентин Никитин, который не ушел, стало быть, под брюхом оленя, не сжег себя рядом с Кремлевской стеною, но, весь молодой и горячий, в своих потемневших и стоптанных тапочках, в своем пиджачке, в своем узеньком шарфе, – промчался, влетел прямо в двери партера, а дальше была суета, чьи-то визги…
Во втором отделении нарядные ряды партера начали испытывать сдержанное волнение, оглядываться друг на друга, поправлять прически, покашливать, как будто бы где-то над их головами летают особенно жадные пчелы. Мой молодой человек с его незапомнившимся лицом, но в чистом костюме и галстуке, сидел очень прямо, ловил звуки скрипки и, кажется, тоже чего-то боялся.
Обьяснилось довольно просто: на этом концерте был сам Солженицын с женою и тещей. И многие знали об этом событии. В антракте же вышел нелепейший казус: студент из Тбилиси, без верхней одежды, ворвался, как вихрь, и, всех опрокинув, упал на колени, зажал Солженицыну снизу все ноги и стал целовать ему правую руку. Великий писатель стоял неподвижно, руки не отдернул и сам был в волненьи. Пока не сбежались туда контролерши, пока не позвали двух-трех участковых и не сообщили куда-то повыше, никто и не знал, что положено делать. Конечно же, в зале был кто-то из «ихних»: какой-нибудь, скажем, француз или турок, какой-нибудь из «Би-би-си» и «Свободы», и все сразу выплыло из-под контроля, наполнило шумом все станции мира, наполнило все провода диким свистом, и тут уж, хоть бей о Кремлевскую стену крутым своим лбом, – ничего не исправишь!
Потом рассказали мне, что Никитина вывели под руки двое милиционеров, и он хохотал, издевался над ними, а милиционеры, мальчишки безусые из Подмосковья, не позволили себе ни одного слова, пока волоком тащили его к машине, и он загребал двумя тапками снег (и было почти как под брюхом оленя!), но, уже открыв дверцу и заталкивая хулигана в кабинку, один из милиционеров, не выдержав, врезал ему прямо в ухо, и сильно шла кровь, и он так и уехал, вернее сказать: увезли по морозцу.
2010
Жена из Таиланда
Деби Стоун, с зимы изучавшая русский язык, и Люба Баранович, ее учительница, молодая, недавно эмигрировавшая из России, стояли на платформе и напряженно всматривались в усыпанную мелким дождем темноту, откуда должен был вот-вот появиться поезд. И он появился: сначала горящие, выпученные глаза его, потом ярко-черная морда и, наконец, все его натруженное, длинное и скользкое тело, внутри которого находились те, которых они поджидали. Пока заранее улыбнувшаяся Люба не подошла к ним и не заговорила, они, насупленные, стояли возле своего вагона, не двигаясь с места. Услышав Любино «здравствуйте!», прибывшие оживились, и самая высокая из них, большегрудая, рыжая и растрепанная, с бантом в помятой прическе, бросила свою сумку наземь и всплеснула руками так энергично, как будто и Люба, и стоящая чуть поодаль смутившаяся Деби были первыми на свете красавицами. От резких движений рукава ее плаща съехали, и большие часы под названием «Командирские» сверкнули, как летнее солнце.
В восьмиместном автобусе, взятом напрокат специально для съемок, помчались в гостиницу, где Деби еще вчера зарезервировала несколько номеров. Чернокожая дежурная с распрямленными кудрями, которые она все время сдувала с переносицы, оттопырив свою лиловатую нижнюю губу, сняла копии с российских паспортов и, широко улыбаясь, сообщила, что завтрак накроют внизу рано утром. После этого гости наконец-то отправились спать, а Деби, смущенная, с Любой, взволнованной встречей, тревожно кокетливой, тоже расстались.
Ночью раздался звонок, и Люба, успевшая лечь и закрыть свои веки, узнала хрипловатый голос Деби, бормочущей чушь и нелепость:
– А мы ведь должны им помочь! Какие прекрасные люди! Если нас попросили участвовать в съемках, значит, это что-то важное для твоей бывшей страны. Я понимаю, что ты уехала и, верно, обижена, да? На вашу страну и на партию. Я понимаю. Однако же люди – при чем? И какие! Ты видела: там есть писатель? И он мне сказал, что он «малчык войны». А что это: «малчык войны»? А рядом был Петья. И он оператор. Такой смешной нос! Как у утки. Ты слушаешь, Луба?
«Луба» кивнула и увидела, что в зеркале вместе с ее покорным кивком уже отражается дерево. Дождя больше не было. В небе, как астра, рассыпалось утро.
Съемки начались в одиннадцать, но не в Гарварде, как предполагали поначалу, а в большом и неуклюжем доме Деби, которой благодарные гости решили сделать приятное и предложили выступить перед многомиллионным российским зрителем.
– Я что говорю? – Рыжая Виктория надвигалась на Любу в своей золотой, с черным бархатом кофте. – Что женщина – главное в мире! Вот кто-то сказал, я не помню, ну, типа царя Соломона, что женщина – это приятно! И он не ошибся! А Деби для нас ведь находка! Простой трудовой человек из Америки всю жизнь посвящает тому, чтоб помочь! Вот этих казахов она привезла, малышей. Ну, бедняжечек этих! Из Алма-Аты. Они здесь закончат колледжи, вернутся домой. Им Деби сейчас ближе мамы!
Люба не стала объяснять, что у «бедняжечек» из Алма-Аты были отцы, которым принадлежали нефтяные и газовые скважины, а сами «бедняжечки» познакомились с доверчивой Деби на конференции пацифистов, случившейся летом в Алма-Ате, где они работали переводчиками.
Широкое лицо хозяйки пылало пожаром, и шелковая блузка, в которую она нарядилась для съемки, была тоже жаркого красного цвета.
– Котенка, котенка ей дать! – командовала Виктория. – Большим крупным планом – котенка! Животное! Близость к животным! Гуманность! И скажем за кадром, что сердца хватает на всех! Всех спасает!
– Да прямо уж – всех! – лениво усмехнулся оператор с носом уточкой и подмигнул Деби. – Кого же она, бляха-муха, спасла-то?
– Кого? – возмутилась Виктория. – Ах, Петя, ты скажешь! Да вот хоть котенка! Гуляет в лесу, видит: мертвая кошка. Ну, кто наклонился бы? На руки взял? Сдох, и ладно! А тут… Тут ведь сердце! Берет она кошку и мигом в больницу! И все трансплантируют. Все, до копейки! Все почки, всю печень. Включая и глазик. Да, глазик! Искусственный. Цвет-то! Как небо!
Кошка повела на оператора большим, ярко-синим, загадочным глазом. Второй глаз был карим, почти даже желтым, и видно, что свой, от природы, обычный.
– Черт знает! – пробормотал оператор. – У нас человека лечить не пристроишь, а тут, бляха-муха…
Через два дня русскую команду, нагруженную еще больше, посадили в нью-йоркский поезд. Поэт Сергей Егоров, «мальчик войны» и автор нашумевшего стихотворения «Мои яблоки», ставшего песней, не менее знаменитой, чем «Подмосковные вечера», припал к Дебиной руке. Рыжая горячая Виктория обняла ее, вся задохнувшись:
– Родная! Идею твою принимаем! Работать согласны. Совместно. И дома, в Москве, и здесь, в Штатах. И сделаем фильм. Всем покажем!
Тут он подошел. Совсем по-хозяйски, вразвалочку. Нос как у утки. Крепкими руками притиснул Деби к себе. Шея его пахла сигаретным дымом, а пальцы были горячими и жадными. Потом отпустил, не целуя.
– Ну ладно, подруга, – громко, как глухой, сказал он. – Приедешь в Москву, погуляем.
* * *
Летели долго, с двумя утомительными пересадками – в Нью-Йорке и в Хельсинки. Волновались, как их встретят и встретят ли: все решилось в последнюю минуту. В Шереметьевском аэропорту было накурено, стоял везде ровный, взволнованный гул, сильно пахло разлукой. Туалетной бумаги не было. Неуклюжая Деби поставила сумку на краешек раковины, разбила бутылку с коньяком, купленную в Хельсинки. На запах и грохот пришли две уборщицы с одинаковыми тусклыми лицами, напоминающими монеты, попавшие под колесо.
– Дурында какая! Ах, Господи! – сказали они и всплеснули руками. – Бывают дурынды-то, Господи!
Объятие Виктории было горячим, тяжелым и громким, как сумка с камнями.
– Ну, все! Наконец-то! Родные! Ну, слава те, Господи! Петя, ты где? Все, начали съемку! Минута прибытия. Взял и пошел!
В черных измятых штанах, в черной майке Деби смутилась до слез, встретившись с его прищуренными глазами. Опять подмигнул, засмеялся. Она закрыла лицо мясистыми бордовыми георгинами, которые жалобно пахли землею.
Летом девяносто второго года в Москве было жарко почти с Первомая. Асфальт накалился, сирень стала желтой. С гостями из Штатов начались неприятности. Во-первых, еда. На завтрак в гостинице «Юность» давали крутое яйцо, ломтик сильно блестящего сыра, красивый цветочек из твердого масла и сахар кусочками. Хлеб – белый с черным. Чай, кофе, какао на выбор. Все вроде в порядке. Однако на третий же день группа вдруг заболела. Сидели понурые, пили боржоми. Боржоми бурлило в желудках, как Терек. В двенадцать часов по московскому времени к молоденькой ассистентке режиссера, спустившейся вниз за шампунем, пристали чужие усатые люди. Зрачки как маслины, мохнатые шеи – в цепях, пальцы – в перстнях. Вошли вместе в лифт и нажали на кнопку. Только когда доехали до восьмого этажа, догадались, что птичка по-русски ни «бе» и ни «ме». Чеченского тоже не знает. Выпустили на втором этаже, погладили по голове, пощелкали вслед языками. Ассистентка ворвалась в номер к Любе Баранович, стучала зубами от страха. Едва успокоили.
У Любы была вся команда плюс Петр с Викторией. Проект обсуждали на двух языках, все кричали.
– Что я хочу снять? – надрывалась глотнувшая водки лохматая Деби. – Я жизнь хочу снять, вашу жизнь! Вот ваши мужья. Это ужас! Они же третируют жен! А жены? У них же мужья как прислуга! Вчера один муж бил жену рядом с почтой. И видели все. Полицейский их видел. И он промолчал. Это ужас! А утром другая жена била мужа. Ну, то есть, в общем, не била, а сильно толкала. Вот так! Прямо в спину.
– Эх, Дебочка! Жизни не знаешь! – усмехнулся Петр и накрыл руку Деби своей горячей ладонью. – Не бьет – так не любит. Народ наш – дерьмо. Дерьмо, говорю! Понимаешь? А лучше нас нету. Такая вот штука.
– Ти што говорите? – испугалась Деби.
– Ах, что? Он согласен! – простонала Виктория и схватилась за виски, исписанные мелкими поперечными морщинками. – Конечно, согласен! А как ведь все было? Ведь ты же не знаешь! Сначала Орда, жуть, татары. На улицу просто не выйдешь. Кибитка к кибитке. И лошади тут же! Потом интервенты. Ну, это уже в нашем веке: Колчак и Деникин, и красные тоже. Потом продразверстка. Потом сорок первый! Спасали весь мир. Все – в окопы! И вши тоже были. Буквально на людях! Да, что говорить! Настрадались! Колеса истории, как говорится. Сейчас у нас бизнес. Кто спит у нас ночью? Никто, ни секунды! Когда людям спать? У них у всех бизнес!
– А что? Что плохого? – огрызнулся Петр и налил себе коньяку в темно-синий стаканчик. – Жрать хочешь – крутись! Не подохнешь!
– Ой, что я сижу-то! – спохватилась Виктория и вспыхнула как бузина. – Ведь нужно же пленки смотреть! Встали, Петя?
– Вот ты и смотри. – Оператор вдруг отвел глаза. – Мне Деби журнальчик один обещала. У ней вроде в комнате. Помнишь?
* * *
С первым своим мужем, сутулым и рыжим ирландцем, она прожила три недели. Сначала был весел и вдруг загрустил, заметался. Запил беспробудно. Потом оказалось, что он алкоголик, все время лечился. Она и не знала. Пришлось удрать к матери – с пузом, без денег. Они развелись, когда дочке был месяц. Ирландец оставил свой дом и все деньги. А сам, видно, спился, погиб под забором.
Второй, итальянец, имел свою адвокатскую контору, занимался бракоразводными процессами. Мечтал все поймать на измене. Жизнь с ним была бурной и очень тревожной. Потом изменил ей он сам. И как! С секретаршей. Она не стерпела, расстались врагами.
И третий, который был полным и мягким, как тесто, ее тоже предал. Ушел к своей первой возлюбленной. Она овдовела, вот он и ушел. Прямо перед разводом умер его отец, оставив сыну огромное состояние. Деньги по законам штата Массачусетс поделили поровну. Деби оказалась богатой, израненной и одинокой. И с дочкой у них не сложилось. Приедет на день: «Мама, мамочка!» Чмок! Улетела! Потом и звонка не дождешься.
* * *
За окнами гостиницы начиналась гроза. Все было лиловым от вспышек, особенно клумба с ромашками прямо у входа. Лиловые ромашки жались к земле, и земля содрогалась. Потом хлынул дождь.
– Эх, славно! Гроза! – бормотал Петр. – Люблю, когда дождь!
Узкие глаза его стали дикими, словно слепыми, лоб мокрым, блестящим от пота.
– Люблю грозу в начале мая! – вскрикивал он, приподнимаясь и опускаясь над ее неловким, горячим и радостным телом. – Когда весенний первый гром…
– О! – задыхалась она, стараясь понять то, что он говорит. – О, Петья! Лублу как я вам! Очэн! Очэн!
Виктория просто сходила с ума. Проект летел к черту. Влюбилась как кошка, а он нос воротит. К тому же женат! Что будет, когда она это узнает? Тогда все, конец, хоть бросайся под поезд! При этом сама Виктория очень любила трогательную историю Петровой женитьбы и раньше, до появления Деби, часто рассказывала эту историю со слезами на глазах.
Они поженились, еще восемнадцати не было. Мальчишка с девчонкой. Уехал в Москву. Ну, талант! Не придраться. И тут поступил. Она в Николаеве, ждет его, значит. Ну, ждет да ждет. А он все не едет. Ее не зовет. Что женат, что свободен – поди разбери! Оператор от Бога! Вот мне говорила София Ротару: «Когда крупный план, только Петю! У всех, у других, я – лягушка!» По мне, так она просто жаба, но Петя умеет! Раз щелкнет, два щелкнет, и вот вам шедевры! Влюбился в одну. Муж в Париже. Помощник посла. Сама она – стерва, одета как кукла. Ну, муж только рад, что любовник завелся. Ему только легче. А наш-то не шутит! Сначала, конечно, развелся. «Прости меня, Оля! Не знаю, как вышло!» Она – ну ни слова! «Конечно, конечно!» Мол, все понимаю, давай разводиться. И все. Они развелись, он женился. Скандалы, измены. Такой был кошмар, вспомнить страшно! Опять развелись. Отдохнул и – по новой! Другая мерзавка, «Умелые руки»! Кружок был по третьей программе, кораблики делали. Баба – картинка! При этом мерзавка, мерзей не бывает. Пожили-пожили, опять все насмарку. И тут телеграмма от Оли: «Вот так, мол, и так. Торопись: мать в больнице. И врач говорит: плохо дело».
Сорвался, поехал. В больнице сказали: «Берите домой, мы не держим». Он взвыл благим матом. Куда ее брать? И тут Оля: «Езжай, не волнуйся, все будет в порядке». И мать забрала. Я ни слова не вру! К себе забрала, в коммуналку. Мать – все под себя. Недержание. Любая бы – что? Но не Оля! Все терпит, святая! Приехал он мать хоронить. Там все уже сделано, чисто, блины, угощенье. И тут-то его как бабахнет: «Да что ж я, дурак! Вот мне друг, вот жена! Стакан перед смертью подаст, это точно!» И – бах! Предложение! Ей!! От-ка-за-ла! Такое вы слышали? Я – никогда! Уехал в Москву. Ей звонит каждый день: «Давай выходи!» Ни в какую. А летом приехала. Прошлым. Болел. Чего-то там резали, точно не знаю. Ухаживать нужно? Ну, тут и она. Святая! Буквально святая. Живут. Но Олечка замуж не хочет. «Что мне этот замуж? Я в нем уж была!» Такая история! Чудо!
* * *
Заросший седыми, отливающими в желтизну волосами старик сидел на пустом перевернутом ящике. Белый дом смотрел на него равнодушными своими окнами, молодые, недокормленные милиционеры его почему-то не трогали. Жилье старика было очень простым: ящики и коробки, нагроможденные друг на друга так, что из всего вместе получилась избушка, плотно накрытая газетами и сверху газет – целлофаном.
А в пятницу днем вдруг приехал автобус. На правом боку у автобуса было написано: «Съемки», на левом: «Останкино». Из дверцы скакнула высокая, полная женщина с сумкой. Лицо ее было немного напуганным, круглым и красным. Но так неплохая, хотя и с приветом.
Старик приподнялся:
– Идите, идите, гостям всегда рады.
Иностранная женщина крикнула что-то свое внутрь автобуса. С подножки его тут же спрыгнули двое: мужик в рваных тапках и девка-красотка. Мужик залопотал по-русски, но так неумело и подобострастно, что ясно любому: приезжий. Девка-красотка заулыбалась сахарными зубами, сказать – ничего не сказала. Видать по всему, не умеет.
– Садитесь давайте, – захлопотал старик, придвигая к ним ящики. – Местов нам хватает. А как же вас звать-то?
Гости осторожно расселись. Мужик в рваных тапках сказал:
– Меня зовут Ричард.
– Куда-а? – огорчился старик. – Такого не знаю. По-русски как звать-то?
Мужик засмеялся и развел руками.
– Григорием будешь, – решил старик. – Ушам хоть не тошно.
– Зачем здесь сидите? – спросил иностранный Григорий.
– Зачем я сижу-то? – загадочно прищурился хозяин. – Затем, что причины имею.
– Какие же это пры-чы-ны?
Старик начал степенно рассказывать историю жизни, бедовую и непростую. Гости внимательно слушали.
– Остался, как есть. Без всего. Ну, думаю: ладно. Пошел я сюда. Здесь у них дерьмократы. – Он хитро посмотрел на Ричарда и подмигнул ему. Ричард испуганно расхохотался. – Устроил жилье. Тепло, ладно. Пишу президенту письмо, пусть читает.
– А вас всо-таки не прогонят? – вежливо поинтересовался Ричард.
– Меня-то? Ни в жисть не прогонят! Куда меня гнать? Я гляжу в корневище!
– В кого вы? – не понял Ричард. – И что это вот: кор-нэ-вы-ще?
– Да что! Корневище! Все вижу. И жисть твою вижу, и все твои дрюки.
Иностранный Григорий окончательно растерялся:
– Мои это… что?
– А то! – И старик крепко хлопнул его по колену. – Мужик ты незлой, книжки любишь. Сынок у тебя непутевый, а баба лентяйка, но ты с ней не очень… Еду уважаешь, и рыбку особо. Еще что? Здоровый. Башка варит важно, но скачешь уж больно. Людей привечаешь, боишься обидеть. Деньжата, бывает, плывут, и большие. Но все больше мимо, поскольку ты, парень, с деньгами не дружишь, транжиришь их много… Совет могу дать. Будешь слушать?
Ричард торопливо закивал головой.
– Ты, милка, на Троицын день, – старик понизил голос и придвинулся своим седым и заросшим ртом к уху Ричарда, – скажи-ка молитву. Сперва на коленочки стань и скажи: «Пречисте, нескверне, безначальне, неисследиме, непостижиме, невидиме, неисследиме, неприменне, непобедиме, неизчетне, незлобиве Господи! Един имеяй бессмертие, во свете живый неприступном, сотворивый небо, и землю, и море, прошения подаваяй!» Запомнил?
– Ну вот, а про эту что видно? – Ричард указал подбородком на Деби, которая широко раскрытыми глазами наблюдала за происходящим, ни слова не понимая.
– Про эту? – польщенно заулыбался старик.
Лицо его вдруг изменилось.
– Чего я там вижу? – забормотал он, вставая со своего топчана и сильно нахмурившись. – Чего мне глядеть там? Делов еще много… И вам тоже время… Вон транспорт заждался!
Когда же автобус отъехал наконец и солнце, раскалившее донельзя окна Белого дома, укрылось за бронзовой тучей, старик стянул с головы дырявую ушанку и несколько раз торопливо перекрестился: