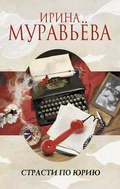Ирина Муравьева
Мы простимся на мосту
Михаил Эпштейн
ВЛАСТЬ ДУШИ, ИЛИ ПОХВАЛА СЕНТИМЕНТАЛИЗМУ
О прозе Ирины Муравьевой
Что такое душа и на чем держится ее власть над нами, никто в точности не знает. Иные знатоки, выступая от имени точных наук, даже утверждают, что душа – это миф, что поведением людей правят гены и гормоны, а их химические реакции воспринимаются нами изнутри как душа. Но не вернее ли наоборот: наши душевные движения воспринимаются извне приборами как реакции молекул или электрические разряды нейронов в мозге? Но мы-то сами не приборы, мы находимся не там, где нас извне наблюдают, а там, где эти внутренние движения зарождаются и происходят. А значит, от себя, от своей души нам все равно никуда не деться.
Об этой неотменимой реальности души напоминает нам литература, которую принято снисходительно называть «сентиментальной». Когда-то, в XVIII столетии, сентиментализм был свежим и обновляющим движением – художественным авангардом эпохи Просвещения. Томас Грей, Сэмюэл Ричардсон, Лоренс Стерн, Жан-Жак Руссо, Николай Карамзин… Прочь от рационалистических условностей классицизма, от всех этих нравоучительных схем, иерархии жанров – к излияниям человеческой души! Сентиментализм открыл уникальность личности, не подвластной никаким моральным шаблонам и гражданским нормам. Из сентиментализма родился романтизм, расширивший душевное до духовного, до представления об исключительной, мирообъемлющей личности.
Но дальше, за чередованием разных школ и направлений, от реализма до модернизма и постмодернизма, сентиментализм был забыт, точнее, отошел в область уже не столько индивидуального, сколько стереотипного. Вся литература от середины XIX до конца XX в. стеснялась прямого обращения к чувствам, поскольку и научное мировоззрение, и социальные идеологии учили обратному: чувства предопределены либо биологически, либо социально, в них нужно видеть выражение либо классовых, либо половых инстинктов. И вообще задача художника – дистанцироваться от всех первичных, «голых» эмоций, перекрывать их иронией, метафорами, языковой игрой. Даже поэзия, как говорил Т. Элиот, – это «не свободный выход эмоции, а бегство от эмоции; не выражение личности, а бегство от личности». Этот постулат, усвоенный модернизмом середины XX в., был передан по наследству постмодернизму конца XX в., и скептическoe отношение к экспрессивно-эмоциональному в тексте – то немногое, что их объединяло.
Между тем эмоции, конечно, никуда не ушли, но они оттеснялись на периферию большой литературы, в отдельный жанровый пласт беллетристики – «сентиментальный». Наиболее успешно освоила этот жанр и добилась его массовой популярности прекрасная и чувствительная половина человечества. Даниэла Стил, Барбара Картленд, в России – Галина Щербакова, Татьяна Устинова… Здесь чувства не только царили, но и порой эксплуатировались вовсю, с нажимом и хрустом, превращаясь в «чуйства», в преувеличенные пародии на самих себя. И легко было бы насмешничать над этими стереотипами страстей, нежностей, воздыханий, розовых соплей в голубом сиропе, если бы сами насмешки такого рода не были еще более стереотипны.
Более того, в эпоху ускоренной технизации и информатизации общества сентиментальная литература приобретает важную антропологическую миссию, рассказывая о неистребимости эмоционального в человеческой натуре. Главное стремление сентиментальной литературы, которое на наших глазах становится все более благородным и одухотворенным, – это выявить в человеке самое человеческое, несводимое к информационным, генетическим, медицинским и прочим технологиям. Можно ли строить цивилизацию будущего на основе только интеллекта, придавая ему техническую мощь, совершенствуя до компьютерной точности и попутно освобождая от эмоциональных слабостей?
По сути, сентиментальная литература возвращается к той бунтарской роли, какую играл сентиментализм в XVIII веке по отношению к господствующему классицизму с его культом рассудка, схематизмом правил и приматом искусственного над естественным. Рационализм нашего времени отчасти наследует классицизму, правда, опираясь уже не на образцы античной классики, а на проекции компьютерного будущего. Но и в том, и в другом случае функция сентиментализма – вызов технологическому подходу к человеку, восстановление дикого, непреодолимо чувствительного и чувственного в его природе. Тем самым современный сентиментализм возвращается в русло «большой литературы», поскольку связан с основными проблемами века, с выбором ориентации для будущего человечества.
Разумеется, значительная часть сентиментальной словесности остается развлекательным чтивом для чувствительных девиц и домохозяек. Но такое расслоение на разные эстетические уровни происходило и с другими направлениями литературы, включая романтизм и реализм, у которых были свои вульгарно-массовые разновидности. Важно то, что сентиментализм сегодня заново приобретает черты цельного и последовательного мировоззрения, а тем самым и открывает для себя выход в большое литературное пространство. В этом смысле проза Ирины Муравьевой – характерно пограничное явление, точнее, знак преодоления границы между сентиментальностью как жанром массовой литературы и сентиментализмом как способом жизнепонимания и жизнетворения.
Можно выделить три исторических периода, когда сентиментализм был призван к служению Литературе с большой буквы. Первый – это, конечно, Н. Карамзин и его школа, бросившая вызов классицизму XVIII в. и затем сдавшая его в архив, а также сформировавшая новый русский язык (честь, которая незаслуженно приписывается одному Пушкину). Вторая волна сентиментализма – это 1840—1850-е гг., раннее творчество Ф. Достоевского («Бедные люди») и Л. Толстого («Детство. Отрочество. Юность»). Этот сентиментализм отталкивался от того просветительского рационализма, который выразился в деятельности В. Белинского и сформированной им «натуральной школы».
Третья волна сентиментализма пришлась уже на советское время и достигла пика в 1950—1960-е гг., как результат разочарования в коммунистической догматике и проекте рационально-революционного переустройства общества. В официальной эстетике нового строя господствовал социалистический реализм, который в силу его нормативности, идеальности, героичности было бы правильнее, по верному замечанию А. Синявского, назвать социалистическим классицизмом. Как антитеза этой суровой догматике со временем выдвинулось течение «социалистического сентиментализма», с его мягким, добрым взглядом на человека и его место в природе. Социалистический сентиментализм лиричен и пейзажен, от злобы дня и жестокости классовых битв он обращается к детски-наивному и старчески-мудрому взгляду на гармонию человека с самим собой и с природой. Предтечей этого направления может считаться М. Пришвин, а главным достижением – роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Если рассматривать его как произведение сентиментализма, то сразу отпадут многие эстетические претензии к нему, которые исходят из того, что этот роман обязан следовать логике реализма. Живаго – типичный сентиментальный герой, живущий в мире природы, любви и поэзии, которые защищают его – увы, не слишком надежно – от социально-политических реальностей революционного времени. В 1950—1960-е гг. эта сентиментальная линия была продолжена в поэзии Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Б. Ахмадулиной, Н. Матвеевой. Евтушенковское «людей неинтересных в мире нет» стало своеобразным отзывом на карамзинское «и крестьянки чувствовать умеют». И в поэзии, и в прозе – В. Панова, И. Грекова, В. Солоухин – отвергался героический канон соцреализма и утверждалась поэтика чувствительности, мечтательности, уязвимости человеческого сердца.
И вот в последние лет 10–15 поднялась четвертая сентиментальная волна, уже постсоветская. Она возникла благодаря разочарованию в очередном рациональном проекте: переустройстве российской жизни на началах капиталистического разума и свободной трудовой этики. Особенность этой четвертой волны – то, что она представлена в основном женщинами как хранительницами и воспитательницами чувств. Мужчины дезертировали в постмодернизм, концептуализм, социальный реализм, фантастику, публицистику, биографический жанр… На знаменах сентиментализма остались только женские имена. Л. Улицкая, Т. Толстая, М. Вишневецкая, Д. Рубина, В. Токарева…
Среди них Ирина Муравьева занимает особое место.
Я бы назвал ее прозу пронзительно сентиментальной, в том смысле, что мир чувств не отделен от мира вещей, но пронизывает собой историю, всю предметную и социальную реальность. И сами чувства достигают такой пронзительности, что истощают, опустошают, выжигают души тех персонажей, которых автор проводит через это испытание.
Проза Муравьевой всегда захватывает так, как будто налетает ветер и несет читателя с первой страницы до последней, не позволяя перевести дыхания. Муравьеву не так легко цитировать, поскольку вся сила ее прозы – в сцепке деталей, в перекличке лейтмотивов. Но вот один из фрагментов, который можно считать исповеданием ее художественной веры. Говорят муж и жена Веденяпины, до полусмерти истерзавшие друг друга любовью, ненавистью, отчаянием, всей этой каруселью чувств, как будто еще не отделившихся друг от друга и предстающих – как часто у Муравьевой – в своей саморазрушительной амбивалентности. Но это не только их чувства, это состояние терзающей себя страны – события разворачиваются в 1917 г. (роман «Холод черемухи»): «Это только кажется, что мы с тобой и эти выстрелы, и всё, что сейчас там, в городе, – она показала подбородком на темноту за окном, – что это совсем никакого отношения одно к другому не имеет. А я, Саша, знаю, что все это – одно и то же, все одно: и мы с тобой, и наш сын, и ложь, и скандалы, и не только у нас с тобой, у всех почти так, поэтому и кровь полилась! Отворили ее! – Нина всплеснула руками, и он содрогнулся: вспомнил этот ее детский давнишний жест». Семейные скандалы достигают масштаба войн и революций, поскольку заводятся тем же самым нервическим повышением тона, истерическими нотками в голосе: влюбленных, супругов, властей, сословий, народов… История тоже вплетена в узор интимнейших чувств и отношений, которые экспрессивно настолько напряжены, что выходят за рамки интимности.
Достоевский изобразил непонятную для европейцев любовь русских к скандалам, когда все общественные условности вдруг мигом слетают с людей, закрученных вихрем какого-то нервического припадка откровенности: режь правду-матку – и пропади все пропадом. Вот скандал, закипая по семьям, чинам и сословиям, и громыхнул на все общество – революцией. Все летит вверх тормашками. Еще недавно приличные люди начинают выворачивать друг другу карманы, сначала исподтишка, а потом все более наглея в присутствии обкраденного, попутно объясняя ему, что сам он вор. И по мордасам, по мордасам. И визгливые возгласы: «мое!» – «не твое!» – «отдай!» – «не трожь!» – так называемая идеология. Ленин: «А вот сейчас как вдарю!» Либералы: «А ну-ка убери руки!» Монархисты: «Вязать его, сукиного сына!» Меньшевики: «Полегче, полегче, сейчас разберемся, товарищи». Народ: «А ну отойди от меня, я припадочный!» Революция – это и есть скандал, только не семейный, а всенародный.
Об этом – последняя трилогия Ирины Муравьевой, начатая романом «Барышня» и продолженная романом «Холод черемухи» (скоро выходит в свет и завершающая часть трилогии «Мы простимся на мосту»). Это самое монументальное еe произведение – и вместе с тем первое на историческую тему: эпоха, разломленная пополам революцией, 1910—1920-е гг. Угадываются мотивы и нотки «Доктора Живаго», «Хождения по мукам», «Белой гвардии». Поначалу хочется даже воспринять эту трилогию как вольную вариацию и «суммарный образ», своего рода концепт русского социально-психологического романа о революции. Только социальные темы здесь разрежены, а «психотемы» и «психосущности» сгущены. Так выявляется особый подход Муравьевой к истории, который можно назвать эмотивным. Она ищет объяснения всему происходящему со страной не в политических, социальных, экономических обстоятельствах, не в роли тех или иных выдающихся личностей, не в особенностях исторического пути или религиозного самосознания России. Для нее революция – это эмоция, которая постепенно овладевает множеством людей, переливается через край, выходит из-под контроля и перерастает в истерику. Недаром один из главных персонажей «Холода черемухи», Алексей Валерьянович Барченко – это исследователь трансов, истерик, гипнозов и других «измененных» состояний души, работающий по личному поручению Дзержинского на революцию, на ЧК. К нему обращается дерзкая, своевольная Дина, ставшая его любовницей и униженно готовая идти за ним на край света: «Вы же говорите, что истерика – это самое высокое состояние! Вы вон шаманов любите, потому что они все время в истерике! Вы опиум курите! Вы и на Тибет собрались, чтоб только проверить, как там у них с истерикой…» Отсюда и взгляд Муравьевой на революцию: не как на переворот, а как на припадок. Вообще Муравьева – мастер изображения таких чувств: страсти, ревности, обиды, нетерпения, смятения, отчаяния, – которые обладают механизмом самозаводки и перерастают в истерию. На символическом уровне это соприкасается с традиционным представлением о женственности русской души. Русь – «возлюбленная, жена, мать, подруга, незнакомка», а значит, как утверждают психологи, более, чем мужская душа, расположена к таким истерическим состояниям, где сладкая боль и мука наслаждения неразделимы (не случайно само слово «истерика» происходит от греческого, означающего «матка»).
Стиль Муравьевой – это избирательный, утонченный гиперболизм чувств, своего рода гиперпсихологизм.
«Он смотрел на жену с этими ее расширившимися глазами, слушал ее ровный голос, и тихая холодная дрожь колотила его изнутри. Совсем рядом с новой, угрожающей силой прокатились выстрелы». Здесь интенсивность каждого действия: расширившиеся глаза, колотящая дрожь, угрожающая стрельба – доведена до предела, как будто через них проходит одна эмоциональная волна. Эта концентрация каждого переживания, приобретающего, помимо психологического, еще и событийное, «историко-истерическое» измерение, выделяет Муравьеву в кругу современной женской прозы. Каждое чувство у Муравьевой заостряется, порой до страсти и наваждения, – и перерастает в жизнечувствие. «И главное: ненависть укрупняла наставшую жизнь, наделяя ее почти и немыслимым прежде, мучительным смыслом».
Этот сентиментализм, распространяясь на вещи, природу, историю, на своем пределе переходит в анимизм, т. е. представление об одушевленности каждого предмета и мироздания в целом. Это придает особую эмоционально-сюжетную напряженность муравьевской прозе, как будто единая душа правит всем происходящим, в этой душе сливаются люди, дома, облака, деревья, улицы, города, народы… Порою эта интенсивность достигает степени унанимизма – поэтики «общедушия». Такое направление существовало во французской литературе первых десятилетий XX в. (Жюль Ромэн, Жорж Дюамель и др.). Унанимисты стремились показать «единодушную» (unanime) жизнь людей, вещей, событий, обнаружить мистическую душевную связь семьи, группы, толпы. Разумеется, Муравьева далека от урбанистического, коллективистского духа унанимизма. Ее мысль – не народная, а семейная: бесконечно запутанные, обморочные, вяжущие петли отношений между близкими людьми. Но именно в новой трилогии эта картина разваливающейся жизни нескольких семей перерастает в панораму революции, которую Муравьева рассматривает как психиатрический феномен «разделенного помешательства». «…Если в семье есть один сумасшедший, его бредовые идеи, а также и страхи, а также и мании, постепенно овладевают всеми остальными членами семейства… Бред Ульянова-Ленина не только индуцировал его ближайших помощников, но с помощью мощно развитой советской пропаганды завладел огромными массами людей…»
Блестяще написаны портреты исторических фигур, в каждой из которых тоже проглядывает личное безумие, вливающееся в общее безумие революционного времени. Ленин, Дзержинский, Клюев, Есенин, Лариса Рейснер… В портрете последней поражают глаза, «спокойные и бешеные одновременно, похожие на спелые виноградины своим чистым зеленовато-солнечным светом, которые вдруг очень ярко темнели, когда опускались густые ресницы».
Как и во всей нашей вселенной, в мире Муравьевой на маленькую долю видимого вещества приходится огромная масса «темной материи» и особенно «темной энергии». Почти невозможно судить о силе воздействия ее прозы по подбору слов, вроде бы вполне заурядных. Трудно доказывать с цитатами в руках, что эта проза воздействует на читателя своим музыкальным напором, причем музыка рождается не на уровне ударений и слов, а на уровне мотивов, событий, судеб, вступающих в полифоническую перекличку. Если остановить поток этой прозы, выделить из него несколько слов, фраз, то можно пожать плечами: ну и что? Но эта проза живет только в движении. Если взять на ладонь несколько капель и рассмотреть их бедную прозрачность, то никак нельзя предугадать силы той волны, которая ударит тебя через мгновенье. Вообще с уровня языка, излюбленного плацдарма литературы XX в. (как модернистской, так и постмодернистской), сентиментальное направление выходит на уровень тех душевных движений, которые передаются читателю всей протяженностью голоса, всем ритмом дыхания и не воспринимаются в малых промежутках, в фонетических и лексических слагаемых текста. Поэтому нет возможности судить об эстетических свойствах муравьевской прозы лишь на уровне лингвистического анализа, – но только на уровне того, что М. Бахтин называл «высказыванием», т. е. романным целым во всем его эмоционально-смысловом напряжении.
Тем не менее и по частностям иногда можно составить представление о целом. Муравьева обладает поразительным даром вчувствоваться в своих персонажей, видеть их глазами, осязать их кожей и переживать с ними даже смерть. Вот маленький фрагмент, свидетельствующий об изобразительной и метафорической силе ее письма: состояние болезни, едва не закончившееся смертью главной героини.
«Ни света в туннеле, ни даже самого туннеля, ни Дины, ни мамы, ни папы, ни няни, но было болезненно покалывающее, тянущее, сводящее ноги и руки, как сводит их летом в холодной воде, отсоединение ее самой от того, что казалось ею. Это странное, медленное и натужное отсоединение осуществлялось с помощью разрыва каких-то наполненных кровью волокон, которые разрывались не просто так, а каждый пучок со своим новым звуком, и самым отчетливым среди всех был звук, похожий на тот, который весна извлекает из снега, уже почерневшего и обреченного».
Переживание смерти передается звуком снега, с которым он, тяжело вздохнув, вобрав воздух в свои крупнеющие ноздреватые поры, вдруг горестно опадает. Муравьева не просто пишет о чувствах – она умеет их предметно выразить, как мало кто в современной литературе. Это сентиментализм, вобравший в себя точность реализма. А главное для большого сентиментального стиля – Муравьева умеет показать власть души над человеком – загадочной, неведомой души, которая хранит тайны даже от самой себя. «Ни одна душа не знает, что ее ждет. Душе только кажется, что она чувствует все, и в этом ее сокровенная сила». Это душа совсем не в психоаналитическом смысле – юнговской анимы или фрейдовского «оно»; она никак не связана ни с народными мифами, ни с архетипами, ни с индивидуальным или коллективным бессознательным, ни с пансексуальностью. Скорее, это душа в толстовском и пастернаковском смысле, т. е. текучая стихия, которая перетекает из природы в личность, из личности в общество, взаимно наполняя их и заряжая энергией чувства-действия. При этом она не нуждается и не поддается психоаналитической расшифровке.
Душа распоряжается не только поступками человека, но и его судьбой. Чувство судьбы исключительно сильное в прозе Муравьевой: не суетно-паническое, не рабски-фаталистическое, а, хочется сказать, аристократическое, что придает благородный оттенок ее сюжетике и стилистике. Плебей, мелкий человек не знает и не боится судьбы, потому что для него есть только непосредственная данность житейских дел, за которыми не стоит никто и ничто, превышающее его волю. Благо-родный – тот, кто чтит благо своего рождения и родителей, свой род и семью как основания своей судьбы. Благородство и судьбоносность – это почти синонимы, почему о судьбе и говорят: «на роду написано». Таковы персонажи Муравьевой, точнее, таково авторское видение тех личностей, с которыми ее сводит искусство романа. Основа этого высокого сентиментального искусства – понимание души человека как его судьбы, в которую нужно вникать, откликаться на ее зов и, мучительно пытаясь с ней совладать, в конце концов признавать верховность ее власти.
Что радует сердце, когда наступает май? Тепло. Тепло и цветы по полям и по взгорьям. А вот в мае 787 года по всей Европе стояли такие холода, что сердце у птиц на лету разрывалось, и, мертвыми, все они падали наземь. Кто помнит теперь этих птиц? Да никто. Точно так же, как никто не помнит и тех очень грубых, курносых ребят, которые без счета погибли от холода зимою 1408 года, когда набежали татары. А в 1417 году, спасаясь от голода, русские люди пошли в Литву (да что там «пошли»! – поползли, потащились, детей своих поволокли) – и тут уж морозы настали такие, что прямо с детьми и вмерзали в снега.
Ах, Господи, не перечислить!
«Мразы стояли великие, – говорят летописцы, которых никто больше тоже не помнит. – Зима бысть люта. Поньтское море померзло на 30 локоть, а снег паде на нем 20 локоть». А в ту зиму, когда по Дунаю крестились болгаре, «зима бысть тяжка, студена велми зело, за 120 дён одержаще гололед землю и глад бысть великий…»
Никто нас не помнит, никто нас не вспомнит. И все мы друг друга забудем. Неважно, когда кто замерз. О, неважно! Хоть в прошлом столетии, хоть в понедельник. Замерзла ведь та быстрокрылая птичка? Замерзла и стала комочком надгробья. Потом вместе с веткой продрогшей сирени смешалась с землей. В земле, кстати, кто? В ту пору – девица, поодаль – военный. Ходили к девице папаша с мамашей и тоже почили. К военному часто ходила невеста, пока не просватали. Ча-а-асто ходила!
А взять бы да вспомнить: замерзших, голодных, зверей по берлогам и рыб по озерам, беременных мертвыми детками женщин, старух, выметаемых на тротуары, больных, пересохших от жара и жажды, младенцев, подростков… Зачем? Они были. А толку? Ну разве заметно пылинку, песчинку? Вон сколько земли и песка, сколько снега, зеленой травы, а в траве насекомых – а в каждом и крылышки, и перепонки, и каждое вертит кудрявой головкой, а дождик пойдет – так и черви полезут, и божьи коровки взлетят прямо в небо. И всех нас так много, так неисчислимо… Никто нас не вспомнит, никто не заметит.
Странно, однако, что эта мысль не приносит облегчения.
Зима 1920 года была одной из тех лютых зим, о которых прежде писали летописцы. И поэтому, когда знаменитый певец Федор Шаляпин позировал прикованному к креслу живописцу Кустодиеву, он сидел в бобровой своей шубе, а любимый им черно-белый французский мопс был закутан в пушистый платок, хотя и в платке то чихал, а то кашлял. Картина уже получалась прекрасно, но верить ей было нельзя. И страдающий от тяжелой болезни позвоночника живописец Кустодиев нисколько не верил тому, что он пишет, и Федор Иваныч не верил. И даже большая бобровая шуба, в изображении живописца величаво распахнутая над пестрым собраньем людей и церквушек, была вся, от верху до низу, застегнута.
– Вернетесь с гастролей? – вежливо спросил у певца живописец.
– Вернусь ли? А кто его знает? – хмуро ответил Шаляпин. – А кто его знает…
– А я прямиком да на кладбище, – вдруг повеселел Кустодиев. – И Волги своей не увижу. А как хороша! Как прекрасна!
– Какая уж Волга… Теперь не до Волги.
– С женою поедете?
– Да. Вместе с Машей. Иола останется.
– Как вы, Федор Иваныч, умудрились устроиться: в одной столице – одна семья, в другой – другая?
– Да что… Одни хлопоты…
– Вы были в Кремле? Я так слышал… – посмеиваясь, словно речь шла о чем-то забавном, спросил Кустодиев.
– Да, был, – с вызовом ответил Шаляпин. – Дочь погибала, Маринка. Через Горького передал: так и так, певец Федор Шаляпин просил принять по личному делу. Безотложному. О жизни и смерти ребенка. Назначили: завтра. Пришел. У них там тепло, не в пример вашей мастерской, и печи хорошие. Везде стоят эти… ну, с ружьями. Охрана, короче. Рожи бандитские. Поганые, наглые рожи. Ведут – два сзади, два спереди. Спрашиваю: куда, мол, идем? Вас, говорят, товарищ Шаляпин, товарищ Ленин ожидает в своем кабинете. Сам Ленин, слыхали?
– Ну, ну… – посмеиваясь, сказал Кустодиев. – Везет вам! Сам Ленин…
– Прихожу. И он выбегает навстречу. Я даже не понял откуда. Как будто сквозь стену. Короткий, совсем недомерок. Глаза очень юркие. Я терпеть не могу, кстати, когда у кого глаза юркие. Я сразу ему говорю: «Помогите. Ребенок мой, дочь. Лекарств не достать и питания тоже. А главное – врач. Всех врачей как смело. Кого пристрелили, кто съехал, кто умер». Он сразу вскочил. «Барышня, соедините…» Прокартавил там что-то. Потом говорит: «Завтра у вас, товарищ Шаляпин, будет отличнейший доктор! Наипревосходнейший! Манухин Иван Иваныч. Лучший специалист по туберкулезу». Ну, вот. И Манухин помог.
– Милый мой Федор Иваныч, – ласково и просто сказал живописец. – Езжайте отсюда быстрее и не возвращайтесь. А то они вас подомнут.
– Не думал, не гадал, – мрачно сказал Шаляпин. – Вот уж правду вам говорю. Как на духу. Что только бежать и останется… Как на духу!
– Куда вы сначала?
– Сначала в Берлин. Потом в Штаты.
– Я тут недавно «Братьев Карамазовых» прочитал, – усмехаясь, сказал Кустодиев. – Как он хотел Митю своего в Штаты отправить, не помните?
– Да я не читал! – с раздражением отозвался Шаляпин. – Ну его к чертям собачьим. Пророк называется… Всё он наврал. Народ-богоносец-то что вытворяет!
Через полчаса, расставшись с бледным от усталости живописцем, Шаляпин вышел на улицу, взял на руки мопса, спрятал его под шубу и зашагал по направлению к Московскому вокзалу. Никого уже не удивляли эти страшные, как страшны бывают скелеты в музее, улицы Петрограда. Люди, пробегающие по этим мертвым улицам, напоминали голодных мышей не только тем, как лихорадочно и темно блестели их испуганные глаза из-под надвинутых на лбы шапок и накрученных друг на друга заиндевевших платков, но и тем одинаковым для всех страхом, который объединял их, как форма объединяет солдат. Во всем была смерть: в облупившихся вывесках заколоченных магазинов, в темных окнах, в разбитых витринах, в самом этом снеге, летящем на землю, – была неподвижная, жадная смерть.
Тем более странным показался огромному в своей бобровой шубе, оттопыренной на груди разомлевшим под нею мопсом, Шаляпину цветочный магазин на самом подходе к вокзалу. Магазин этот был открыт, и внутри его, за мутным морозным стеклом, стояли букеты и вазы с цветами. Шаляпин зашел. В магазине, маленьком, но красиво и аккуратно прибранном, топилась железная печка, и стебли цветов были чуть красноватыми. У самого огня, вытянув из-под черной короткой юбки ноги в валенках и закутавшись в вязаную шаль, сидела молодая девушка, бледным лицом и волнистыми русыми волосами живо напомнившая Шаляпину русалку из одноименной и сто раз пропетой им оперы. Русалка посмотрела на вошедшего с удивлением и даже испугом. Шаляпин слегка улыбнулся.
– Неужто цветы еще кто покупает?
– А как же? – охрипшим простуженным голосом ответила русалка. – Всегда покупали и будут.
– Да, странно… – пробормотал он. – У людей платья не осталось переменить, а тут у вас розы…
Она вдруг покраснела так горячо, как краснеют только очень молодые люди с нежной и чувствительной кожей.
– Цветам-то что делать? Они ни при чем!
– Ну, дайте мне розу, – попросил Шаляпин.
– Одну? – испугалась русалка.
– Зачем же одну? Штук двенадцать.
– Пять тысяч букет. А если возьмете вчерашних – четыре.
– Нет, дайте мне свежих.
– Цветы покупают! – вдруг, словно бы вспомнив о чем-то, воскликнула она. – Ведь люди встречают друг друга… Им нужно!
Она произнесла это так страстно, с такой убежденностью, как будто и впрямь на вокзале встречают друг друга с букетами, будто, как прежде, бегут поезда, и на сиденьях вишневого цвета, как прежде, сидят аккуратные люди, а дети в матросках и бархатных куртках грызут шоколад, и кудрявые няньки платком вытирают их липкие пальцы, – она произнесла это так, что Шаляпин, весь день находившийся во взвинченном и раздраженном состоянии, приоткрыл рот от удивления и, когда она протянула ему красиво завернутый в бумагу букет, пожал ее тонкую, слабую руку повыше запястья.
По расписанию московский поезд отходил через полтора часа, но верить расписанию было нельзя, и вполне могло случиться, что из Петрограда не удастся уехать не только сегодня днем, но даже и ночью, а может, и утром. Те же самые люди, которые испуганными тенями, согнувшись от холода, пробегали по сверкающим белизной улицам города, теперь словно все собрались на вокзале. Шаляпин был почти уверен, что именно этого господина со злыми глазами он видел вчера на Литейном, и эту старуху с котомкой, и девку, которая так же, как утром на Мойке, кусала кудрявую, жирную косу. Люди потеряли то, что раньше отличало их друг от друга, все стали похожими, сплющились, сжались, и, чувствуя это, но не понимая, какого еще унижения ждать, все стали сердитыми, захлопотали, как будто боясь, что иначе их просто в канавы сметет или снегом засыплет.
В помещении вокзала работал буфет, где ничего не было, кроме водки и морковного чаю. Буфетчик с угреватым лицом монотонно объяснял сгорбленному молодому человеку в продранной шубе, что завтра должны быть «пирожные с манкой». И тот кивал радостно и удивленно. За водкой, только что опять разрешенной к продаже, стояла угрюмая возбужденная очередь, состоящая из мужчин и женщин, которые не обращали никакого внимания на косо висевший плакатик со строчками из нового стихотворения Бедного:
Аль не видел ты приказа на стене
О пьяницах и о вине?
Вино выливать велено,
А пьяных – сколько ни будет увидено,
Столько будет расстреляно.
– Двери! Двери-то прикрывайте! – озлобленно крикнул буфетчик. – Всю залу мне выстудют!
В помещении вокзала было тепло от большого скопления человеческих тел и пахло дыханьем, тяжелым и грубым, и потом, и запахом мокрого снега.
Шаляпин со своим белым «свадебным» букетом и мопсом, мирно сопящим внутри его бобровой шубы, стоял перед буфетной стойкой и ловил на себе острые и озлобленные взгляды. Ему показалось странным, что его никто не узнает и, стало быть, слава, которая казалась ему прочной, как собственная рука с холеными ногтями, есть не что иное, как плод самолюбивого воображения, и он будет так же забыт, как и все, в безрадостном этом и скученном мире.