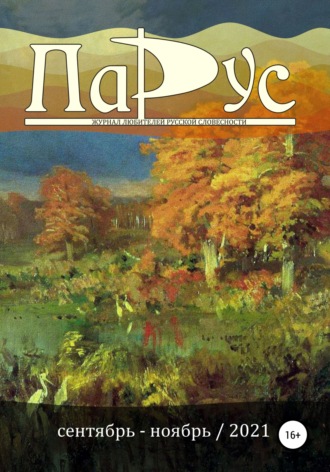
Дмитрий Алексеевич Игнатов
Журнал «Парус» №89, 2021 г.
«Ты каждый день уходишь от меня, Ира, являешься, но не до конца являешься, и в самих явлениях своих – недостижима, я кричу тебе: не уходи! – повторял, грезя, он. – Слейся со мной в одном тонком душевном свете… Проводи меня в небесное царство, мне уже немного осталось… Я зову тебя – прискачи ко мне мой белый конь, вынеси меня из болота – белый конь – бледный… Вынеси меня…Ведь каждая любовь на земле – это тропка в небесное царство. Во всяком случае, начинается всегда именно с этого. Сами по себе, без любви, люди держатся лишь механическим притяжением. Есть души, как сказано в одном апокрифе – из кусков: что душа отъела у другой – тем она и стала. Люди-руки, люди-челюсти, люди-камни и какие-то белые мешки… Божественная любовь устала. Мир едва держится. Так слаба любовь в мнимой жизни. Стоит в него вспрыгнуть какому-нибудь дьяволу извне, влететь черному лайнеру – мир разорвется на куски. Вот перейду я это поле, раздваиваясь на меже: любви и смерти ангел что ли, стоит и ждет меня уже?»…
Так сжился Николай Николаевич с ее образом, он для Николая Николаевича – страсть, должность, утеха, совесть, словом – она ему все. С образом, в который всегда включено было что-то непостижимое – безнадежное. Хотя тебе и мнится, что ты овладел образом, но нет – это обман, он опять исчез, растворился в благостной бездне света. До конца с ним не соединиться, не совладеть. Наверно, похоже это на первую, и на последнюю любовь: тыи блаженство, и безнадежность.
«Я всегда была такой же, потребовалось двадцать лет, чтобы вы меня заметили», – как-то сказала ему Ира с укором. И он стал вспоминать, как впервые увидал ее в библиотеке. Тогда он удивился и почувствовал какое-то странное против нее любопытство: откуда она? Это не передать, такое же чувство он испытал, когда впервые увидел свою будущую жену. Оно скорее отстраняет, а потом, как в последние годы, обращается в притяжение. Девушка двадцати двух лет с русыми, в желтый оттенок волосами, крепенькая, коренастенькая, в юбке и вязаной кофте стояла, насильственно, чтобы занять руку, держась за кромку стола, точно боясь шагнуть, с опущенными глазами, настолько скованная, с такой изнутри проступавшей неуверенностью во всей позе, что нельзя было сказать, красива она или нет. Как будто не хотела себя казать-выказывать. Вспоминает Николай Николаевич с усилием лицо, но оно скрывается, уходит, не дается даже свету памяти. У нее был неуверенный, как бы растерянный взгляд, который не смеет или не хочет на чем-либо остановиться, чтобы не застали его врасплох. Однажды он на какой-то вечеринке музейной, усевшись с ней рядом за столом, пошутил гостям: «А это – Ирина, моя жена!» – и на него посмотрела она таким недоуменным, именно застигнутым врасплох взглядом, что стало неловко.
Выросла в деревне, с шестнадцати лет, четыре года – у конвейера на часовом заводе. Жила под присмотром, в общежитии, вместе со старшей сестрой в комнате. Тосковала по маме и больному папе, колхозному механизатору. Ира вернулась в деревню, ухаживала за ним до самой смерти, помогала матери. С мужем развелась. «Почему?» – спросил однажды Николай Николаевич. В голосе ее задрожали слезы, губы затряслись… Николай Николаевич смутился, никогда больше о муже не спрашивал. После развода она переменилась, расцвела. «Как одуванчик сияющий, июньский, который хочется поднести к губам и затаить дыхание», – любил вспоминать Николай Николаевич. Сначала он даже подумал, что она с кем-нибудь сошлась на стороне…
Вспоминает, а в душе у него – невнятная музыка, одна и та же изо дня в день мелодия. Как из кино, пошлая, знакомая… И вдруг узнал – это еще один ангел, небесный гость прилетел. Просто он – под будничной личиной. Нездешний звук, прикрытый пошлой мелодией. Жизнь – откровение… Николай Николаевич, вслушиваясь, идет по примелькавшейся давно улице, но он далеко от дождя, от серой слякоти, уходит все дальше отсюда под какой-то теплой, цветной метелью, ласковой, музыкальной, прощальной. Все время с Ирой, все время – чувствуя тепло ее голоса. Ее образ, как какой-то сказочный цветок, обволакивал солнечным теплом в серости, незначительности или мелкой зависти и злобе, составляющих основной фон буден: «Ведь живешь большей частью – будто упав в яму собственного перегноя страстей, – каялся он. – Я недавно заметил: в мире не стало далей. Вместо них по горизонту – обрывы… Серый, тусклый туман за окном. Не знаю, что делать, работу забросил, дома не сидится»…И опять, когда в библиотеке подходил к белой двери, останавливался, и дыхание замирало: «Почему мне кажется, что сейчас войду – а ее нет? Вообще нет, только тень на стене, на прогоревшей до иного мира стене»… Но снова совершалось чудо – его встречали ее глаза…
Она сидела за библиотекарской кафедрой, Николай Николаевич – за газетным столиком. Читателей не было. Он подождал и подошел, продолжил то, на чем оборвать разговор пришлось в прошлый раз – о своей юношеской любви. О том, как обнимал рыжую, полную девушку в бараке инфекционного отделения и как диагноз не подтвердился… «
– Вы и обо мне так будете рассказывать, – упрекнула она его, – вот если бы она вас услышала!
– Она давно в могиле, – сказал он и, облокотившись о кафедру, наклонился к Ире.
Глаза у нее вблизи – большие, милые и беззащитные – выпуклые, как у зависшей над прудом стрекозы. Ясные, ласковые, внимательные – соскользнешь в них – и забудешь все. Эти минуты сладкого забвения – самые счастливые для него. Говорил и говорил. В зале холодно, на столе у Иры лампа под матовым колпаком, она, слушая, по своей привычке, греется от нее, то плечом и щекой к ней прильнет, то подбородком, то начнет гладить стекло, прикладывая к нему руки с просвечивающими нежно пальцами. Но вот глаза ее остановились, затемнели тревожно. Она стала прислушиваться и спросила:
– Там ветер открыл дверь, в библиографическом отделе?..
Николай Николаевич глянул в коридор: нет, дверь была закрыта. Здесь, в старинном доме, часто так бывало: рамы большие, ветхие, и в щели их просачивается ветер, ходит между книжными полками, шевелит чем-то, издает странные звуки, может, и в замурованных в стенах дымоходах печного отопления…
– Нет, там кто-то стоит, посмотрите, – прошептал она, испугавшись, и как-то просительно поглядев на Николая Николаевича… Он, оборвавшись на самом занимательном месте, вышел в коридор и увидел там чернявого парня. Присев на корточки, пристально разглядывает в стеклянной витрине глиняные горшки, выставленные завхозом. Странный вид у парня: не вставая, черно, сонно посмотрел снизу вверх. Николая Николаевича сначала обдало стыдом: он подслушивает наш разговор! Николай Николаевич даже засобирался уйти, так ему стало неприятно. А Ира испугалась почему-то и вдруг впервые попросила:
– Вы не уходите пока от меня.
Он опять вышел в коридор к чернявому парню. Спросил, что ему надо, тот медленно, чужим голосом ответил, что только что прочитал в газете заметку про эту выставку и сразу же пришел посмотреть.
Николай Николаевич сказал, что заметка была не об этой выставке – та выставка не здесь, а в соседнем здании. Потом появилась Людмила Михайловна. «Что за парень приходил, вы не знаете?» – спросила ее Ира. «Знаю, он и сейчас внизу, под лестницей стоит, – отозвалась беззаботно Людмила Михайловна. – Это человек очень хороший… Он учился в университете, да сошел с ума»… Но что-то суеверное в этом случае все не давало покоя, особенно то, что парень, наверняка, подслушивал: «Этот ветерок нездешний… этот бес-углан…» – бормотал Николай Николаевич про себя. Он не мог избавиться от какого-то тревожного, хотя и безотчетного предчувствия, и думал, что не случайно ему снится, уже не впервые умерший два года назад старый друг, которого все знакомые называли просто Валерой.
…Когда парень ушел по коридору, так же беззвучно, как и появился, смущение поулеглось: «Ну и пусть подслушивал… Во-первых, эта женщина уже в могиле. Во-вторых, что он поймет?» – думал Николай Николаевич. А Ира все не могла успокоиться. Она в последнее время похудела: бледное, милое лицо ее точно прочертилось вглубь. Она была в белом, с высоким воротом свитере, разогретом светом от настольной лампы. Она опять беспокойно льнула к лампе, гладила ее стеклянный колпак, руки, наливаясь светом, матово просвечивали. Он нагнулся и поцеловал ее в русый локон возле ушка, там, где у прямой, белой раковины темнела маленькая родинка, а она даже не отмахнулась, как обычно… Это сегодня был уже третий такой поцелуй… И он подумал счастливо и устало, с тем зыбким беспокойством, с каким мы обычно заглядываем в будущее, что теперь он так будет целовать ее, когда захочет. Но он ошибался.
III.
Осень все не приходила, затягивалась, и вдруг установилась внезапно. Вечером, уже часов в семь, темно, и все заволочено сухим, дымным туманом, будто где-то запалили большой костер, и мир вот-вот исчезнет, сгорит, да так оно и бывает каждый год: солнечный мир проваливается, обугливается, сереет. С утра выглянуло солнце, осветило бледным светом, и снова все погрузилось в осеннюю задумчивость. Николай Николаевич сидел за книгой – в ум не шли материалы для экспозиции. «В ум не идут, или я сам – не очень иду в этот ум? Зачем все это нужно? И нищенский заработок в том числе? – вяло вопрошал он. – Каждый день я не живу, а сталкиваюсь с проходящим днем. Куда-то спешу, суечусь, день разваливается, крушится… Глядь, уже и обед прошел… Вот и спать пора».
…Он лежал на высокой, как будто больничной, железной койке в голой комнате, а она сидела у него в ногах и ласково выговаривала своим тихим голосом за какие-то пустяки: «Надо и самому готовить»… Он лежал поверх холодного, серого одеяла, в трикотажных старых штанах и клетчатой рубашке, закинув руки за голову. Вдруг вскочил, чтобы поцеловать ее, а она увильнула и быстро, с улыбкой, юркнула под кровать, как это делают разыгравшиеся дети. Встав на колени, выставила из-под свесившегося одеяла светловолосую голову с ясными, веселыми глазами. Он тоже встал перед ней на колени, придерживая ее за щеки легко, поцеловал три раза: сперва слабым поцелуем попробовав губы, потом крепко, но поцелуй сорвался; и еще раз прикоснулся слегка, будто закрепляя всё действо. До этого он никогда не целовал ее в губы… И проснулся в своей квартире. Долго лежал в темноте, ждал утра… До этого, на прошлой неделе, она приснилась больная, постаревшая, кашляла. Николай Николаевич затревожился. А Ира, как оказалось, действительно, в тот день была в больнице – только у зубного врача…
Пришел Николай Николаевич в библиотеку, но Людмила Михайловна сказала, что Ира ушла сдавать начальству какие-то отчеты… Он постоял у белой, толстой стены бывшего монастыря, спустился с холма к ручью. Там в сыром, сером небе под мокрыми, черными ветками ив – кирпичные, алые развалины – сиротливая античная арочка на высоте, и треугольник кладки, оставшийся от разобранной крыши. Нарушил легкую печаль черный автомобиль с утробной, глухой музыкой в салоне, спрятавшийся за развалинами.
Под молодыми дубками в парке Николай Николаевич подобрал большой, разлапистый лист, на его желто-коричневом пергаменте написал: «Сон. 8 октября, 200… года. Ира». Положил ей на кафедру в библиографическом отделе… И так прошел весь день. И на другой день он искал, ждал ее, и опять томил неотступный страх, что она вернулась к мужу или любезничает с отставным прапорщиком. Его пристроили завхозом или «заведующим технической частью музея-заповедника», как он сам себя называет. Николаю Николаевичу он с первого же разговора стал неприятен: кривоногий, косопузый, с откляченным задом. На лысине просвечивают бурые пятна, старательно прикрытые серыми, вязкими прядями, поэтому он не снимает шапку с головы. Что-то в его мнимо простодушном лице есть подленькое, нахальное, готовое, впрочем, моментально испариться, стать пустым и гладким, как доска. В разговорах он внезапно вставляет: «А как Шуберт?» Вообще-то он – человек не бесталанный: сочиняет песни и поет их под гитару на вечеринках. Лепит горшки на гончарном круге, рассуждает про астрологию…
Николай Николаевич заходил хитростью в библиографический отдел, заглядывал на кафедру. Ее все не было. За три дня дубовый листок с ее именем сморщился. Николай Николаевич вспомнил, как она однажды разговаривала с Людмилой Михайловной об именах и сказала: «Смотрите, какое имя у меня мягкое!» – и по слогам произнесла, будто придавливая ладошкой каждый звук к столу: «И-ра-а!» Образовано оно от слова эйрене —мир: в древнегреческом оно женского родаи обозначает состояние противоположное войне: покой. Но Николай Николаевич, увлеченный боковым ходом своих мечтаний, ошибаясь в одной дореволюционной буковке, переводил его как вселенная.
С утра в выходной холодная, цинковая туча съела небо за Волгой, пошел первый снег, потом слякоть, ветер зашумел порывами, с подвыванием в выбитом окне чердака. И после обеда дождик сиротливо стрекотал по стеклам и просительно дребезжал по жестяному карнизу окна. Николаю Николаевичу опять стало страшно, что она вернулась к мужу. Этот навязчивый страх становился все томительней. «Или войду, – тревожился он, – а от нее осталась лишь одна тень на полотне мира, промоина, куда она ушла… И я не увижу ее никогда!» Так прошла неделя…
Николай Николаевич, случайно встретив Иру на улице, заметил, что у нее ссажена кожа на носке сапога. На другой день вечером, в библиотеке, где она, взволнованная, элегантная, на высоких каблучках представляла книгу краеведа, напомнил ей об этих, прятавшихся обычно в бытовой комнате, сапогах: «Давайте, я вам подклею – это же пустяк». «Я сегодня очень злая, не подходите ко мне!» – тихо, с непонятной улыбкой ответила Ира. Сначала он не поверил, заглядывая в ее глаза, в их теплую, зеленоватую глубину – как прогретое песчаное дно в нежных, солнечных пятнах. Только какой-то острый блик играл в них, но лицо от этого стало еще милее. Он даже не обиделся, спросил, может, у нее с детьми что-нибудь случилось? Но она невнятно ответила, что просто настроение такое, и добавила: «Годы уходят». Николай Николаевич не знал еще, что вчера его жена Любовь Николаевна откровенно, с колкими шутками рассказала Ире о его странном любовном признании.
Он весь вечер был в недоумении: ему этот перепад был непонятен. «Под ее чудесной простотой, похоже, целый океан бьется», – раздумывал мечтательно он. Так в недоумении он провел и еще один день. А на третий пришел на работу и принялся через силу за тематический план новой экспозиции. Как это уже и прежде бывало, от обиды хотел не ходить к Ире. Но, как обычно, после обеда уже был в библиотеке. В коридоре заволновался и даже перекрестился, так ему стало тревожно. Ему больших усилий стоило входить в этот небольшой зал с высоким потолком, с ящиками каталогов, с полками словарей и энциклопедий по стенам. Не дошел, свернул в кабинет к заведующей отделом: дверь была открыта.
Говорливая, маленькая, кругленькая, в черном костюме, перехваченном по талии, как кубышечка, на высоких каблуках-шпильках, только что из парка: на каждом каблучке – по пронзенному дубовому листу. Незаметно для Николая Николаевича она закрыла листком какого-то отчета старую фотографию завхоза с подписью в затейливой виньетке: «Привет с Дальнего Востока!» Отдав ей дискету с текстовками о варяге и мирянке, Николай Николаевич попросил передать ее Ирине Петровне. В это время Ира сама вошла, улыбаясь, опять усталая, бледная, с русыми локонами в черном блузоне с высоким воротом и черных брюках. Пошли в пустой читальный зал. В глазах у нее будто какая-то озабоченность. «Видимо, что-то случилось все же», – погрустнел Николай Николаевич и спросил, когда на него записали «Русскую Правду»? Оказалось, что четвертого сентября: «Тогда, значит, я и побоялся поцеловать ее, когда глаза ее улыбались и приободряли: «Можно, попробуйте»…
Он заговорил с ней о заголовках к новой выставке, потом, не утерпел, о мерянке. Она, как обычно, слушая его басни, больше молчала и улыбалась…
– Я давно сделала вам те копии…
– А сегодня подходить можно? – перебил он, радуясь на нее, и напоминая ей тот вечер…Ничего не ответила она. Ей вдруг вспомнилось, как жена Николая Николаевича насмешливо расписывала: «Мой муж поэтично сравнивает ваши глаза, Ирина Петровна… с мельчинками – так называют в деревне мелкие места в реке». Причем, что показалось самым обидным, раза три повторила: «мелкие, мелкие!»..
Пока Николай Николаевич, собираясь уходить, думал в своем оцепенении, счастливом и глупом: «Теперь опять ждать до понедельника», – раздались спорые шаги по коридору, и бравый завхоз уже протягивал ему руку. У него нарочито крепкое рукопожатие, он, видимо, хвастается своей силой. Недавно он сказал Николаю Николаевичу на улице: «Я самый счастливый человек в мире! Если бы я не попал в музей, где бы вы могли еще встретить такого человека?» Кроме напускной, казарменной веселости да этой присказки про счастливого человека у него под личиной ничего нет. Он подлизывается, похоже, и к Ире, и к Людмиле Михайловне. С серьезным видом сел у книжной полки.
Ира вышла из-за кафедры, пошла в библиографический отдел, быстро, безнадежно в дыхании Николая Николаевича отдаваясь стуком каблуков, забивая все мысли. И лишь миновала прикорнувшего с журналом у полки прапорщика – он по-собачьи сторожко повернул голову за ней и вперился в ее обтянутую брюками попку. Не отлип, пока Ира не скрылась в растворе высоких, белых дверей, за ящиком с гигантской тропической осокой в коридоре. Через минуту вернулась – снова утонул кепарем в раскрытом на коленях журнале. Опять зачем-то простучала вызывающе, волнуя – прапорщик опять пристал к ней взглядом. Николай Николаевич не мог забыть, как однажды, навалившись развязно на стойку кафедры, он протягивал ей длинную конфету и, осклабившись, с тем же сощуром и перекосом лица – с каким привык, должно быть, скалиться, толкуя о женщинах с сальными бездельниками в каптерках – сыпал хамскими комплиментами: «Ну что, белая моль?!» – А Ира, чуть пригнувшись, глядя снизу-вверх из-за кафедры, с вкрадчивой внимательностью, сияя своими светами – глубоко, ясно смотревшими глазами, такими милыми, – податливо улыбалась ему…
На большом, стрельчатом окне вешали шторы. Пожилой шофер с запорожскими усами стоял на столе. Высоко под потолком, в черных брюках, стройная, как ласточка, раскинувшая руками по окну, наводила воланы Людмила Михайловна, а маленькая заведующая осторожно спускалась от нее со стремянки, с каждым шагом все выше, будто входя в воду, подымая юбку над круглыми коленями… Вдруг увидала, как смотрит на нее сероволосый завхоз, и засмеялась смущенно и радостно, как девочка.
Николай Николаевич подметил, что цвет глаз у нее был чудесным, фаюмским, а теперь стал, как и у других женщин, обычным, серым. Вчера случайно он увидал, как она в коридоре пустом, привстав на носки, с приторным хихиканьем обнимала заведующего технической частью…
Ира деловито увела его в подвал – передвинуть тяжелые стеллажи. Он прошел, опахнув Николая Николаевича густым парфюмерным духом.
Николай Николаевич узнал, что прапорщик развелся на Дальнем Востоке с женой, уехал, оставив ее с двумя детьми. Шоферил, потом подлег, говоря языком «Русской Правды», к разошедшейся с мужем учительнице, которая была старше его. Учительница прогнала его за пьянку. Теперь он взялся делать пещные горшки, называет себя художником-гончаром. Как все отставники, любит давать нелепые советы и лезет с ними в экспозиционную работу. Для того чтобы незаметно вывести электропроводку, он предложил продолбить дыру в табуретке восемнадцатого века. Людмила Михайловна называет его необыкновенным человеком. Он дарит ей цветы, сорванные с клумб. Она благодарит его своим жеманно-курлыкающим голосом. «Мужчин у нас в музее мало, а женщин одиноких много, и все они по очереди с ними ти-ти-ти»… Не зря на торжественных собраниях заведующая говорит с пафосом: «У нас в музее одна большая семья!» – смеялась Людмила Михайловна. Недавно Николай Николаевич встретил завхоза, сильно подвыпившего, в переулке, у бесконечного забора старого дома, и он после обычных слов о самом счастливом человеке вдруг принялся забавляться поэзией:
– В жизни какая-то мировая несправедливость, – изобразил задумчивую мину он. – Я понял это вдруг, и все рухнуло. Понял, почему мне не удались моя работа, служба и все другое… Я не могу жить с ней – тут все зарыто, – говорил он, раздражая Николая Николаевича, и, что особенно казалось неприятным, делая на своем вогнутом лице рот колечком и брюзгливо уводя его на сторону. – Почему? Не могу понять!.. Вроде ничего не мешает, – намекал он о своем отношении то ли к выгнавшей его учительнице, то ли к заведующей. – А я уже не могу с ней жить… Таков уж мир, – разводил он руками…
А Николай Николаевич усмехнулся, подумав, что прапорщику в эту минуту под словом «мир» представлялись, верно, вечерняя, темнеющая даль горизонта, исчезнувшее небо, темная плоскость сумеречной земли. Словом, весь миропорядок – тоскливо звенела в нем, как муха за стеклом, одна мысль. И только самого себя он не представил, а ведь весь этот миропорядок, будто бы темнеющий и уходящий за заборы, в ночной тупик, и был лишь он сам, подвыпивший прапорщик.
Еще через день пришел он с утра в библиотеку и с порога наткнулся на широкую спину завхоза и на взгляд Иры, устремленный на него снизу-вверх, из-за кафедры, внимательно-податливый, глубоко распахнутый, так хорошо знакомый Николаю Николаевичу взгляд. Прапорщик, припав на локтях к кафедре, наклонив длинную голову к Ире, разглядывал ее, как ворон. По инерции Николай Николаевич еще пролетел прямо к ней, малодушно торопясь поздороваться с завхозом за руку. Но тот лишь кивнул кепарем. Николай Николаевич удивился, устыдился и, глянув на Иру вопросительно, отошел. Завхоз что-то договорил тихо и замолчал, остался наедине с принимающим его молчание, потемневшим Ириным взглядом.
– Ну, ладно, я пошел! – показывая голосом на пережидающего Николая Николаевича и чувствуя его смятение, выстрелил в воздух он и строевым шагом покинул их.
Николай Николаевич не успел еще ничего перечувствовать, а уж Ира торопливо подала ему дискету с фотографиями варяга и мирянки. Он протянул ей записку, свою ночную записку, в которой хотел сказать всё…
Нет, это уже у старого, коричневого стола в библиографическом отделе отдал он свою записку… Заглянула, смигнув ресницами: «Прочитаю потом». Она уже успела сказать ему, что ей надо срочно писать какой-то отчет. Он пошел за ней по коридору, и голову его окинуло туманом, проступила на лице глупая улыбка, как бы тянущаяся за ней. Позднее, со стороны, он со стыдом представлял свое, растягивающееся в этой резиновой улыбке лицо. «А прапорщик… прапорщик… зачем? О чем вы говорили?» Она опять, темным, грешным взглядом улыбалась ему, прикрывающимся жестом к груди прижимая тетрадку, куда было вложено и его письмо, что-то отвечала односложно. А другой рукой уже открывала дверь вниз, на узенькую лестницу, когда-то по ней ходила прислуга, и теперь вдруг из-за двери донеслось – плеск тряпки в тазике. Он замолчал, смотрительница в двух шагах от них мыла лестницу и могла услышать…
Он вышел на улицу. Удивительно, он все видел и слышал, но до него точно не доходила явь случившегося. Николай Николаевич отодвигал ее в яркий, белоснежный мир, в мерцающий, сырой перламутровый туманец. И синева туманная сверху, будто матовая, вбирала боль, ложилась на душу прозрачно, а за Волгой, где-то над деревней Ивушкино, над Ириной родиной, как он уловил, над развалинами затопленного в Волге монастыря – вдруг увидел он – стоит столпом косым радуга в бледном, воздушном небе… Там, где на острове затерялась могила святого подвижника, основавшего когда-то монастырь.
Потом в мастерской Николай Николаевич говорил со старым столяром в шапке-ушанке. У него было спокойное лицо со светло-карими, улыбающимися глазами. Обговаривали размеры циркульных, то есть круглых рам для древнерусского отдела, но, окинутый туманом, Николай Николаевич плохо понимал его слова. Вынул блокнот и стал записывать размеры, количество стекол… Всю ночь он не мог заснуть, лежал, как на плахе, и не чувствовал никакой потребности во сне. Все объяснялся с Ирой: «Я не буду больше вам мешать». Язвил: «Вы зайдите к нему со спины, посмотрите – у него там пустота, как у кукол-манекенов в нашей новой экспозиции!» Потом тошнота, высокое давление… Любовь Николаевна вызвала скорую… «Ситуация очень опасная», – сказал врач. По ночам он тайно плакал, чувствуя, как очищается душа. Тот же мир январский точно осел в ней матово-солнечным блеском, светящимися белыми сугробами. И проел тьму сердца, и ревность, и обиду – он вспоминал, как еще осенью поставил свечку Серафиму Саровскому и молился ему за Иру, и за их любовь, и каялся, сам не зная, в чем. И книжка тогда, будто случайно, подвернулась про Серафима – и он подарил ее Ире. И вот как раз оказалось – пробовал он утешить себя – теперь на день святого Серафима как раз он и получил этот целебный удар… И, снова охладевая, жалел себя, негодовал.
До него дошел и смысл потемневших ее глаз, и грешной улыбки, с которой она открыла дверь на лестницу. Он увидал себя со стороны в темном свете ее глаз какой-то маленькой, безликой фигуркой. В таком унизительном положении он не был перед женщиной уже почти сорок лет. Только тогда, зимой, на крыльце, когда пытал упокоившуюся теперь на кладбище Марину: девушка ты или нет? Потому что хоть и редко, но вылезало холодное и гадкое, словно змея, отвращение к ней. «А, если да, то, что ты тогда со мной сделаешь?» – спросила и призналась: «Да!» Сухие глаза её почти злобно всматривались в него: «Теперь уходи, уходи!» И тут же, вослед: «Куда ты? Вернись!»… «Думал, что изменилась женская природа, нет, она все так же коварна, предательски кокетлива», – отчаивался Николай Николаевич…
«Со мной происходит что-то новое, – стараясь успокоить и отвлечь себя, пытался анализировать он. Часто утром я, проснувшись, еще в темноте, лежу со слезами на глазах и думаю: для чего я полюбил Иру? Для того, чтобы отказаться от нее? Вот это, наверно, и есть моя жертва. Ведь любовь – жертвенна, страсть – корыстна»… Через неделю он вышел из дома, поехал на автобусе до конечной остановки, чтобы прогуляться в сосняке. Небо пухлое, белое, и тихо, пусто во всем мире. Только неожиданно, с сырым, вязким звуком шлепаются подтаявшие плюшки снега с высоких сосновых лап. И сосенка маленькая на задичавшем поле вдруг выпрямится, вскинется вверх, сбросив с себя снежный груз. Все так же, как и сорок лет назад, будто в мире ничего не произошло с его постаревшей душой:
«Думал сначала, что душа у меня – голая: тела, точно не стало – каждое слово, которое прежде пропускал мимо ушей, как стрела, вонзается прямо в нее. Теперь догадываюсь – это не душа голая, может, потерял я ее, души-то как раз и нет. Хватает, бьет из своей темноты плоть, ударяет током в кровь – вот и все переживания. Вот так умрешь, а вместо света, образов и простора – тьма теплая и темное шелестение крови… Иногда приходит жуткая мысль – пойти к Ире, просить за что-то, сам не знаю, прощения, и о чем-то умолять. Только бы она была со мной в каком угодно варианте». Ловя себя на этом странном, канцелярском слове, он понимал всю нелепость своей затеи: «Нет, лучше отвлечься на что-то. Все вокруг учит, что надо терпеть. Все, если захочешь, поможет забыть ее»…
Он часто уезжал за город – уходил бродить в чахлый лесок на заброшенном колхозном поле, опять, уже по-другому успокаивали покрытые снегом сосны: снег на ветках нависал так ровно, будто каждая веточка бережно держала его: иногда совсем непосильный для себя, несоразмерный, кривой ком, а он все равно – не рушится. «Зачем-то он так лежит, как на бутерброде, значит и мне так – терпеть надо, – разглядывая, умилялся Николай Николаевич. – В этих хмурых наплывах, опускающегося на тебя тяжелого неба – что-то живое, какое-то живое выражение, твое же, из того же состава, что и твоя душа. Присели, прилегли, как твои мысли, покорно землисто-коричневые кусты, прикрылись клочьями снега, улеглась на бок серо-желтая трава, все обжато, обжито живым вслушиванием и знает твои такие же нерадостные и вечерние, темные, тусклые, осевшие в душу пласты внутреннего мира».
Поднадоевшая работа тоже помогала ему наполнять пустоту времени и отвлекала от унылого заглядывания в себя. А тут как раз начались судебные разбирательства между музеем-заповедником и торговой фирмой из-за земельных владений, да и старинного «писательского домика». Николай Николаевич консультироваться ходил к родственнице жены, служившей мировым судьей. Она с участьем втолковывала ему все, что надо делать, заставляла записывать. Пристально всматриваясь, раскладывала на столе, разглаживала бумаги: они, как живые, будто чувствовали ее большие, белые руки. Глядя на ее руки, точно ласкавшие белые листы, он все вспоминал, как он гладит свою старую, белую кошку. Стал замечать, что, поговорив с судьей часа два, весь день потом чувствует себя спокойнее.
Судья жаловалась, что ее замучила мелочевка. И все одно и то же: родители – бьют детей, дети – родителей. Находила в своих папках диагнозы психиатрической экспертизы: «Синдром жестокого обращения». Новый этот термин удивил Николая Николаевича, он раз так заинтересовался, что остался и на вынесение очередного приговора. Судили и уже второй раз тридцатидвухлетнюю внучку, выколачивавшую деньги на вино у своей восьмидесяти шестилетней бабушки. Внучка была беременна. И ждала приговора за стенкой, в отделанном заново синтетикой, пустом маленьком зальце: в черной, торчавшей на груди востряками, старой каракулевой шубке, может, перешитой когда-то из допотопной, бабушкиной. Носик тонкий, симпатично задорный, быстрые глазки, все моментально схватывающие, только щеки впалые и кожа уже постаревшая, придававшая лицу желтый, поношенный вид. Судья наедине говорила ему, что, видно, внучка эта занимается проституцией. Потому что деньги у нее есть: девять тысяч сразу в залог по иску внесла: «Притворяется смиренницей, беззубая!» – переходя на шепот, наклонялась судья через стол к Николаю Николаевичу. Он все перебирал в уме ее слова, когда эта, в черной старой шубке, после чтения приговора что-то тоненьким голосом и преувеличенно покорно спросила у судьи, и увидал, что в этом, милом еще личике, в чисто изогнутых губах – мелькнула темная дыра. Он пришел домой изумленный и тем, что увидел, и тем, что Ира вдруг сразу отодвинулась в мерцающий туман. Вечером рассказал о суде жене.







