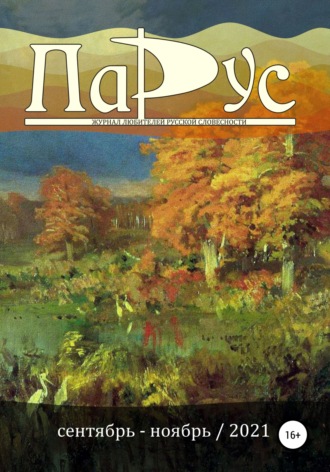
Дмитрий Алексеевич Игнатов
Журнал «Парус» №89, 2021 г.
Мягкое, утреннее тепло приятно, по-домашнему нагревало безрукавку. Он стоял, чувствуя кожей все шорохи, звуки и сияния, и, будто истаивал в них. Тогда ему впервые в трогательных мечтаниях представилась мерянка, последовавшая за своим умершим мужем в иной мир, и он наметил построить новую экспозицию о древнерусских женщинах.Почему по сравнению с византийскими дамами среди них так мало святых? Потому что, наверно, вся их жизнь ушла в землю, вот в такие заброшенные поля, в семью, впод государства. Бабий век здесь, как было высчитано на ближнем, недавно раскопанном средневековом кладбище, в среднем составлял тридцать девять лет. Столько же тягот и болезней выпало тем безымянным женам?.. Теперь жизнь их можно назвать подвигом, думал он, по сравнению с нашей, когда душа распадается на сумму помыслов и приражений. И женский тип, сотворившийся из всех этих мерянок, чудинок, кривичанок, из Доброшек, Жирочек, Домашек, Страшек – разлагается.
Он все чаще говорил Ире комплименты, все более и более игривые. Иногда она кокетливо жаловалась, отвечая на них: «Да, вот, по вашим словам, я такая хорошая, а никому не нужна!» А один раз сказала, что она родилась в марте, в один день с заведующей, поэтому их жизни схожи: счастья нет. Он ответил не очень ловко, но, сильно волнуясь, что она ничуть не похожа на заведующую, хотя бы тем, что хорошо сложена.
Она как-то по-девчоночьи беспомощно смутилась и, не справившись с прорвавшимся удовольствием, растерянно, с радостным лицом, мелко, иронично закивала, стараясь изобразить насмешливость, но улыбка, осветившая всю ее, от того стала еще беззащитнее и счастливее. Он замолчал, удивляясь и любуясь ей. А через день или два, заговорив с ней в кабинете, быстро вставил приготовленную фразу: «Вы мне очень нравитесь, я вас люблю»… «Хоть кто-то меня любит», – вытянув губки трубочкой, отвечала она и тотчас же вышла в читальный зал. Это же он повторил и на другой неделе. «Когда любят – это приятно», – не глядя на него, равнодушно, точно не придав значения смыслу его слов, сказала она…
И наступил солнечный, один из последних дней лета, между Преображением и Успением. Николай Николаевич жалел, что не запомнил число. Волга в окне за прозрачной шторой, нежные, размытые линии сосновых и березовых лесов вдали, на той стороне. Он сидел за журнальным столиком. В читальном зале она была одна на своем рабочем месте у настольной лампы, к которой она льнула кошачьими, ласковыми движеньями, грелась, терлась о ее разбавленный солнцем свет, и, будто уворачиваясь на стуле от его признаний, повторяла, всплескиваясь тонким, девчоночьим голоском смешно и немного растерянно: «Такие слова! Такие слова!» «Только вы не смейтесь надо мной»! – попросил он. «Это вы надо мной смеетесь!» – подхватила она: тонкий голосок у нее, точно сломался… Взгляд у нее стал влажным, словно из глубины – тогда он и заметил впервые, что глаза у нее солнечные, нежные. И изменившимся голосом, внезапно ласковым, грудным, густо заворковавшим, которого он от нее больше не слышал, сказала: «Идите к себе, а то так долго засиживаться неприлично».И еще, помедлив, прибавила, уже тише: «У вас жена: я очень уважаю Любовь Николаевну и не хочу, чтобы до нее дошли какие-нибудь слухи!»
Это минутное изменение голоса не шло ей, коснулось каким-то лишним, ненужным впечатлением, осело – будто нечаянно плеснули вином на белоснежную скатерть. Он вспоминал, перебирая те солнечные дни, что похожий, грудной, непрозрачный голос был у Марины…
На другой день после признания утром Николай Николаевич вбежал к ней в кабинет. Она сидела, наклонив голову, боком к нему за старым коричневым столом. Он быстро, боязливо, пытаясь поцеловать, ткнулся губами в волосы ей, там, где заметил, у прямой, белой раковины возле ушка, ближе к щеке, темнела маленькая родинка. «Вы перешли все границы», – не отстраняясь, лишь смущенно спрятав лицо в ладони, сказала она, и голос ее, нежный и укоряющий, зажурчал в его душе, как радуга. А в конце разговора опять сказала упрямо: «Вы хотите просто приободрить меня!..» У нее был милый, еще возбужденный его признанием, даже немного игривый вид. Пересела на свое рабочее место – ногу на ногу, в вельветовых черных брюках. Волосы, точно светились. А он суетливо искал «Русскую Правду» в красном переплете, которая будто бы ему понадобилась, и она подошла помочь, и вдруг, призывно улыбнувшись, стала отступать от него в угол в тесном проходе между полками. Подумала, наверно, что он обнимет ее: заняла смешную оборонительную позу. И он, обрадовавшись, спросил: «Вы боитесь меня?» Она, точно спохватившись, опустила руки, сказала, задорно улыбаясь: «Вас? Чего мне бояться?..»
Николай Николаевич облокотился о ее библиотечный стол: правильно он называется кафедрой. Умилился, что рот с узенькими губками у нее почти детский, беспомощный. Ему так хотелось его поцеловать, но губы у него от волнения пересохли, и он не решился. А какие у нее были глубокие глаза, неизъяснимо милые, сияющие, казалось, они ему давали надежду. Разлет бровей, за который можно умереть. «Такие глаза обмануть нельзя!» – сказал он ей. А дня через три она из-за той же кафедры уже выговаривала ему: «Надоело, вы уже три дня все про глаза да волосы говорите!» Но еще долго он просыпался затемно счастливым, лежа в постели, в мыслях говорил ей о своей любви, ждал, когда рассветает, когда можно будет вставать и идти к ней. Он не мог без нее прожить и дня. Начинал считать часы, особенно невыносимыми стали выходные дни….. «Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог», – вспомнившуюся из какой-то книги фразу повторял он.
С тех пор все так и продолжается: Николай Николаевич ходит в библиотеку почти каждый день… «Хватит, – иногда с утра принимается укорять он себя, – мне это стало очень трудно. Уже, чувствую, в библиотеке на меня пялят глаза… И правда, кто этот морщинистый, безнадежный человек? – вяло бреясь, разглядывает он себя в зеркало. – Кто-то невидимый, призрачный примешивается к тебе изнутри, чувствуешь его тяжесть, будто душа наполняется стеклом. Этот невидимый, прозрачный двойник, давящий, виснущий на душе, всегда недоброжелательно и остро подсматривает изнутри за всеми твоими мыслями. Вот он и стоит в зеркале. Это не ты!»
Сегодня ночью Николай Николаевич опять не мог заснуть, встал – разбитость, серые то ли мысли, то ли страхи под сердцем. Страхи сначала исчезли, когда он полюбил Иру, а теперь возникли снова.
– Нам уже пора, а то я опоздаю на планерку! – говорит жена.
Уверенная, деловитая, взгляд чуть насмешливых глаз ясный и твердый. Тоже устала от суеты, знал он, но виду не показывает.
Стали переходить загазованную, шумную площадь перед монастырем с памятником древнерусскому князю, основателю города, асфальт будто прогнулся, ноги подмыло, и Николаю Николаевичу показалось, что он сейчас упадет. Неужели вернулась старая, давно забытая болезнь? Тысячи раз он переходил эту площадь, однажды стылым, октябрьским вечером после партийного собрания, на котором его крепко отругали, чуть не попал под самосвал. Едва успел отшатнуться – у плеча громоздко пронесся, холодя мертвенно красной подсветкой, грязный зад кузова. Будничная работа в музее ему давно надоела, почему он и взялся за парное захоронение. Боялся он и людских сборищ, знакомых теперь обходил, испытывая непонятную, колючую тревогу. Жена шла рядом, будто в другом мире. Странно, но она не мешала его любви к Ире. Ему нравилось представлять их вдвоем в квартире за каким-нибудь уютным, домашним делом. Он думал, что любил их одинаково, хотя и по-разному. Как по-разному – сам еще не понял. И томился: ему хотелось признаться в этом жене…
Вечером, поговорив с сыном и снохой по телефону, что Любовь Николаевна обычно делала каждую неделю, она вдруг спохватилась, вспомнила Николаю Николаевичу приснившийся ей сон. Будто бы темная ночь, речка, каменистый берег. А на берегу лежит камень, со средней величины валун. Он светится белым светом, и от этого ночью вокруг все видно. И этот белый камень – слово. Мы ищем слово, рассказывала она, удивляясь, и вот находим его. Природа света, озаряющего тьму – иная, чем у обычного света – это твердый, белый камень, рождающий беспредельный свет…
Он плохо слушал ее сквозь убаюкивающее, любовное самоговорение. Лишь на минуту оно развеялось странным, будто бы знакомым удивлением: точно потянуло в размягченные мысли низко стелющимся, тревожно выползающим из холодной ночи туманом. «Откуда у нее такой сон? – забеспокоился он. – Хотя что же здесь удивительного – тут же подумал, успокаивая себя, – она в редакции пишет каждый день, вот ей и снятся сны о словах».
«Почему я боюсь?.. Иру так и не сумел ни обнять, ни поцеловать. Ну, что, она меня ударит, укусит, если я ее обниму? В любимой женщине открывается точно какая-то тайна, – пытался объяснить себе это чувство он, – боишься не ее, а того, что стоит за ней: что-то необъяснимое, неведомое. Прикоснешься – и вдруг оно откроется… Но это лишь чувствуется, любовь – лишь намек на это… Эхо оттуда, из иного мира, отраженное в твоем сердце, дает тебе свое чутье. А почему мы боимся смерти? Потому что так же мы боимся не самого физиологического акта ее, а того, что стоит за ним – неведомого и грозного. Вот почему она так страшна. Такое же суеверное чувство вызывает и любовь. Потому что корни ее здесь от нас скрыты, и прояснятся только в ином мире, где души соединяются или разъединяются навеки… От этого, наверно, я часто и переживаю: внезапный страх, озноб мгновенный: а, может, Иры нет? Надо сходить, посмотреть… Она такая летучая и хрупкая, что, кажется, вот-вот рассеется, будто ее и не было. Что-то у нее есть и мальчишеское в движениях неровных, в жестах, как у девушки-подростка, и что-то такое милое, хорошо знакомое и родное – в улыбке, в повороте головки, в смехе. Голос становится иногда быстрым, тихим и проникновенным, сливается, как шум осенней листвы. Она спохватывается, резко разворачивается плечами, вскакивает, походка бегучая, утекающая – будто она уходит от меня, уходит из этого мира… Зачем тогда, в углу между полками, я не попытался обнять ее?»
Теперь только до него дошло, что в ее смешной, воинственной позе, выставленных руках и игриво блестевших глазах было: «Можно, попробуй!»… Третий день, вмешиваясь в эти мысли, шел вялый, осенний дождь. Николай Николаевич, просыпаясь рано, в темноте, вслушивался в его шуршание и шепот, такой же, как и сто и двести лет назад в этом городе, и мысль совершала скачок, уплывала в сторону: «Или, может, просто – так полюбив ее, я, наконец-то, избавился от себя?… Перестал и думать о себе, теперь думаю только о ней. Как будто умер сам для себя»…
Вечером он пошел под накрапывающий дождик гулять – через кладбище. У ограды могила с чугунным крестом – это Марина. В сумерках на фотографии лицо ее показалось ему злым, и он вдруг затревожился, что Ира чем-то похожа на нее, может, этим чудесным разлетом бровей? У Марины еще между ними появлялась углубинка, когда она отводила свои рыжие глаза и сердилась. Только Ира – светловолосая, а та была мрачная, черная. А вообще-то вид у нее был глупый, она была очень недалекой и вульгарной. Воспоминания о ней были – темные и мстительные. «Лучше бы ты не ходил к ней на могилу», – сказала ему раз жена. И его это удивило и запомнилось…
У черной, посыпанной шлаком грязной дороги – обглоданный куст, а на нем висит пластиковый стаканчик. Пошел дальше, к полю, заросшему кустами, вошел в сырой сумрак с толстыми, в черных морщинах стволами берез. Постоял в тронутой серо-желтым тленом траве: «Вот где хорошо умирать… Зачем я полюбил Иру? Затем, что она мне осветила путь: теперь видно хорошо, просторно – до самого конца жизни. Да и простора уже немного осталось. Вот, как это липкое, в сизой дымке, в обгрызенных кустах поле перейти, а там, за высокой, ровной, черной березовой рощей – уже на нездешней меже ждет, раздваиваясь, ангел любви и смерти. То, что несчастье или смерть внезапная обрывает нас на каком-то интересном деле, или только найденном рецепте новой жизни, может, свидетельствует о том, что там, в мире ином, дело ли, мысль ли эти будут продолжены в каком-то высшем образе, здесь непостижимом. Не надо сожалеть о не достигнутом. Лучше шагнуть вперед, к его нездешнему продолжению»…
Думал, глядел: все небо в накипи сумерек, как мешковина, будто им ноги вытирали, и только на самом горизонте, где невидимое в тучах село солнышко, – светлое, наивное пятнышко… Ночью во сне испытал болезненное чувство, что жизнь началась снова, и он, молодой, идет в тяжелой, как смерть, осенней ночи к Марине, и впереди – скучная встреча, скучные слова, повторение уже бывшего… Сыро, тепло вокруг, по заборам, а под ногами у Николая Николаевича улица почему-то стылая, в инее…
А наутро опять, как провалился в тревожный, блаженный мир ожидания – встречи с Ирой. В памяти мечутся цветные обломки прошлого, Ирины глаза, свет, не сравнимый с солнечным, теплый и близкий, который может излучать только плоть любимой и соты загадочной, приоткрывшейся в своем мерцании ее души… Она и в нем, внутри, была: самая близкая, и – далекая, как будто ее нет. Откуда это «нет»? Оно находит, пугая, мгновенно. Каждый день перед белыми высокими дверями он не верил, что увидит Иру. Каждый раз, входя, он задыхался от волнения: «Сейчас открою, – а тебя уже нет, только – тень, куда ты, светящаяся, русоволосая, ушла. Ты была такой достоверно чудесной, что каждую минуту, будто уходила, утягивалась отсюда». Особенно он чувствовал это в паузы, в провалы в иное, возникавшее во время разговора. Так, бывало у него перед засыпанием, зайдет сознание куда-то в сторону, в боковые ходы своей жизненной норы, очнешься и, будто цельную, отдельную жизнь прожил в ином мире, где за эти секунды был кем-то другим. А то глянешь быстро боковым зрением и, еще не успев скрыться, рванет, точно рваная коричневая дыра в материи мира, и исчезнет. Или какой-то черный ком, сгусток ожившего вещества, не то нездешнее существо, притворявшееся хоть уличной урной – мелькнет у ног и провалится в колодец того света – прямо перед тобой, в лопухах перед забором…
Жизнь – откровение: каждая встреча, каждый человек – явление ангела: дает смысл, соединяет прошлое и настоящее – так просветленно чувствовал Николай Николаевич, рассказывая Ире и про свою первую любовь, полненькую, черноволосую, злую и распутную девчонку, которая теперь лежит на кладбище под чугунным крестом. Тогда ему было лет шестнадцать, а ей семнадцать. Вдруг она не пришла на свидание, и оказалось, что она попала с подозрением то ли на дизентерию, то ли на скарлатину, в инфекционное отделение больницы. Посетителей туда не впускали. Можно было лишь что-нибудь передать через медсестру или тайком, в форточку. На опушке сосняка, окнами на колхозное поле стояло это длинное, унылое, больничное строение. Это было, кажется, на исходе зимы или в марте. Вынужденное своей подружки заключение он решил обернуть в пользу, принес ей книг: Маркса и Ленина. Сорок дней лежать, думал он, и она от скуки прочтет все эти труды, которые даже ему в обычной жизни не поддавались. Но она тут же встала на подоконник и в форточку том за томом спустила их ему прямо на голову: «Вот тебе!» В пижамном костюме в обтяжку высилась за стеклами, близкая, злая, с растрепавшимися крашеными, рыжими волосами. Через день они уже научились тайно устраивать свидания. Только предупредила перед этим она своим низким, тяжелым голосом: прикасаться к ней нельзя, а то можно заразиться. Вечера были ранние, зимние, уборщица уходила в пять часов, и можно было открыть дверь на крыльце и войти в сени. Верхняя одежда у нее была заперта в чулане. Она вышла в пижамном костюме, а в коридоре было так холодно, что, несмотря на неуверенные, остерегающие предупреждения, он сразу же крепко обнял ее, укутал полами пальто. Он не боялся заразиться от нее. Так и встречались вечер за вечером в этих настывших, темных сенях с какими-то бачками, лопатами по стенам и решетками на окне, и когда сгущался холод и тьма – все вокруг, будто обваливалось, распадалось, мир становился чужим, оставалось одно ее мягкое, теплое тело, странно осязавшееся во тьме, влажность поцелуев, ощущением своим сохранившаяся на всю жизнь, и вот вспомнившаяся теперь, в октябре, перед красно-золотым, как в маскарадном одеянии, истаивающим под окном кленом, когда эта девушка, ставшая обрюзгшей, испитой теткой, давно уже лежит в могиле. Николай Николаевич ощутил теперь ту влажность во рту, как землю, которой скоро станет: иную, нездешнюю; такой землей стало уже и тепло ее тела, блеск глаз в темноте, и шероховатость волос под ладонями, жестких, тоже теплых, и молчание, их живое счастливое молчание, которое насыщало, казалось, не только их – передавалось самому воздуху, сумеркам, темневшим в зарешеченное, серое, обмерзшее окно. И плечи, и руки, и тепло их тел под полами пальто, в темноте, счастливо, приглушенно замирали, чтобы слиться с тьмой, не выдать себя чужому миру и так пробыть еще минуту, еще пять, еще три… Вернуться от порога, еще раз обнять, и вдруг оказаться в пустоте, на крыльце, тупо отзывающемуся шагам по ступенькам, у темных сосен, на твердом, пепельно сереющем снегу; и вот уже улица и дом, и свет электрический, и будто не было ее, ее колен, которыми она прижималась, и мягкой груди, и влажного рта… Так и оказалось в один из вечеров, когда он по засинившейся между сугробами, вечерней тропке, пересекая глухие тени сосен, подошел к бараку. Ее уже выписали. Диагноз у нее не подтвердился. И в тот же вечер они гуляли по улице, как обычно… «К чему бы вспомнилось все это? – мечтал Николай Николаевич. – Опять, как в сказке, я забрел в какую-то иную страну… Да и вся наша жизнь с ее закоулками, боковыми норами и бараками, может, и есть иная страна, в тенях и тьме, а настоящая – за ней?»
С тех пор, как он попытался признаться жене в своем любовном раздвоении, у них почти каждую неделю дома случались ссоры; он не ожидал, что она такая ревнивая. Поняв, что про свои чувства к Ире рассказал ей зря, пробовал все обратить в шутку, или, ссылаясь на необходимость творческого воображения, переводил разговор на новую экспозицию, на реконструированный образ мерянки, который ему помогла создать Ира, но яркие, бледно-голубые глаза его выдавали: блистали нежно и лукаво. Любовь Николаевна его таким никогда не видела. Шутки его имели обратный характер. Часто после таких препирательств, когда она его уличала во лжи, они по два дня не разговаривали. А потом, к концу недели, мирились, и снова Любовь Николаевна, гневно сводя высокие брови, узнав, что муж, как она это называла, ходил в параллелку, выговаривала: «Ты целовал руку у уборщицы!» Ира, действительно, в музее подрабатывала на полставки уборщицы. Глаза у Любови Николаевны блестели, ревность молодила и разжигала ее; как это бывает с долго прожившими вместе людьми, она легко догадывалась о его переживаниях и фантазиях. Поуспокоившись, убеждала: «В ней, конечно, много хорошего, но она – не по тебе, лучше с такими людьми не сближаться».
В своем дневнике, который Любовь Николаевна вела лишь в кризисные годы жизни: во время беременности, или когда что-то не заладится в семье у сына – она писала: «Слабая женщина я: муж попросил написать заметку в газету о новой экспозиции. Пошла в музей. Видела И. Манера общаться – искательная, забегает наперед с тем, о чем ее не просят. Может, этим и покорила? Посмотрела выставку, электронную книгу с мерянкой…Вложил в эту экспозицию все, чем дорожил…»
И опять, через неделю: «Вчера старательно рассматривала И. Надо обладать сверхбогатым воображением, чтобы увидеть в этой тихой, усталой и уже немолодой женщине отражение какой-то «незнакомки», мерянки, повторившейся вновь через тысячелетие и так далее… Желание быть незаметной. Не от того, что много внутри, а от страха перед жизнью, от ущербности? Недостаток жизненных сил. И ему такое нравится?..»
У Николая Николаевича был выходной, с утра, пока он ездил в сосновую рощу на прогулку, погода несколько раз переменялась. Ледяной ветер пригнал настоящую зимнюю, снеговую тучу, разродившуюся, правда, обычной слякотью и моросью; два раза выглядывало солнце, а потом небо опять низко, болезненно засерело. Так же стало и у Николая Николаевича на душе. После обеда он никуда не хотел выходить из дома, но позвонили из бухгалтерии – получать деньги. Он пошел, с тоской вспоминая, как когда-то Ира ему улыбалась просто так, она изменила свое отношение после того, как он открылся ей. Куда девалась та приветливая, ласковая улыбка, в которой вся душа ее отворялась? Теперь она чаще непроницаема, иронична или рассержена, а улыбка ее стала осторожно насмешливой. А то вдруг сказала ему, усмехнувшись: «Вы еще меня не знаете!» Рот у нее детский, капризный, и вот что он рассмотрел недавно – озорной… А жена?.. Но не успел он подумать о жене, как тут, за этими мыслями, в узкой улочке у департамента культуры увидел – Иру с Людмилой Михайловной. Он смешался даже: в последнее время сколько раз думал встретить ее на улице, всего раза два встретил, а сейчас, когда не хотел бы ее видеть – сама идет. В синей курточке, бледная, с непокрытой головой, волосы раскиданы. Даже жалко стало, подумал: «Стоит ли обижаться, совсем девчонка». Что-то объясняла Людмиле Михайловне и его окликнула высоким своим голосом, чтобы приходил за фотографиями варяга и мерянки. Она давно уже сделала для него копии. Затея с фотографиями была лишь поводом, чтобы лишний раз увидеть Иру. Поэтому Николай Николаевич и не спешил их забирать. Николай Николаевич пробормотал «спасибо». Когда он вышел из бухгалтерии, посыпался из набежавшей тучи мелкий, холодный дождь, но тут же глянуло солнце, и серое небо за ярко желтыми березами, отозвавшись лучам, засияло сталью. А все тяжелое настроение, мысли тоскливые сразу отхлынули. Так всегда бывает после встречи с Ирой.
Вчера, увидев Иру, охладился, даже удивлялся, за что ее так полюбил? Сегодня же утром проснулся Николай Николаевич – опять другой человек, точнее прежний, первые мысли – о ней: опять хочется идти в библиотеку. Ходит, сидит, читает ли, дома ли, в музее – все она на уме. Он и молиться в последнее время почти перестал, потому что все время находился, как бы в молитвенном, размягченном состоянии. Встанет перед иконой, начнет, а в сердце – полоска белого тела, выглянувшая из-под блузки, когда Ира нагибалась у книжной полки. Или ее губы, голос, волосы, нежное, плотное тепло ее образа, который постоянно, как свеча, топился и не растапливался в нем… «Только позапрошлым летом, – вспоминал он, – я на два или три месяца потерял к ней интерес, так удалось увернуться, перебороть себя… Или я это выдумываю сам себе? Иногда, впрочем, мне кажется, что и любовь моя – большая выдумка, сон, засосавший меня до смерти»…
Он испытывал странное, рассеянное чувство жизни, почти такое же, как в новой экспозиции. Копья, луки, щиты и тулы – все расписано глазастыми красками. Эстетика оружия: тонкое, веселое, женственно коварное. Действительно ли, такими, игрушечно раскрашенными палочками люди кололи и резали друг друга? Муляж щита, как трактирный поднос: круглый, расписной – зеленое с красным. Рядом глупая, мертвая железная маска – боевая личина. Мысли начинали укорять: «Неужели и жизнь наша такой же бутафорский призрак-карнавал, как вот эти пестрые, зеленые и красные щиты и колчаны, луки и копья, сделанные на заказ московскими художниками? Говорят, каждое наше деяние, и каждая даже мысль имеет отношение к отошедшей жизни и приближает или отдаляет встречу с ней. Или мы никогда не узнаем, как выглядело прошлое? А если не узнаем, почему тогда томит эта тоска по нему, и так насмешливо смотрит эта бутафория?.. Не от того ли, что импрессионизм её ведет к мнимости: от внешней, ложной яркости – к пустоте. Это – оборотень: зайдешь, а со спины у него ничего нет. Предметы подлинные четки и крепки, как цветные камешки твердые. А мнимые впечатления?.. Если мир – только сумма впечатлений, то и человека целого тоже – нет: одно впечатление»…
Так привычно, безотчетно множились мысли, и он переходил к мерянке. На электронной картинке мерцало раскопанное захоронение. Вперемежку с перержавевшими остатками железа и глиняных сосудов раскинулся большой обгоревший скелет с огромным черепом. А рядом, будто мальчишеский костячок, только тазовые кости – широкие, женские. Фотография раскопа особенно его поразила: крупный скелет, судя по остаткам снаряжения, мужа-варяга, и маленький – его жены, скорее всего из местных, мерянки. Аккуратный, круглый череп, точно прильнул к витязю, закатившись ему под мышку. Она Николаю Николаевичу и во снах снилась в праздничном наряде, височных кольцах, в привесках с золотыми коньками, какой была изображена на реконструированных картинах погребального обряда. Только место лодки, по совету специалиста, за стеклом светился «срубец мал», в каких чаще сжигали покойников – «избушка на курьих ножках».
Николаю Николаевичу тогда, в его влюбленном состоянии ни разу не пришло на ум, что, возможно, рядом с варягом захоронена какая-либо из захудалых рабынь-наложниц, щуплая девчонка, заменившая на смертном ложе жену, как это часто или не часто, но все же бывало в те далекие, темные для нас времена. Лишь много позднее, во время тяжелой болезни он подумал об этом.
Он, увлекаясь, ласково говорил Ире:
– Вы чем-то напоминаете мне древнерусскую женщину из двенадцатого века. Муж ее, сборщик податей, уйдя в монастырь, стал святым подвижником. По летописцам и разным археологическим находкам, насколько это возможно, я даже составил их родословную. Вот как раз у нее, как подсказывает мне чутье, одна из пращурок и могла быть ославянившейся мерянкой, а муж у той мерянки – варягом. И когда он умер, мерянка, по скандинавскому обычаю, пошла провожать его в небесное царство. Выпила растворенное в меду коренье, зелье лютое. – И он так же, вполусерьез продолжал туманно толковать Ире, что взял у нее для своей реконструкции мерянки глаза, волосы, круглые скулы: – Образ этот, опираясь о случайное как бы, то есть о схожесть с Ирой – потому что абсолютно случайных событий не бывает – окреп. Также был рубеж, момент, когда та древняя мерянка, сама по себе, встретилась там уже с моей воспринимающей мыслью о ней, и теперь все время осязает ее. То есть встретились Доброшка с Ирой, ставшей лицом моей мысли. Доброшка глядит там – и в вечном зеркале иного мира видит Ирин образ…
«Фантастично, – продолжал растолковывать он это темное место уже самому себе, дома, – но не от того ли вокруг Ириного образа столько цепкого, живого света? Не от того ли не только эта безнадежность: вдруг Ира исчезнет? – но и тонизна, блаженство… и, слышишь, как веет от нее нездешним ветерком оттуда?..» И Николай Николаевич еще убедительнее почувствовал, как образ мерянки, после разговоров с Ирой об этом – уплотнился. «Так же и вы, Ира, как будто встретились с его смыслом, с этим вечным светом своих праматерей, – волнуясь, рассуждал он, – и приняли его»… Ира, услышав это, промолчала, не поняла… Он тоже умолк, осекся, запутываясь в словах…
Он так часто внутренне терялся перед ней и в не таких, а в самых обычных разговорах. Жизнь – откровение, за каждой встречей, каждым человеком – стоит ангел, дающий смысл, соединяющий прошлое и настоящее и, как вспышками молнии, озаряющий тьму. Теперь все время он только и делал, что намечал ей рассказать о таких откровениях, ангелах, смыслах и образах, но лишь войдет, увидит ее – все исчезает из головы. Да и зачем все эти бесплотные ангелы, когда перед ним ангел во плоти? Николай Николаевич сильно волновался, забывал даты, фамилии, у него пересыхали губы, как это обычно бывает у пожилых, нелепо влюбленных людей.
Но это самосозерцание, в котором он тонул – становится, в конце концов, невыносимым… Как застойная вода, зацветая, неподвижно стояла вокруг жизнь, томя ожиданием чего-то, и ни во что не разрешалась, хотя все что-то вдалбливала в тебя своим немым языком, или криком цветным вещества, для которого слух наш воздушный – глух. Закрывал глаза на ночь – так же образ за образом вытягивались в вялом стремлении появиться и уйти куда-то навсегда. Но иногда, казалось, образ поглощает тебя. И вот смутный человек в темноте у какого-то забора, дальше – товарный вагон. Этот смутный человек и есть ты, Николай Николаевич, теперешний. Тебя будто вывернули наизнанку. А сам ты, предыдущий ты – стал всем: ночью, вагоном, сном – и любопытно следить за всем этим, играющим тебя, и еще любопытнее от того, что тебе все это, оказывается, очень знакомо, ты здесь, таким был всегда – это твое подлинное бытие. И хочется остаться в нем, не возвращаться в то, что ты считал своей обычной жизнью; но все вдруг, как вспышки комнатной молнии, исчезает в черноте сна, обрывая твое изумленное узнавание… Теперь, когда возникают такие грезы, он стремился подальше продержаться в них и запомнить: и опять плутал по каким-то боковым ходам сознания, и там находил объяснения, находил какие-то иные причины разным будничным происшествиям, связанным с Ирой. И там не было тех причин и тех затруднений, что представали здесь. Здешнее – вдруг пустело… Но просыпался, и это понимание уходило от него, как призрачный поезд, в черный туннель. Опять все здешнее обжимало. Вся тайна жизни в полуожидании, в полусне, подмечал он…
Николай Николаевич любил рассказывать… Смешные случаи из своей жизни, книги, вчерашнее, сегодняшнее; слова, слова – не важно, о чем, но которыми две души начинали осязать, видеть друг друга. Она, наклонив голову, внимательно, ласково слушает, два света ясных уютных глаз, втягивающих в свое тепло и нежность – зовут и не зовут его. Но он чувствовал, как жизнь его в них преображается: то загадочно зеленые, как берега далекие – а то, как пасмурное и теплое небо над Волгой – они превращают его слова в витражи, где все снова твердо, неподвижно озарено, зернисто радуется всеми бликами и цветами. И уже нет этого постоянного ожиданья, тревоги, бесконечных явлений жизни, не во что не завершающихся. Вселенная образов вздрагивает, быстро выстраивается в хороводы, голоса их радугой отдаются в сердце. Жизнь обретает голос… Это любовь, Ира. Она хочет выстроить жизнь, довершить, заключить в своем свете… Ира, ты стала мне, как окно, в которое глянул Бог… Он рассказывает ей – слова лучиками гаснут в двух больших светах ее глаз. Все ее лицо чудесно простое, милое, в такие минуты преображается: иногда становится таким ясным и нездешне светлым, что у Николая Николаевича пересыхают губы, и он чувствует, что его баловство не стоит таких минут, таких глаз. Надо замолчать и глядеть – они сами что-то сердцу внятно глаголют – с этим он уходил от нее всякий раз потрясенный… Дома уже обдумывал, и начинался новый прилив счастья, словно такие же внятные глаголы обретал весь мир: камни, сосны, Волга, деревня Ивушкино, где она родилась…







