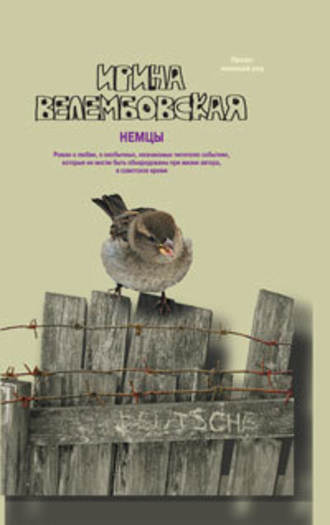
Ирина Велембовская
Немцы
2
Прииск Нижний Чис лежал в самом сердце Урала, на границе Европы и Азии. Полноводная, быстрая река Чис была теперь закована толстой броней льда. Три крупные паровые драги чернели на льду между отвалами, занесенными снегом. Поселок раскинулся на высоком берегу, позади него громоздились горы и шумел еловый бор.
Лаптев приехал на Нижний Чис поздно вечером, на сутки раньше своего эшелона. С площадки первого вагона он смотрел на выплывающий из тумана поселок, на мелькающие кое-где огоньки.
Стоял лютый мороз. Это было 24 февраля 1945 года.
В помещении приискового управления уже был погашен свет. Только окно во втором этаже еще светилось. Сторож проводил Лаптева к двери, на которой висела табличка «Лесная контора».
В комнате за большим письменным столом сидела темноволосая полная женщина, закутанная в белую шерстяную шаль.
– Здравствуйте, – сказал Лаптев.
Женщина поднялась, сбросив шаль на спинку стула. На ней была простая мужская гимнастерка, тесная в груди и в вороте.
– Здравствуйте! Начальник лесного отдела Путятина Татьяна Герасимовна, – представилась она. Высокий голос как-то не соответствовал ее комплекции. – С чем вы, товарищ?
Лаптев назвал себя. Татьяна Герасимовна широко улыбнулась.
– Ждем мы вас, ждем, как пироги из печи, – и сразу перешла на «ты»: – Ну, садись, рассказывай.
Они беседовали долго. Татьяна Герасимовна внимательно слушала, подперев щеку кулаком совсем по-бабьи.
– Много ль везете немцев-то? – спросила она.
– Около четырехсот мужчин и сотни полторы женщин.
Татьяна Герасимовна широко раскрыла глаза:
– Женщин? Разве их тоже в плен брали?
– Нет, конечно, – улыбнулся Лаптев. – Вы, очевидно, думаете, что мы везем военнопленных, а это – интернированные, немцы из Западной Румынии. Есть такая провинция Банат. Хорошие места. Немцев там много живет, венгров, чехов. Сейчас большинство немцев в возрасте от пятнадцати до пятидесяти интернированы в Россию.
– Что ж, навечно? – испуганно спросила Татьяна Герасимовна.
– Зачем же навечно? Пока в этом будет нужда. Пусть поработают на нас немного.
– Да, работники нам нужны, – кивнула Татьяна Герасимовна. – Драги третий день простаивают без дров. Детсад, больница – нигде дров ни полена. От заносов ни трактор, ни машина в лес не проходят. Рубить и подавно некому: одни бабы да ребятишки.
– Значит, мы вовремя поспели? – снова улыбнулся Лаптев.
Татьяна Герасимовна собрала со стола бумаги, заперла стол и накинула шаль.
– Где остановился-то, товарищ Лаптев?
– Хотел в приезжей, – ответил Лаптев и смущенно добавил: – Да говорят, там холод собачий…
– Поедем со мной, я тебя на хорошую квартиру поставлю. Там не замерзнешь.
Домик Василия Петровича Черепанова стоял на самом краю поселка. За огородом сразу начинался лес. Татьяна Герасимовна вылезла из саней и постучала в ворота. Отворил сам Василий Петрович.
– Кого бог дает? – спросил он, вглядываясь в Лаптева.
– Принимай гостей, – отвечала Татьяна Герасимовна и пропустила вперед совсем замерзшего Лаптева.
Когда Лаптев вошел в жарко натопленную избу, из-за стола, быстро сложив книги, поднялась девушка и удивленно посмотрела на него.
– Ну, знакомьтесь, – сказала Татьяна Герасимовна. – Это, товарищ Лаптев, моя помощница – прораб чисовского участка Тамара Черепанова. Томка, ты уж позаботься о госте: он нам работничков привез.
– Проходите, – тихо сказала девушка.
Лаптев не без удивления разглядывал ее. Прораб был очень хорошенькой девушкой лет семнадцати-восемнадцати на вид, сероглазой, с темными бровями и ресницами. Из-под белой косынки на голове выбивались светло-русые волнистые прядки.
Старик Черепанов достал для Лаптева теплые валенки с печи. Бабка поставила самовар. Татьяна Герасимовна посидела немного и стала собираться домой.
– Завтра заеду за тобой, – объявила она Лаптеву. – Поедем бараки для немцев твоих смотреть.
Он сидел на широкой лавке у печи и грелся. Тамара стала накрывать на стол.
– Садитесь, чем бог послал… – пригласил старик Черепанов. – Не тем раньше угощали. Такое сейчас время…
Лаптев с удовольствием поел картошки, но от соленых груздей и капусты отказался:
– Спасибо… лучше не надо. У меня половина желудка вырезана.
Черепанов сочувственно покачал головой и велел бабке достать молока. Лаптев поужинал, и Тамара собрала посуду. Потом она постелила ему за перегородкой.
– Ложитесь, – она застенчиво улыбнулась. – Завтра Татьяна Герасимовна вас чуть свет подымет.
Лаптев разделся и лег, наслаждаясь теплом. Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть. За перегородкой Тамара все еще не гасила свет и сидела с книжкой до тех пор, пока отец не прикрикнул:
– Томка, бросай к лешему свои книжки! Завтра тебя не добудишься!
Девушка погасила свет и легла. Вскоре послышалось ее ровное дыхание. Лаптев все еще не спал. «Далеко же меня занесло… – думал он, глядя в темноту. – То через всю Европу, теперь через всю Россию почти. Вот попал в чужую семью, а приняли как своего. Девушка такая милая…»
На крутом берегу Сухого Лога виднелись два бревенчатых двухэтажных корпуса бывшего лесотехникума. Лесотехникум еще до войны перевели в область, в первый год войны здесь размещался эвакогоспиталь. После его расформировали, и техникум снова пустовал. Сейчас его приготовили к приезду интернированных немцев. Выстроили баню с прачечной, старый сарай отремонтировали, сделали столовую и кухню, пристроили помещение для госпиталя и красного уголка. Территорию лагеря обнесли высоким глухим забором с четырьмя вышками по углам.
Лаптев и Татьяна Герасимовна вошли в лагерь через проходную будку, пахнущую свежим сосновым тесом. На широком дворе росло несколько зеленых разлапистых елок. Везде еще валялись обрезки досок и стружки – следы работы плотников, но из двух труб первого корпуса уже вился дымок.
– Затопили, – сказала Татьяна Герасимовна. – Я велела все печи разогреть для твоих немцев, последних дров не пожалела.
– За нами не пропадет! – весело ответил Лаптев.
Эшелон прибыл вечером двадцать пятого февраля. Холодный туман окутывал прииск. Несмотря на мороз, у станции собралась толпа народа, чтобы посмотреть на немцев. Прибыло и все приисковое начальство в длинных меховых шубах. Лаптев, не успевший еще обзавестись полушубком и валенками, мерз в своей тонкой шинели и сапогах с галошами. Татьяна Герасимовна, заметив, что Лаптев совсем застыл, прогнала его греться в станционное помещение.
Пыхтя, подошел длинный состав. Из первого вагона вышли старший лейтенант Хромов, лейтенант Петухов, младшие лейтенанты Звонов и Мингалеев.
– Здорово, замполит! – Хромов крепко пожал Лаптеву руку. – Ну и мороз, я тебе скажу! Сейчас бы выпить с дороги! – и пошел знакомиться с приисковым начальством.
– Открывайте вагоны! – распорядился Лаптев.
Переводчик, юркий немец Альтман, крикнул по-немецки:
– Приготовиться к высадке!
С лязгом одна за другой начали открываться двери вагонов, и немцы спрыгивали на платформу.
– Говорили, немцев пригонят, а это бабы, – разочарованно сказал кто-то в толпе.
– Юбки-то на них какие длиннющие! А народ мордастый!
– Глянь, фриц какой толстый! Небось, капиталист!
Последнее замечание относилось к Беру, который кряхтел под тяжестью двух чемоданов.
Штребль стоял, перекинув свой рюкзак через плечо. Молодой русский лейтенант подтолкнул его в спину:
– Живей, камарад, стройся в колонну! Багаж клади на сани, не робей.
Василий Петрович Черепанов, которого отрядили с подводой на подвозку немецкого багажа, проворчал, поглядывая на объемистые чемоданы:
– Ишь багажу-то набрали сколько, анафемы! На семи подводах не увезешь.
Немцы ежились от холода, переминались с ноги на ногу.
– У тебя уже нос побелел, Раннер, – заметил Штребль. – Что там в последних вагонах канителятся? Так можно совсем замерзнуть.
Наконец колонна тронулась, сопровождаемая мальчишками и собаками. Из дворов выходили местные жители поглазеть на немцев.
Веселый лейтенант Звонов, шагая впереди, шутил:
– По улицам слонов водили… Разрешите, граждане, дорогу освободить! Интересного ничего нет: обыкновенные немцы, пятачок пучок. Камарад, шагай побыстрей, прячь сопли, не срамись перед русскими женщинами!
Когда за последним немцем закрылись ворота, заскрежетали засовы, охрана заняла свои места. Лагерь осветился огнями, ожил.
Первую ночь Штребль проспал в коридоре на полу рядом с Бером, под его теплым шерстяным одеялом. В комнаты никого не впускали до тех пор, пока не пройдет санобработка. Но и здесь Штребль уснул так крепко, что проснулся только по пронзительному визгу электрического звонка.
– Подъем! Построиться!
– Ауфштеен! Антретен!
В длинном коридоре, толкая друг друга, начали строиться люди. Взволнованный, бегал переводчик Альтман со списками, испещренными столбцами фамилий. Коридор гудел, кое-кто из женщин плакал. Вошли Хромов, Лаптев и остальные офицеры. Шум стих. Хромов обратился к дежурному по лагерю младшему лейтенанту Петухову:
– Баб сразу во второй корпус. Пускай забирают вещи.
– Ди вайбер коммен ин ден цвайте корпус! Пакт ди захен! Шнелль! – громко перевел Альтман.
Женщины засуетились, некоторые заплакали снова, прощаясь с мужьями и родственниками. Хромов поморщился:
– Альтман, шевели их! Пусть не ревут – не на век расстаются.
Когда женщины покинули первый корпус, началась перекличка. Альтман объяснил, что каждый, когда будет названа его фамилия, должен отвечать по-русски «здесь». Кроме того, каждому будет присвоен порядковый номер, который он обязан запомнить и на него откликаться.
– Первый номер – Альтман Иоганн! – вызвал Хромов.
– Здесь, – быстро ответил переводчик.
– Номер второй – Гофман Леопольд!
– Презент! – пробасил немец, но тут же поправился: – Здесь!
– Номер третий – Юрман Иоганн!
– Хир!
– Никаких «хиров»! – оборвал Хромов. – Отвечать всем «здесь».
Процедура переклички явно затянулась. Хромов передал список Лаптеву.
– На, покричи. У меня от этих дурацких фамилий язык уже стал заплетаться. Все какие-то Рихеры, Михеры, черт их подери! Первые сто номеров, марш в баню!
Командование первой ротой принял лейтенант Петухов. Раненный осколком в глаз, он носил черную повязку, закрывавшую пустую глазницу. Немцы сразу же дали ему кличку Одноглазый Лейтенант. В состав первой роты вошло около двухсот человек. Здесь и оказался Штребль со своим приятелем Бером.
Вторую роту, которая досталась младшему лейтенанту Звонову, составляли почти исключительно немцы-крестьяне, многие из которых попали сюда целыми семьями. Все они были одеты в домотканую поношенную одежду: холщовые штаны в обтяжку с кармашками на бедрах, такие же жилетки поверх бурых от грязи рубах. На некоторых были безрукавные куртки из овчины, мехом книзу, довольно красиво расшитые цветными узорами. На головах – черные островерхие бараньи шапки или самодельные картузики, отороченные мехом. На ногах – сандалии из воловьей кожи, затягивающиеся ремешками и напоминающие русские чуни. Все мужчины были грязны и давно не бриты. Одежда их пахла потом и плохим мылом домашней варки.
Аккуратненький стройный лейтенантик Саша Звонов, оглядев свою роту, аж сплюнул:
– Тьфу, и вонючий же народ! Табак какой-то дьявольский курят!
Третья рота была женская. Ею командовал младший лейтенант Мингалеев, рослый, красивый башкир.
– Ну, фрау, моя хлебнет с тобой горя! – сказал он, оглядывая испуганных, дрожащих немок. – Ну чаво ты боишься? Ну чаво? Зверь я, что ли? Сказано: дура-баба!
Крестьянки держались бойчее, некоторые улыбнулись своему лейтенанту. На женщинах и девушках было бесконечное количество цветастых, пестрых юбок, узкие строченые кофты, красивые яркие платки, на ногах – самодельные теплые туфли или веревочные лапотки. Почти вся одежда была из домашнего холста, только платки покупные.
Горожанки держались особняком: модные короткие пальто с подкладными плечами, шелковые чулки, игривые прически, а лица у всех растерянные и глаза полны слез.
Мингалеев усмехнулся и оскалил крупные белые зубы:
– Кончай панихида! Пошел в баню грехи отмывать!
Лейтенант Петухов первым перемыл, накормил и разместил по комнатам свою роту. Когда последний немец был водворен на свое место, Петухов оглядел еще раз все комнаты и, поманив к себе Альтмана, сказал ему усталым голосом:
– Я, камарад, пойду шляфен маленько. Устал я от вас, чертей, ужасно! Вы-то ночью дрыхли, а нас комбат всю ночь мариновал. Оставайся пока за старшего. Смотри, чтобы не орали, курить ходили на улицу, на пол не сорили. Меня разбудишь часа через два, я буду в красном уголке.
Альтман поспешно поклонился. Петухов ушел в красный уголок, стащил сапоги и улегся на стол, подмостив под голову шинель. Вскоре сюда же явился и Звонов и уснул на составленных стульях.
Только Мингалеев почти до вечера возился со своей женской ротой, топтался около бани и стучал кулаком в окошко.
– Что сандуновская баня здесь устроили? Сколько можно мыть, я спрашиваю? Раз-два, и выходи! Терпенье лопнет, сам зайду, начну тебе парить!
– Что волнуетесь, товарищ младший лейтенант? – спросил вахтер из охраны, здоровенный местный парень, проходя мимо бани с горой наволочек в руках.
– Пять часов стою, баба моется-моется, сколько можно!
Вахтер сложил наволочки, лукаво подмигнул Мингалееву и, вскарабкавшись на завалинку, заглянул в окно.
– Да они юбки свои стирают, товарищ младший лейтенант!
– А, черт паршивый! – зарычал Мингалеев и изо всей силы начал колотить кулаком в дверь. – Выходи, стрелять буду!
Пока женская рота обедала и размещалась, первые две роты уже построили в широком коридоре первого корпуса. Хромов и Лаптев успели побриться, но выглядели заспанно. Петухов и Звонов изредка зевали в кулак.
Штребль стоял крайним в первом ряду на правом фланге. Лицо комбата было видно ему в профиль: у комбата изредка вибрировал мускул на левом виске и нервно шевелились маленькие рыжеватые усы-щеточка. Когда воцарилась тишина, Хромов прошелся вдоль строя.
– Как стоите? – строго спросил он, оглядывая немцев. – Убери пузо! – ткнул он Бера. – Я с вами нянчиться не намерен, не маленькие. Ваши небось с нашими не нянчились – раз в зубы и разговор короток!
Почти никто не понял ни слова, но немцы стояли, опустив глаза.
– Ну, разъясни им все, Петр Матвеевич, – уже спокойнее обратился Хромов к Лаптеву. – Ишь фрицы повесили носы!
Лаптев кашлянул и, подбирая нужные немецкие слова, начал:
– Каждый из вас должен знать свои права и обязанности. Что же составляет права интернированного? Вам разрешается вне рабочего времени заниматься чтением газет на немецком или другом знакомом вам языке, писать письма домой, но не чаще двух раз в месяц, разрешаются прогулки на территории лагеря, но не позже девяти, а в летнее время – одиннадцати часов вечера. Разрешаются танцы и музыкальные занятия два раза в неделю, пение песен на родном языке и прочие интересующие вас занятия, не противоречащие общему уставу и порядку. Вы же обязаны беспрекословно подчиняться вашим прямым и косвенным начальникам, порученную вам работу выполнять аккуратно и в срок, причем не ниже, чем на сто процентов. Организованным строем отправляться на работу и с работы. Самовольные отлучки без разрешения на то командира батальона, а в его отсутствие – командиров рот, с территории лагеря категорически запрещаются, самовольный уход с рабочего места также категорически запрещен. Данные вам задания от командного состава лагеря по поддержанию личной и общей гигиены, порядка, несение дежурств и тому подобное также должны выполняться беспрекословно.
Командование лагеря, в свою очередь, предоставляет вам помещение, питание и обмундирование согласно существующему положению о лагерях военнопленных и интернированных. Стоимость вашего содержания будет высчитана из заработанных вами сумм. Остальные деньги вы будете получать на руки один раз в месяц.
На невыполняющих настоящие требования будут наложены дисциплинарные взыскания, начиная от помещения в карцер и вплоть до перевода в другой лагерь, более строгого режима.
У Лаптева от долгого напряжения мыслей выступил пот на лбу. К тому же он краснел за свое произношение. Вытерев лоб платком, он спросил охрипшим голосом:
– Все вам понятно из того, что я сказал?
Сначала воцарилось молчание, потом разом посыпались вопросы. Комбат нахмурился. Альтман тут же закричал:
– Задавайте вопросы по очереди!
Первым спросил Раннер:
– Если я болен и не могу выполнять что положено, меня тоже посадят в карцер?
Альтман перевел. Хромов усмехнулся.
– Врач вас всех осмотрит. Кто больной – дадим легкую работу. Но учтите, – комбат повысил голос, – симулянтам пощады не будет! Я вам покажу, где раки зимуют!
– Дадут ли нам работу по нашей профессии? – тихо спросил Ландхарт.
– В дальнейшем учтем. А пока – все в лес дрова рубить, а то сами же замерзнете, как сукины дети. Здесь вам не Румыния, а Урал.
Вопросы следовали один за другим. Хромов нетерпеливо махнул рукой:
– Вас не переслушаешь! Вам только дела – языки чесать, а у меня дел куча впереди. Время придет, все узнаете. А пока предупреждаю: комнаты держать в чистоте, к бабам во второй корпус не таскаться. Может, у кого жена или кто-нибудь из родных, спросите тогда разрешение у командира роты. А остальным там делать нечего. Желаете разговаривать – на это есть двор, гуляйте сколько влезет. Ну а теперь: есть среди вас коммунисты?
Немцы молчали.
– Ну, по-русски хоть кто понимает?
Шесть человек нерешительно вышли из строя.
– Ихь… я немножко понимайт, господин лейтенант, – сказал сгорбленный немец с седеющей головой. – Я есть румыньский коммунист. Пять лет сидел на румыньска тюрьма.
– Как твоя фамилия? – прощупывая немца взглядом, спросил Хромов.
– Грауер. Отто Грауер.
– Ладно, – согласился комбат. – Коммунист или нет, мы потом разберемся. Раз понимаешь по-русски, назначаю тебя старостой лагеря. Но смотри: винтом у меня ходить! А то быстро слетишь. Отвечаешь за всех людей. Понял?
– Понял, – Грауер поклонился.
Хромов осмотрел остальных и ткнул пальцем в трех.
– Назначаю старостами рот. Петухов, Звонов, проинструктируйте их.
Комбат вышел. Петухов почесал в затылке.
– Как их проинструктируешь, если я, к примеру, ни черта по-немецки? Альтман, иди помогай, что ли…
Роты распустили, немцы разбрелись по комнатам. Штребль забрался на верхние нары, где было его место. Против него лежал плотник Эрхард, крупный пожилой человек.
– Ну как, Ксандль, нравятся тебе твои права и обязанности?
– Что ж, ничего… Обязанностей, правда, больше, чем прав, но это не страшно. Вот еды маловато. И заметь, Штребль, русские офицеры едят ту же дрянь, что и мы. Я видел, как наш Одноглазый Лейтенант уплетал в столовой похлебку из зеленой капусты.
– Но что хуже всего, так это то, что у меня кончается табак, – печально заключил Штребль и повернулся лицом к стене.
3
Две недели лагерь был на карантине. Немцы продолжали томиться от безделья. Изредка выпадал наряд попилить дров в баню или на кухню, разгрести снег во дворе, убрать помещение. Вечерами молодежь собиралась на танцы, женщины занимались рукоделием, мужчины играли в шахматы.
Штребль пытался несколько раз вечерком проникнуть в женский корпус, где у него было много знакомых, но староста женской роты, маленький, худой, как мальчишка, Герман Рот, всякий раз вежливо преграждал ему дорогу:
– По распоряжению хауптмана мужчинам не разрешается посещение женского корпуса.
– Евнух проклятый! – недовольно ворчал Штребль.
Если в первой роте еще чувствовалось какое-то оживление: люди разговаривали, читали газеты, играли в шахматы, собирались на танцы, то во второй царило полное уныние. Крестьяне, или, как их называли, бёмы, сидели хмурые, молчаливые, безразличные. Изредка вспыхивали ссоры, доходившие иногда до рукопашной.
Уже на третий день к Звонову в приезжую прибежал начальник караула.
– Товарищ младший лейтенант, немцы ваши передрались!
– Из-за чего же это? – испуганно спросил Звонов.
– Не могу знать. Только здорово цапаются!
Звонов помчался в лагерь. В коридоре второго корпуса было полно народа.
– По местам! – заорал он.
Толпа схлынула. Белобрысый Шпайбауер, прислонившись к стенке, вытирал кровь, капавшую из носа. На полу усердно работали кулаками два бёма. Кто-то корчился под ними, неистово дрыгая ногами. Остальные смотрели на драку безучастно, спрятав руки в кармашки штанов.
Звонов потянулся к кобуре.
– Встать, гады! Стрелять буду!
Окрик подействовал отрезвляюще. С полу поднялись братья Суттеры, Фердинанд и Генрих. Лица их были красны и исцарапаны, одежда порвана. На полу обессиленно лежал шестнадцатилетний щуплый парнишка Сеппи Беккер. Он был сильно избит и с трудом сдерживал горькие рыдания.
Звонов не выдержал:
– Ну паразиты! Вдвоем бить ребенка! В карцер обоих! Ну гады, ну сволочи!
Бледный староста второй роты, с трудом говорящий по-русски, объяснил, что мальчик взял без спроса у Суттера его посуду и принес в ней суп. Суттер увидел это и выплеснул суп Беккеру в лицо. Тогда мальчишка назвал Суттера «грязной бёмской свиньей». Суттер и его брат принялись бить Беккера, а Шпайбауера, который заступился за мальчика, тоже ударили по лицу.
– Я обед нес… – захлебываясь слезами, кричал маленький Беккер. – Так хотел кушать… а он схватил и вылил! Суп еще горячий был. Пусть мне теперь его порцию дадут!.. Суттер сам хвастал, что отравил русского солдата, когда они пришли в их деревню…
Звонов ничего не понял из того, что прокричал мальчик, но бёмы угрожающе зашевелились. Беккер испуганно замолк.
– Ступай в госпиталь, – сказал Звонов, погладив мальчишку по голове. – Не бойся, никто тебя больше не тронет. А вы, – обратился он к Суттерам, – марш в карцер! Я еще до вас доберусь!
Звонов вышел из помещения роты и с укоризной сказал следовавшему за ним начальнику караула:
– Что ж ты, полено, не мог разнять их? Чуть не изувечили мальчишку.
– Да, товарищ младший лейтенант, – жалобно оправдывался тот, – как к ним подступиться-то? Того гляди самому в рыло двинут. К тому же стрелять не велено, бить – тоже, а из вахтеров, как на грех, нет никого.
Полный самых грустных размышлений, Звонов направился в комендатуру. Там он застал Лаптева.
– Да, тяжелый народ, – согласился Лаптев. – Собственники, те же кулаки. Ты погляди, как они жили: румынские крестьяне голодали, круглый год на одной мамалыге, а немецкие кулаки на базар сало и масло возами возили. У каждого батраки – венгерские, румынские, свои же немецкие. Ты не гляди, что они в домотканое одеты: у многих в хатах в глиняном полу куча денег зарыта. И все испорчены антисоветской пропагандой. С ними трудно будет, Саша. Работать-то они умеют, но заставить их можно будет только за хлеб и за деньги, а не за страх и за совесть.
– Мне всегда везет, – уныло заметил Звонов. – Лучше бы баб мне дали. С ними и то греха меньше.
Суттеров посадили в карцер. Запирая за ними дверь, начальник охраны ругался шепотом, как только умел. Они тоже принялись браниться румынской площадной бранью, не дожидаясь, пока его шаги смолкнут в конце коридора. Потом старший, Фердинанд, заплакал злыми слезами, сел на холодный пол и закрыл лицо руками.
– Сам черт не заставит меня работать на русских! Я их ненавижу!
– Но нам тогда не дадут есть, – тихо предостерег младший. – А может быть, и расстреляют…
Старший Суттер задумался, потом сказал:
– Если мы, Генрих, будем работать на русских, они вовсе никогда не отпустят нас домой, – и, приблизив к брату свое серое от злобы лицо, добавил: – Как настанет лето… мы отсюда убежим.
В лагере шел медицинский осмотр. Врач, молоденькая девушка, только в этом году закончившая институт и мечтавшая об отправке на фронт, а вместо этого направленная на работу в лагерь интернированных немцев, естественно, и не пыталась скрыть свое раздражение и брезгливо прикасалась к раздетым немцам.
– Гезунд? Во хабен зи шмерцен? – сердито повторяла она затверженные немецкие фразы, а стоявшему рядом переводчику Альтману говорила: – Скажите, чтобы рот полоскал и чище мылся. Голову обрить.
Больше всего раздражало «фрау докторин» то, что почти все немцы считали себя больными. Очень немногие на вопрос «здоров?» отвечали «да». Остальные начинали нюнить и выдумывать всякие болезни.
Глядя на их еще довольно упитанные тела, докторша сердито говорила:
– Воду на вас возить. Изжоги скоро не будет, не бойтесь.
Несмотря на строгий подход, молодая докторша все же обнаружила несколько туберкулезных и сердечных больных, много больных с язвой и гастритом. Крестьяне и крестьянки во множестве случаев страдали грыжей. Обнаружив также и венерические заболевания, она заявила комбату:
– Вызывайте венеролога. Я с сифилитиками возиться не намерена. И немедленно изолируйте всех венериков.
Комбат побелел от злости.
– Сукины дети! Ну куда я их, сволочей, изолирую? Проклятая нация, чтоб им всем передохнуть!
– Что ты их ругаешь? – возразил Лаптев и со свойственным ему диалектическим подходом добавил: – Ругай румынское правительство, которое поощряло проституцию и строило публичные дома.
В результате осмотра выяснилось, что человек около ста могли выполнять лишь совсем легкую работу. От посылки их на лесозаготовки докторша советовала воздержаться.
– Некоторым необходимы операции. Вызывайте хирурга или кладите их в поселковую больницу. Кстати, пяти беременным женщинам выделите дополнительное питание. Лучше поместить их в отдельную комнату, более теплую и чистую, – она вдруг оставила свой прежний раздраженный тон, словно речь уже шла не о немцах.
Комбат криво усмехнулся:
– Не прикажете ли здесь санаторий для них открыть?
– Вы что, гестаповец, что ли? – сурово спросила докторша. – Женщинам скоро родить, а вам комнаты жалко.
Лаптев улыбнулся и шепнул ей на ухо:
– А ведь вы молодец, Олимпиада Ивановна!
– Ну, ладно! – махнул рукой Хромов. – Провались они все! К осени всех больных к чертовой матери обратно в Румынию! Пусть там себе грыжи вырезают. А здесь у меня им не лечебница. Я сам с ними того и гляди заболею.
Всем немцам, которые были признаны здоровыми, выдали валенки и теплые рукавицы, а у кого не оказалось пальто – стеганые ватники. Хотя было уже начало марта, по утрам держались морозы до двадцати пяти градусов. Примерка валенок длилась целый день. Почти всем они оказались велики, особенно женщинам – они могли засунуть в каждый обе ноги. Но в общем эта обувь, которой немцы отродясь не видели, всем понравилась. Кое-кто даже явился вечером в валенках на танцы.
Понравились они и Штреблю. Его уже два раза посылали разгребать снег за зону, и оба раза он набирал полные ботинки снегу.
– Я захвачу эти сапоги с собой в Румынию, – сказал он шутя своему приятелю Беру.
Тот тяжело вздохнул, и лицо его приняло грустное выражение.
– Вы молоды, – произнес он, – и, конечно, увидите еще Румынию. А вот я… неизвестно. Может быть, через несколько дней, когда нас выгонят на работу, я не смогу выполнить свою норму, и меня посадят в карцер…
Штребль покровительственно потрепал его по плечу:
– Не бойтесь, старина, я вас не брошу. Вдвоем-то уж мы как-нибудь не пропадем.
С тех пор как Штреблю удалось раздобыть табак, продав через Чундерлинка свою бритву, он пребывал в бодром расположении духа. Правда, теперь, чтобы побриться, приходилось идти в общую лагерную парикмахерскую и терпеливо ждать там очереди, но это было не самое большое неудобство. Зато он выкуривал не менее десяти папирос в день и этим восполнял недостаток в пище. Его больше всего тяготило безделье. Спать много, как другие, он не мог, слонялся по лагерю, болтал во время прогулок с женщинами и каждый вечер шел танцевать.
Танцевали в большом зале на первом этаже в первом корпусе. Почти каждый второй немец играл на каком-нибудь музыкальном инструменте, и образовался оркестр: две скрипки, альт, флейта, кларнет, аккордеон. Всем заправлял Антон Штемлер, сам музыкант и страстный танцор. Он то играл на огромном бело-розовом аккордеоне, то брался за скрипку, то выбирал даму и входил с нею в круг. Весь вечер он ни на минуту не останавливался, и его рыжая шевелюра мелькала то здесь, то там.
Танцующих собиралось порядочно, но в основном это были мужчины из первой роты и горожанки. Крестьяне и крестьянки этого зала не посещали, изредка только забегали подростки и робко жались в дверях.
Штребль любил танцы, а больше всего вальс. В нем он забывался и выглядел весьма романтично. Женщины посматривали на него с плохо скрываемым интересом. В танцах Штребль уступал только, пожалуй, одному Штемлеру.
Сегодня он танцевал с совсем молоденькой и очень хорошенькой брюнеткой с огромными бархатно-карими глазами и по-детски длинными ресницами, которая ко всем прочим своим достоинствам еще и отлично двигалась в танце. Штребль решил ни за что не уступать ее никому.
– Как тебя зовут, маленькая? – ласково спросил он.
– Мэди Кришер. Я из Бокши Монтана.
– Так мы почти земляки! Я из Решицы. В какой комнате ты спишь?
Между танцами Штребль узнал, что Мэди всего восемнадцать лет и она единственная дочь у своих родителей. У нее даже слезы набежали, когда она вспомнила, как ее увозили из дома. Штреблю стало искренне жаль девушку, он достал носовой платок и подал ей. Он решил, что перед ним еще ребенок, но когда они танцевали танго, вдруг почувствовал, как «ребенок» крепко, по-женски прижался ногой к его бедру. Тогда прижался и он, а рука его еще плотнее легла на ее талию. Девушка не смутилась и посмотрела ему прямо в глаза. Видавший виды Штребль был даже несколько шокирован.
– Ты мне нравишься, – тем не менее зашептал он, продолжая начатую игру.
– Ты мне тоже, – кокетливо ответила Мэди.
Не окончив танца, Штребль увел ее в темный коридор. Она смело пошла за ним и так же смело подставила ему губы для поцелуя.
Но долго целоваться им не пришлось: в конце коридора открылась дверь и показалась высокая фигура лейтенанта Петухова. Он шел разводить свою роту по местам. Увидев в уголке парочку, Петухов усмехнулся, но прошел, ничего не сказав.
– Шляфен, камарады! – раздался его басовитый голос у дверей зала. – Живо по местам!
Через полчаса, лежа на нарах под самым потолком, Штребль улыбался: «Много ли человеку надо, чтобы он вновь почувствовал себя счастливым? Хорошенькая живая девушка, и все неприятности забыты». Почувствовав на щеке жжение и раздавив рукой клопа, Штребль вдруг пришел в ярость: сейчас этот отвратительный запах был ему особенно невыносим.



