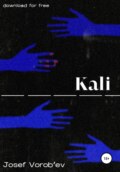Иосиф Дмитриевич Воробьев
История Римского Государства: Политика Религия Война
Повторилась история. Снова плебеи устроили массовую забастовку, снова та же опасность. Спурий Оппий созывает повторное слушание сената. В это время к гражданам Рима воззвал бывший народный трибун Марк Дуиллий, который призвал всех принять участие в новой сецесси против децемвиров. Плебеи поддержали этот призыв и скоро город окончательно обезлюдел. Сенаторы совещались ежедневно. В итоге к восставшим отправили послов. Требования у плебеев были простые: власть трибунов должна быть восстановлена, децемвират сложен, все зачинщики заговора прощены Послы, которые сами сочувствовали плебеям передали всё сенаторам. На этом и закончилась вторая сецессия и власть децемвиров.
§10 Формирование нобилитета
Выше мы уже разобрали отношения между патрициями и плебеями, здесь же необходимо обозначить как они развились в ходе демократизации политической жизни. Под словом демократизация понимается процесс захвата массой населения определённую сферу общественной жизни и обращение её общее целое, другими словами: упрощение, уничтожение вертикали. В Риме этот процесс носил системный характер и шёл постепенно в ходе политической борьбы плебеев и патрициев. Плебеи не были однородной массой, но более того они были весьма отличны. Будет ошибкой под понятием «плебей» понимать однородную нищую массу народа. Однако будет верно подметить, что если уж говорить об плебеях богатых, знатных, то скорее всего это представители городской элиты.
Итак, в ходе демократизации политической жизни Рима начинается упрощение отношений между патрициями и плебеями. Выражается он в допуске плебейских магистратов к ведению общей политики Рима. Началось всё, конечно же с создания народных трибунов, которые защищали интересы римского населения. По сути их действия уже имели общий характер, так как из-за их действий политическая жизнь города могла остановиться, однако при этом они заключали в себе противоборство передовой политики патрициев, то есть вся их деятельность носила пассивный характер. Если патриции предлагали, то трибуны отказывали, если патриции проводили набор, то трибуны противостояли ему. При этом само существование трибунов в римской политике носило воздушный характер. Они не несли никаких полномочий перед государством, но напротив ему противодействовали. Правильнее сказать, что это просто особая категория граждан, которая обладает высшими чем все остальные правами. Возможно именно поэтому приравнивать трибунов к защитникам слабых и нищих будет как минимум преувеличением. Их деятельность защищала совершенно другую прослойку общества, к которым чаще всего сами трибуны и относились-нобилитету.
Нобилитет – это условное третье сословие древнего Рима состоящая из детей патрициев и плебеев. В конце царского периода разделение между плебеями и патрициями уже перестало иметь фактическую почву и оставалось юридическим. По уровню влияния плебеи стали на один уровень с патрициями, а то и вовсе перешагнули их. После чего начался процесс сближения сословий. Браки между плебеями и патрициями начали постепенно становиться частью жизни древнего Рима в связи с чем стали появляться нобили. Реальную власть нобилитет получит только к концу 3-его века, когда различия между патрициями и плебеями сойдут почти что на нет, однако не заметить настоящую тенденцию было бы неправильно, так как условия, при которых нобилитет формировался и какое значение он имел в истории Рима этого периода представляет отдельный интерес.
После разбирательства с децемвирами новая власть во главе с Луцием Валерием и Марком Горацием начала восстанавливать власть плебейства, а вместе с тем проводит системный террор против децемвиров. Почти все члены децемвирата были отправлены в изгнание, кроме Аппия Клавдия и Спурия Оппия. Они покончили с собой в темнице, не выдержав позора. После свершения правосудия 12 таблиц, которые децемвиры писали во время правления своей диктатуры были вынесены на площадь, чтобы каждый желающий мог с ними ознакомиться. Считается, что первые десять таблиц, которые писал первый децемвират были с хорошими, мудрыми законами, а последние две таблицы напротив, представляли из себя тиранические идеи. В частности, многих возмутил закон, по которому плебеи не могли скреплять себя узами брака с патрициями. Для древних этот закон считался античеловеческим, так как шёл против любви. На самом деле тут всё гораздо сложнее. Ясно, что до децемвиров браки между патрициями и плебеями имели место быть. Пускай это было не часто, но так или иначе было. Также нам известно, что уже в это время римское общество имеет свою олигархию, которая также имеет плебейское происхождение. По большей части олигархи и их отпрыски занимали государственные посты, которые по ограниченной системе римских порядков носили пока что сословный характер. Отсюда и деятельность трибунов, которая стала неотъемлемой частью римской политики и носила пускай и антагонистический, но необходимо-примиренческий характер. Трибуны были представители знатных плебейских родов, то есть новой аристократией. Очевидно, что с реальным нищим плебейством они имели мало общего. В основном они использовали народ для ведения собственной политической программы. Постоянное сосуществование с патрициями приводило к примиренчеству и единению сословий. Пускай идея «борьбы патрициев и плебеев» существовала (она ещё очень долго просуществует), но реальное положение вещей полностью противоречит первоначальным идеям борьбы плебейства за своё освобождение. Деятельность же децемвиров, судя по всему, разрушило эту олигархическую мечту. Политика децемвиров была маргинальна. Она чётко закрепляла за нищетой права нищеты, а значит играла на руку основной массе населения. Возможно, это прозвучит противоречиво, но работа децемвирата была на руку основной, политически-маргинальной части населения Рима, то есть деревенских жителей и пролетариев, так как была направлена против третьего сословия, которое нобилитет и представлял. Нищие никогда в Риме не имели политической власти. Она постоянно концентрировалась в руках знати и не важно власть это патрициев или высшей плебейской знати. Независимо от этого люди были в стороне. Если в начале истории Республики Помпликола провёл достаточно значимые социальные реформы по помощи нищим, то после подобная благотворительность практически спадёт на нет. Борьба будет вестись вокруг возможностей трибунов, патрициев и других политических магистратур. Плебейская верхушка начнёт бороться за допуск к новым должностям, которые раньше были патрицианские, за уничтожение сословных пережитков и так далее, но это не будет борьбой за так называемый римский плебс, как это любят рисовать некоторые античные писатели.
После низвержения власти децемвиров новые консулы-патриции проведут ряд реформ по закреплению плебейской власти. Во-первых, они восстановят всё что было потеряно в ходе правления децемвиров. После пройдёт революционный во многом закон, который заставит патрициев подчиняться решениям, которые плебеи выберут на плебесцитах. Революционность этого постановления заключается в том, что это, по сути, рушит антагонистический характер существования плебейских магистратур. Дополнительную вескость этому закону приносит патрицианская инициатива этого положения. Власть уходила из рук патрициев и постепенно переходила в общее пользование. Теперь не было необходимости кричать «вето» только для того, чтобы насолить несправедливым отцам, но появилась возможность договариваться. Трибуны потеряли своё первичное значение и стали орудиями новой системы. Сложно сказать кто получал от этого большую выгоду. Историки Рима пишут, что патриции с большой осторожностью относились к такому роду инициативам, хотя, казалось бы, им же и выгодно приручить своего страшнейшего врага. Помимо этого, политическую систему сделали более гибкой. Теперь всякая магистратура должна быть обжалованной, то есть невозможно избрать человека и при этом не смести его, когда он «заиграется». Вроде бы это сделали, чтобы такой власти, которая была у децемвиров никогда больше не появилась в Риме, однако если присмотреться это носит гораздо более глубинный характер. Оба закона, которая в историографии называются «законы Валерия-Горация» находятся в очень тесном сочетании и, пожалуй, если бы и не были частью единой реформы, то всё равно логически следовали бы друг за другом. Дело в том, что при уничтожении сословного характера власти и политики, что попытались сделать реформой об обязательности законов принятых на плебейских собраниях, невозможно не сделать должности магистратов-фактических исполнителей политической жизни и её главных творцах, не обжалованными, так как тогда рушится сама логика задачи, потому что само по себе сословное общество ограничено как раз своей закостенелостью. Таковым оно было при царях, когда политическая должность не была обжалованной, потому что закреплялась за определёнными родами, когда такое закрепление завершилось, то есть, когда плебеи стали частью политической жизни, разговор об закреплении каких-то должностей отпал.
Таким образом возникает дополнительный вопрос об реальном существовании второго децемвирата. Если исходить из противного, что весьма корректно так как законы Валерия-Горация носили реакционный характер на власть децемвиров, то предыдущая власть имела прямо патрицианский окрас, то есть выступала против тех свобод, что римляне захватили при революции против царей, что весьма странно, учитывая, что членами коллегии были богатые плебеи, в то же время если предположить, что власти децемвиров не было, то и тут реформа Валерия-Горация выглядит весьма уместной. Она как бы продолжает традицию первой сецесии и закрепляет победы трибунов. Дополнительную вескость относительно реакционного характера реформы также добавляет закрепление, которое было сделано в ходе принятия. Так, всякий кто позволит себе выступить против этих постановлений по предложению Марка Дуиллия-плебейского трибуна, должен быть высечен, а потом казнён.
§11 Консулы-Трибуны-Диктаторы
Исправить ошибку децемвиров взялся трибун Гай Канулей, который провёл достаточно важный закон, который позволял бы плебеям и патрициям находится в браке. Какая-то часть патриций воспротивилась этому закону, как гласит традиция «для сохранении чистоты крови», однако едва ли только это могло послужить причиной их противления. Скорее всего здесь речь идёт об изжитых частях римской аристократии, которая так же, как и нищая часть плебейства пыталась противостоять новорождённому нобилитету. Исторический опыт указывает, что нищета, пускай даже и в более нарядной своей форме, будет выступать против нечто среднего и прогрессивного. Опять же, говорить о том, что всё патрицианское сословие выступало против этого закона несколько абсурдно, так как оно никого ни в чём не обязывало и ни чьи интересы не задевало, кроме разве что старых дедушек, которым не по душе, что молодёжь упрощает себе жизнь.
Плебейство почуяло, что теперь, спустя столько лет, его голос что-то значит. Молодые патриции уже не так старомодны, как их отцы и готовы пойти на контакт с плебейством, работать с ним сообща на благо отечеству. И вот, на одном из плебейских собраний было высказано предположение относительно дозволения плебеям участвовать в роли консула. Такой дерзкий закон был верхом наглости! Это было уже прямым нападением на власть патрициев, пускай и весьма логичный, учитывая закон Валерия-Горация. Для патрициев принятие такого предложения было не только унизительно, но и явно не выгодно. Плебеи это понимали, но и оставить так просто ситуацию не могли. Консул оставался патрицианской должностью только по закону, но никак не по духу. Известны случаи, когда, казалось бы, патриции лобировали интересы высшего плебейства и выражали надежду на примирение двух сословий. Однако патриции всё равно продолжали защищать эту должность как нечто святое. Тогда поступило предложение о создании новой главенствующей магистратуры-Военный трибун с консульской властью. По предложению эта должность, как и должность консула, должна быть коллегиальной, только если консулы правят вдвоём, то трибунов могло быть трое и среди них может быть плебей. Трибун не должен был стать заменой консулу, две должности сосуществовали вместе, пускай и не одновременно. Отцы сами должны были решить, кто будет править Римом-консулы или трибуны. Проект был принят.
Сама по себе должность вызывает много вопросов. Даже античные писатели не знали куда отнести эту магистратуру. Одни доказывали, что она являлась экстраординарной, то есть, как и диктатура избиралась только в особых случаях, другие что напротив-ординарная и избиралась в общем порядке. Споры относительно этого ведутся до сих пор. Однако если предположить, что она существовала как экстраординарная должность, то сразу возникает вопрос относительно её происхождения и функций. Как гласит традиция магистратура возникла путём предложения закона в центуриатных коммициях, также допускала плебеев-не военное сословие до военного руководства, помимо прочего избиралась более 20-ти раз, а потом и вовсе исчезла в рамках закона Лициния-Секстия, которые упразднили должность военных трибунов в пользу того, что среди консулов будет один плебей. Помимо прочего вместе с трибунами также существовала должность диктатора. На самом деле это время и правда было неспокойным. Риму всё-также стали угрожать вольски, эквы, аррунки и прочией подчиненные ему племена, к диктатуре также стали прибегать достаточно часто, для укрощения внутренних проблем, но как раздельное командование могло решить эти проблемы? Самое главное преимущество, которое даёт эта должность это гибкость в управлении войском. Благодаря трём трибунам появляется возможность разделить армейские ресурсы и использовать их в разных направлениях, что в контексте войны с многочисленными племенами весьма корректно, так как единое войско едва ли справилось бы с многочисленными набегами с разных сторон одновременно. В то же время должность военных трибунов могло быть до 8 человек. Закон никак не противодействовал этому, напротив поощрял. Если с такой точки зрения подойти к вопросу, то всё выглядит логичным, кроме одного немаловажного момента. Римское войско того времени – это гоплитская армия, которая держится за счёт фаланги, которая требует максимальной концентрации большого количества человек в одном месте. Раздел армии на такое большое количество отрядов приведёт к потере боеспособности войска. Однако такое неудобство касается только фаланги. В дальнейшем римляне перейдут на более гибкую систему разделения на манипулы, которая исправит это недоразумение, но произойдёт это только в 4-ом веке. Вполне вероятно, что должность военных трибунов – это практическая предтеча манипулярному строю, а это означает, что уже в то время существовали какие-то предтечи к новому армейскому устройству, правда тогда почему их отменили и возвратились к прежнему устройству с заменой одного из командующих на плебея?!
К тому времени изменилась и должность диктатора. Как появилась эта магистратура не понятно, известно, что под разными названиями она имела место быть у многих италийских народов, в том числе и у этруссков, другое дело не ясно, что стало причиной её возникновения. В истории Рима мы впервые её встречаем во время похода Тулла Гостлиля, когда во время войны с Альба-Лонгой в ходе похода погиб местный царь и его должность взял на себя диктатор. Возможно, что задачей диктатора в первое время была замена царя во время походов, если с ним случалось что-то плохое, будь то смерть или срочный отъезд на родину. Первоначально диктатор действительно был исключительно военной магистратурой и задачей его была наиболее скорая и срочная мобилизация всего населения, как правило для противодействия врагу. Несмотря на, казалось бы, империум диктатора по отношению к гражданам, нельзя сказать, что он был полностью независим в своих действиях. Известно, что он избирается сенатом, по предложению одного из членов сената. Единственная возможность выбора, которая есть у диктатора это избрание себе помощника-начальника конницы. Также его полномочия действуют на протяжении 6 месяцев, после чего власть снова переходит сенату. Таким образом появляется впечатление, что диктатура – это не столько независимая должность, сколько инструмент в руках правящей верхушки. В начале истории диктатор, как правило, избирается для предотвращения внешней угрозы. У римлян он появляется во время Латинской войны, затем во время наступления вольсков и так далее. В более позднее время диктатура начинает исполнять наиболее странные функции. Во время беспорядков конца 4-ого века диктатора избирают как правило для того, чтобы разрешать внутренние конфликты. В период очередного голода купец Марк Мелий решил закупить продуктов и начать бесплатно раздавать их на улице бедняка. Сенат заподозрил в этом нападки на римскую свободу и избрал диктатора-Луция Квинкция Цинцината, который поручил своему начальнику разобраться с несчастным добряком. В итоге Мелий был убит, а убийца награждён. Наиболее интересно в этой истории то, что Мелий и не знал, что против него выбрали диктатора. То есть традиция даже не описывает попыток бегства из города или каких-то беспорядков по этому поводу. Мелий просто выходит на форум, к нему подходит молодой человек и просит пройти в заседание суда, только тут купец всё понимает и пытается сбежать, в ходе чего его умерщвляют. Есть правда и другая версия, которую приводит Дионисий и, надо признать, она более похожа на правду. Сенаторы просто заказывают убийцу, который прячет за подмышкой кинжал, остаётся наедине с Мелием, а потом убегает к зданию сената, крича что он выполняет важное поручение. Впрочем, помимо случая с Мелием внутренняя борьба действительно имела места быть, правда, что наиболее интересно, не с плебейскими магистратами, которые требовали власти, а с рабами. В середине 5-ого века некий Гердоний попытался захватить власть на Капитолии. Как пишет Ливий у него даже получилось, но штурм помог взять город обратно. Помимо этого, также был заговор рабов, уже ближе к концу пятого века, которые также хотели захватить Капитолий и поджечь город. Есть все основания предполагать, что конец пятого века действительно был очень напряженным. Также не стоит забывать про политическую борьбу патрициев и плебеев, которая была не менее напряжённой. Сенаторы, как и раньше, не гнушались использовать диктатуру для решения собственных проблем, как оружие против плебейства. В ходе диктатуры власть как бы полностью концентрировалась в руках патрициев и даже славные трибуны были вынуждены покориться этой власти.
В целом диктатура также в первую очередь избиралась как экстраординарная магистратура для отвлечения внешней угрозы, однако она также приобрела и политическое значение как орудие против трибунов. Наиболее интересно исследовать, как должность диктатуры изменялась в связи с изменением войны. Ведь, если раньше войны Рима были ограничены пространством Лация и близлежащих городов Этрурии, то теперь приближается период, когда город начнёт внешнюю экспансию на более далёкие города, а то и вовсе будет вести долгие, изнурительные войны. Невозможно, чтобы это никак не отразилось на значении диктатуры. Судя по всему, она перешла в то изначальное значение, которое имела во время войны Рима и Альба-Лонги, когда диктатор – это человек, наделённый империумом, но власть его распространялась преимущественно на войну, то есть она потеряет политическое значение в прямом смысле.
Пожалуй, из всех магистратур наиболее верной себе осталось консульство. Изменения полномочий консулов были минимальны и как правило все они были связаны в рамках появления новых должностей, которые начали постепенно ограничивать консульскую власть. Если изначально консулы сочетали в себе всю власть, которая только была, то в ходе усложнения политической жизни и разделения труда от консула осталась одна судебная и военные задачи, которые постепенно у консулов подворовывали диктаторы и преторы.
§12 Нашествие галлов
Галлы пришли в Италию из Альпийских гор, которые они перешли по западной стороне. Надо отметить, что галлы – это не какое-то однородное племя или народность, которая имеет какое-то национальное единство. В первую очередь это обобщённое название целого ряда племён, каждое из которых имеет свои существенные отличия. Несмотря на общую культуру они не достигли того уровня, когда культурная общность приводит к возникновению государственности, а следовательно нации. Они часто воевали друг с другом и имели различные цели. Относительно причины их перехода исследователи до сих ведут дискуссии. Традиция гласит, что в Италию их привело вино. В Северной Европе виноградники не выращивали, это делали только в Италии и Греции. Греки и римляне описывали, что галлы очень чувственны к вину и быстро пьянеют из-за него. В настоящее время исследователи утверждают, что скорее всего причиной миграции стали постоянные военные столкновения на севере, что привело к вынужденной миграции. Надо отметить, что точно такая же причина фиксируется в 1-ом веке уже очевидцами тех событий. Когда германские племена перешли через Рейн и атаковали земли гельветов, отчего те покинули свою стоянку и двинулись на Восток. Как бы там ни было, а галльское нашествие, наверное, одно из самых важных событий всего 4-ого века. Их приход то ли стал причиной, то ли совпал с этапом пассионарности Рима, когда он перешёл из стадии эндогенного развития в экзогенное и вышел за пределы своей культурной экспансии во внешнюю. Грубо говоря, римляне перестали закреплять свои завоевания и начали новые.
Первыми кто пострадал от нашествия галлов стали этруски. Как мы уже отмечали Этрурия делилась на Северную и Южную. Галлы осели в землях лигурии и оттуда начали наступление по всей Италии. Они захватили почти все земли Северной Этрурии и даже закрепились у Адриатического моря. Племя сенонов проникло глубоко вперёд и даже сумело захватить Северную Умбрию. Очевидно, что дальнейшее наступление не могло себя долго ждать.
Плутарх пишет, что в Этрурию галлов привёл некий, Аррунт у которого был пасынок по имени Лукумон. Юноша соблазнил жену Аррунта. Возмущённый муж начал судебное дело, но проиграл его, так как у Лукумона было много друзей у власти, и несчастный Аррунт проиграл дело. Тогда он пошёл к галлам и угостив их вином указал куда им идти. Это стал город Клузий, который располагался в Центральной Этрурии. Галлы начали осаждать город. Отчаявшийся народ обратился за помощью к Риму, который недавно выиграл крупную войну с Веями и отобрал все их земли. Римляне отправили в город двух послов из рода Фабиев, чтобы они разобрались в этом сложном деле. Галлы встретили послов дружелюбно. Их вождь Бренн сказал, что не питает вражды к Риму, напротив он наслышан про доблесть их воинов и мудрость народа, поэтому рассчитывает, что когда-нибудь между римлянами и галлами будет крепкая дружба, а пока он просит им не мешать его работе. Однако судьба повернулась иначе. В ходе одного из сражений послы приняли участие на стороне Клузия. Один из Фабиев убил знатного галла и это заметил Бренн, возмущённый их нахальством он приказал галлам прекратить сражение. Вскоре орды галлов оставили осаду Клузия и направились в Рим.
Когда эта новость дошла до сената он был в некотором замешательстве. Мудрые отцы понимали, что в настоящий момент Рим не готов к новой войне, тем более если речь идёт о галлах, то римской армии предстоит бороться совершенно с новым противником, о котором не так много сведений. Но этого не знали плебеи, которые считали, что Фабии поступили правильно. Сенаторы предложили отдать галлам послов, которые нарушили священный договор и поэтому должны быть покараны оскорбившейся стороной, но не мыслящие в военном деле трибуны требовали оставить Фабиев и начать набор войск. Ликтора пытались увести Фабиев, но народ цеплялся за них и не отдавал в обиду своих геров. Делать нечего, придётся биться!
Римляне ждали галлов у реки Алезия. Резерв находился на близлежащих холмах в это время войско растянулось по всему берегу с целью не дать галлам её пройти. Однако римляне недооценили галлов. Видимо они ожидали от них какого-то нелепого построения или что-то в этом роде, но нет, галлы просто ринулись на римлян и количеством сломили строй. Тактика растяжения войск не очень помогла, но наоборот стала причиной римского поражения. Часть войск убежало в Вейи, а другая в Рим, где предупредило народ и сенат об ужасном поражении, которое Рим испытал. Испуганный народ ринулся на Капитолий-наиболее укреплённый холм Рима. Во многом римлян спасло время. Галлы даже не поняли, что они только что разгромили самую сильную армию во всей Италии. Они ожидали, что это какой-то обманный манёвр и поэтому действовали очень осторожно. Они несколько дней стояли у ворот города и не входили в него держа бессмысленную осаду, потом наиболее смелые вошли в город и застали его пустым. Плутарх передаёт красивую легенду, по которой отцы города остались в нём, так как считали, что им уже бессмысленно спасаться, но есть смысл умереть вместе с городом. Галлы застали их сидящими в трауре на форуме. Настороженные варвары подумали, что это очередная ловушка и медленно, с осторожностью подошли к старикам. Один из них дёрнул сенатора за бороду, после чего получил посохом по голову. В гневе он убил почтенного старца и так началась резня. Галлы поняли, что никакой ловушки здесь нет и можно начать разграбление города. Они уничтожали всё на своём пути, а кульминацией стал поджог. После гальского захвата город Рим перестал существовать в своём древнейшем виде. Быстро сообразив, где основная масса населения они, естественно не решились идти на штурм, а держали осаду.
Римляне долгое время не решались идти договариваться с галлами и ждали какой-то внешней помощи, в то же время запасов еды было не так много. Древние авторы приводят совершенно библейскую легенду, что Юпитер послал римлянам хлеб, который последние использовали для издевательства над галлами. Они начали скидывать его со стен Капитолия, как бы показывая, что они могут ещё долго тут жить, в то же время это было не совсем так. После этого случая галлы решили попробовать штурм. Под покровом ночи они начали забираться на стены города. Стража по какой-то причине не смогла их заметить, зато заметили гуси, посвящённые Юноне. Они подняли шум и это услышал Марк Манлий-римский легионер и патриций. Он поднялся на стену и скинул с неё двух галлов, после чего позвал на помощь. Римляне отразили натиск, после чего Марк стал настоящим героем. Ему дали кличку «Капитолийский», а каждый гражданин дал ему свой хлебный паёк, что относительно столь сложного времени было очень ценным подарком.
Относительно окончания осады есть несколько версий, каждая из которых, также ценна. По одной из них римляне просто откупились от галлов. Удачная череда событий позволила им сделать этот шаг. Далеко на севере на галльские земли было совершенно нападение и им нужно было в срочном порядке ретироваться. Римляне предложили им золото. Во время меры его на весах вождь галлов-Бренн, положил на них свой меч и сказал: Vae victis- горе побеждённым. Это фраза навсегда укрепилась в сознании римлян. Они были возмущены поступком вождя галлов, но оплатили нужную сумму. Вторая более похожа на бульварный сюжет, который мы встречаем ещё в легенде про Кориолана. До нашествия галлов в Риме был патриций- Марк Фурий Камилл, который был последователем линии патрициев, отчего подвергся изгнанию плебейскими магистратами. Проводя своё изгнание в Фиденах он прослышал про поражение при Алезии от сбежавших воинов и начал собирать разбежавшихся легионеров. Во время посольства римлян к Бренну он вошёл в город и уничтожил всех галлов. Возможно, это ещё одна наивная римская народная сказка, однако для римского национальной сознания она имеет большое значение. Именем Камилла была названа известная римская военная реформа, которой мы коснёмся чуть позже, а также ему даровали звание «второго основателя Рима». К его особе часто обращались поэты. Наверное, если сравнивать Камилла с кем-то из национальных героев, то больше всего на память приходит история Минина и Пожарского.
Примечательно, что если относительно многих исторических событий в истории Рима исследователи активно спорят, подвергая их сомнению, то взятие Рима Галлами – это неоспоримый факт, который подтверждается не только письменными, но и археологическими источниками. После сожжения галлами города римляне начали отстраивать его заново. К сожалению, разрушения были настолько основательными, что понять, где какой дом стоял было просто невозможно. Поэтому новые постройки ставились по памяти. Очевидно, что ни о какой урбанистики тогда не слышали. Последствия такого строительства Рим испытывает до сих пор.
§13 Положение Римского государства после нашествия
Наверное, одним из самых сложных вопросов, который стоит перед историком Рима является его положение после нашествия. Всем известно, что Рим находился в страшном экономическом упадке, а помимо этого буйствовали ещё и враги великого города. Если пятый век запомнился в первую очередь из-за активной внутренней борьбы патрициев и плебеев, то новый 4-ый век напротив, вошёл в историю как борьба Рима против всех.
В первую очередь оживились старые враги Рима-этруски и вольски. Война с вольсками длилась около 50-ти лет и за это время почти всегда римляне одерживали одну победу за другой. Из-за того, что помимо них с римлянами воевали и другие города не всегда получалось добить это племя окончательно. Этруски же не столько восстали против Рима, сколько провели именно атакующую акцию. Они напали на две колонии Рима в Южную Этрурию чем начали цепь конфликтов, которые привели к полному подчинению Юга Риму. На территории туссков были образованы 4 новые трибы. В основном движение против римлян возглавлял город Тарквиний, к которому постепенно присоединялись остальные города в том числе и союзники Рима-Фидены и Цере. Возможна это также было национально-значимой для туссков войной. После взятия Рима города Вейи-самого крупного в южной Этрурии и выведением там колонии остальные города почувствовали себя в опасности. Помимо римлян сверху пришли ещё и галлы, которые бесчинствовали на территории северной Этрурии. Для возможности дальнейшего независимого существования кто-то должен был взять на себя высшие полномочия по объединению и обороне страны. Этим кто-то был царь Тарквиниев. Началось всё с восстания в Фиденах, которое было жёстко подавлено. Далее Тарквиний захватил два укреплённых римских лагеря после чего началась ожесточённая борьба с перерывами. Народ Этрурии боролся за своё освобождение, но он делал это обособленно, что привело к полнейшему краху. Хотя скорее всего это была не столько национально-значимая война, сколько грабительский поход. Показателен случай, когда этруски захватили в плен 307 римских воинов и привели их в Тарквиний. Все пленники были жёстко убиты в целях принесения жертвы богам. Показательно, что римляне напротив, когда захватили этрусских пленников просто убили их из чувства мести. Если тусски совершили столь жестокое убийство с целью удовлетворение своих народных божков, то римляне из чувства национальной солидарности с погибшими. Это очень многое говорит относительно римского сознания того времени.