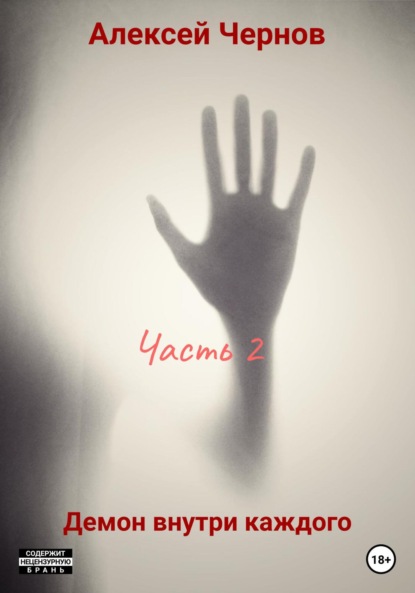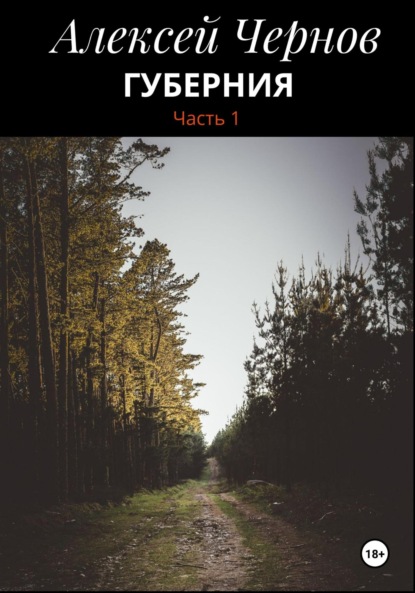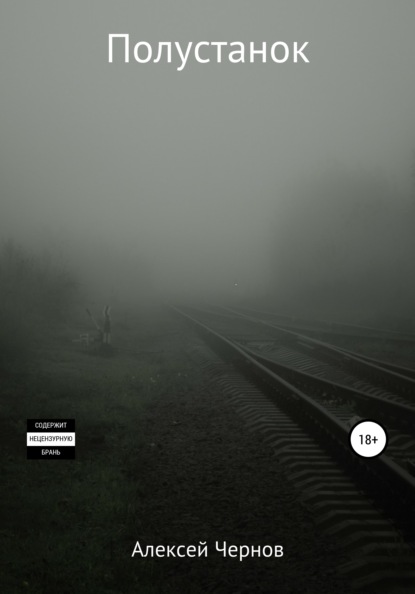 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Алексей Чернов Полустанок
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Алексей Чернов
Полустанок
ГЛАВА 1
Осень – бывает разной ( как в прочем и все в нашей жизни). Скажем к примеру где то в Сибири, в сентябре запросто может выпасть первый снег и ударить заморозок. На юге сентябрь – это продолжение лета. Лишь незначительные толпы туристов покидают морское побережье. В первую очередь мамочки с детьми и студенты. У которых во всю начинается учебный год. Хотя многие жертвуют первыми деньками сентября и продолжают валяться на еще по прежнему теплом, по летнему жарком солнце. Ну а средняя полоса России – это как говорится не угадаешь. В сентябре запросто может быть тепло, местами даже жарко. Так называемое "Бабье лето". Ну и вполне может быть совершенно обратная картина. Дожди могут зарядить настолько долго, что вся так называемая " Золотая осень" очень быстро тонет, в лужах из грязи и воды. К сожаление в последнее время все чаще происходит именно по последнему варианту…
Но люди особые существа. Способные привыкнуть практически ко всему. Даже дождливая и промозглая осень не способна смутить, некоторые толпы населения. Особенно это касается грибников…Да и в обще всех дачников в целом. Каким проливным не был бы дождь, пригородные электрички переполнены этими товарищами. Да и почему нет? Современные реалии показывают, что не каждый может себе позволить путешествие на море. Нынче " кусаются" цены на билеты, особенно в летний и бархатный сезон. И что же остается? К гадалке не ходи…Конечно же поехать на дачу. Ведь там грибы, рыбалка. А шашлыки и банька…Для поколения по старше дача особенно остается в приоритете. Иногда люди даже имея деньги на поездку к морю, предпочитают отдых на своих загородных сотках земли. У кого то – это вошло в привычку и человек не может позволить себе не простоять в грядках от рассвета до заката. Кто то едет помогать родителям и уже стареньким бабушкам и дедушкам. А кто то банально устав от суеты больших и перенаселенных городов, находит в этом отдушину. Свой маленький и личный рай, который практически всегда под рукой. Где можно забыться, махануть после баньки стопочку другую и не думать о проблемах насущных. Погулять, подышать свежим воздухом…В общем разные причины ведут нас на дачи.
Этот сентябрь был именно таким. Дожди поливали уже вторую неделю практически без остановки. Земля насквозь пропиталась водой. Дороги что не из асфальта, а так называемые проселочные – превратились в одни большие лужи. Но довольно теплая, несмотря на дождь погода, не отпугивала толпы грибников, переполнявших все пригородные электрички. Поезд прибывал на безлюдные полустанки и превращал их на несколько минут в оживленные города. Но буквально через короткое время тишина снова возвышалась над безлюдными остановками. Электричка уходила и ее звук набирающей скорости, быстро развеивался по местным лесам и болотам. По ним же и расползались люди, в поисках грибов и ягод. Но некоторые особи рода людского ( к сожалению) предпочитали тихой охоте – настоящую....И не на живность местных лесов и полей, а именно на людей…
В прошлом на безлюдной и когда то на аккуратной лесной тропинке, толпились люди. Все они были сотрудниками областного управления полиции. Скромный штат, в прочем как и в любом другом управлении, которое находится на "задворках" родины. Всех их можно было пересчитать по пальцем, отсутствовал лишь глава подразделения. Но и он появился вскоре. Он выпрыгнул из служебного УАЗика и уверенно бодрой походкой подошел к толпящимся. Быстрыми, но короткими шагами( начальник был маленького роста), полковник Захаров настиг спины местного опера:
– Ну что у вас? – Полковник потеснил присутствующих и сделал шаг вперед
Мужичок в черной ветровке с капюшоном выкинул бычок и в сторону выдохнул содержимое легких( Полковник Захаров несколько лет назад бросил курить и терпеть не мог запах табачного дыма)
– Труп женщины – как то обреченно выдал оперативник – На вид лет шестьдесят. Никаких документов при ней не обнаружено.
Полковник склонился над лежащем на сырой земле телом:
–Что совсем никаких?
– Совсем!
– Ну как то же она сюда приехала.... – Захаров обратил взгляд, на рядом лежащую плетеную корзинку – она была пуста.
Опер Степа Кузьменко присел на корточки рядом с начальником:
– А может местная?
Полковник взял корзину и начал рассматривать:
– Да навряд ли…
– Это почему? – Поинтересовался оперативник
Захаров сунул пустую корзину в руки Кузьменко:
– Что делать местной здесь? – Полковник развел рукой, как бы показывая местность – Леса и болота находятся в стороне от железной дороги. Если предположить что из леса она вышла сюда – Иван Лукич на секунду задумался – То уж явно с пустой корзиной не была бы. Тут и ленивый грибов наберет.
Полковник расправился в весь свой довольно маленький рост и отряхнул штанину. За ним поднялся Степа Кузьменко, оставив корзину на земле.
– Так что выходит… – опер посмотрел на начальника – ее убили сразу после выхода с электрички?
Полковник посмотрел в сторону железной дороги. Тропинка явно была в стороне.
– Выходит что так. Может она свернула сюда по нужде например…А он здесь ее и … – Захаров махнул рукой. – Я так понимаю изнасилования не было?
– Судя по всему нет. Навряд ли убийца после совершенного бы одел ее обратно. – Кузьменко указал полковнику на нетронутую одежду убитой.
Полковник снова склонился над жертвой. Он дотронулся на кровавого подтека на куртке и пальцем раздвинул порезанную ткань. Оттуда хлынула кровь. Полковник тряхнул рукой и снова выпрямился.
– Похоже точный удар в печень – пояснил Степа
– Похоже, кажется – Захаров нервно замотал головой – А где эксперт?
– Сейчас будет – спокойно сказал Кузьменко
– А следователь, ссыльный? Его сюда надо подключать.
Оперативник обернулся на звук подъезжающей машины:
– А вот похоже и они…Товарищ полковник…
Белая " Нива" остановилась не далеко от поворота на тропинку. Открылись двери и из нее вышли двое. Это были местный начальник следствия месяц как занимавший свою должность и криминалист местного разлива Герман Зонберг. Имевший в округе кличку " Зомби". Может из за фамилии, а может из за внешнего вида. Дело в том что Зонберг был необъятно большого размера. И передвигался присуще людям с лишним весом(большим лишним весом) с боку на бок и довольно медленно. Так или иначе кличка плотно осела в местном обиходе. За спиной Зонберга медленно, держа руки в карманах стильного короткого пальто, шагал остроносый с уложенными назад волосами Корнилов Михаил Леонидович. Товарищ майор следственного комитета из Санкт Петербурга, был сослан в район, как уже говорилось выше около месяца назад. На все пытки местных сотрудников Корнилов отмахивался, ссылаясь на тяжелый характер. Работа в районе была не пыльная и следователя, а вернее начальника следственного отдела практически никогда не дергали по мелочам. Если было нужно люди сами приходили к нему с заявлением. Скажем к примеру, на пьющего соседа. Или на пацанов сорванцов, которые украли с веревки стираное постельное белье – особенности провинциальной работы. Самому Корнилову – это все было серпом по одному месту и когда позвонили и сообщили о женском трупе недалеко от железнодорожной станции, он тут же прихватив эксперта выехал на место преступления.
Никаких предисловий не было. Короткое и сухое приветствие и вновь прибывшие на место преступления, стали разглядывать бездыханное тело. Корнилов обошел эксперта Зонберга, и склонился над жертвой со стороны головы. Он позаимствовал у Германа Матвеевича одноразовую перчатку и дотронулся до шеи убитой. Захаров и Кузьменко переглянулись. Затем Корнилов откинул волосы жертвы и взялся за скулу. Он внимательно всматривался.
– Подожди, сейчас перевернем – решив облегчить процесс, предложил Зонберг
Корнилов несколько раз покрутил скулу тщательно всматриваясь:
– И так понятно…
Кузьменко не выдержал:
– А что понятно то? – В его голосе чувствовалось недоверие к Питерскому следователю, да к тому же так хорошо одетому. Учитывая место нахождения трупа. Вся группа за исключением начальника полиции, была одета кто во что горазд.
– Напали сзади – спокойно пояснил Корнилов не отрываясь от трупа – зажали рот рукой и ножом нанесли, судя по всему один но точный удар в печень. Затем жертва стала обмякать в руках убийцы. И получается держал он ее лишь приложенной к лицо ладонью.
Кузьменко и Захаров снова переглянулись:
– Ловко – иронично подметил оперативник – А с чего вы это....
Степа не успел договорить. Михаил Корнилов выпрямился и указательным пальцем ткнул в сторону головы жертвы:
– На лице в районе рта – следователь приложил свою пятерню к лицу – гематома от ладони. След четкий, даже пальцы отпечатались.
Эксперт Зонберг приподнял свое тучное тело и дабы проверить выводы следователя перевернул труп на спину. Тут же появилась фотовспышка и на лице несчастной все увидели синеватый след в области рта.
– Документов при ней не было? – Корнилов обратился к Кузьменко
Опер замотал головой
– Герман Матвеевич – на этот раз следователь обратился в адрес эксперта – сделайте фотографии…Участковый же здесь вроде имеется. Надо будет показать ему снимки....Может он узнает кого из местных....Но это навряд ли.
Кузьменко в недоумении хлопал глазами то и дело поглядывая на начальника:
– Откуда такая уверенность?
Корнилов как будто не слышав вопроса, отдалился от группы и стал лазить среди невысоких молоденьких елок. Он медленно раздвигал колючие ветки и вглядывался непонятно куда. Степа не понимая что происходит решил повторить свой вопрос. Ну а как же, его игнорит какой то Питерский следак:
– Ты не слышишь что ли? – Кузьменко подошел к маленьким елкам. В которых как подросток курящий в кустах затаился Корнилов.
– Это хорошо что ты решил перейти на ты, давно пора – следователь вылез из елок – Там в кустах следы от резиновых сапог! – Михаил крикнул громко, что бы услышал Зонберг. – Не забудьте так же снимки сделать.
Кузьменко заглянул в ельник и действительно обнаружил отчетливые следы. Его непонимание накапливалось, но "быковать" опер не стал. Слишком странный этот следак.
Корнилов молча направился к своей " Ниве". Его окликнул полковник Захаров, наблюдавший за происходящим:
– Михаил Леонидович, вы что же уезжаете?
Следователь обернулся:
– Здесь ничего интересного уже не будет. Я вечером к вам заеду – Герман Матвеевич – Михаил прикрикнул Зонбергу. Тот в свою очередь поднял руку вверх, ознаменовав тем самым, что они договорились.
– Подождите пожалуйста – полковник направился к следователю
Иван Лукич настиг Корнилова прямо у машины и почти шопотом, что бы никто не слышал сказал:
– Миша, давай не будем афишировать, то что в прошлом ты был моим зятем? Не к чему эти пересуды…
Следователь сложил руки на груди:
– А в чем дело товарищ полковник? Вы меня стесняетесь?
Полковник поморщился, но Корнилов не стал дожидаться ответа, он все прекрасно понимал:
– В прочем как скажите – он открыл дверь у машины – но считать меня виноватым в том, что тогда случилось....В прочем бог вам судья.
Иван Лукич молча смотрел как белая " Нива" оставляя за собой след выхлопного газа, покидала место тяжелейшего преступления.
ГЛАВА 2
Корнилов остановил машину на обочине грунтовой дороги. Достал телефон, нашел заветный номер и несколько секунд подумав нажал на соединение. Несколько гудков и Михаил услышал знакомый женский голос.
– А я уж думала ты и на меня обиду затаил?
Корнилов улыбнулся и посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Этот голос в любое время дня и ночи вселял в Корнилова надежду. На что? Да просто на что то лучшее и светлое. На то что не все еще потеряно. И не стоит расстраиваться и все можно изменить. Таким своего рода "добрым ангелом" была для Корнилова его коллега по следствию в Питере, Вера Лихницкая. Они довольно долго работали в одном отделе и отношения между ними были – какие то более родственные, нежели дружеские. Вера была чуть младше Корнилова и выглядела очень даже симпатично. Правда в начале на это никто из мужиков внимания не обращал. Строгая форма нагло скрывала природную красоту девушки следователя. Так было до поры, пока несколько следователей не решили после одного весьма громкого дела отметить это в ресторане. Мужчины пришли во время и разглядывали меню. На то что Лихницкая опаздывает никто даже внимания не обратил. Ну девочки они такие. Но когда к столику подошла обворожительная брюнетка в коротком черном платье, в ней никто сразу веру не признал. Потом Корнилов да и чего греха таить все мужики ресторана пытались надолго не задерживать взгляд на пышной и дико сексуальной груди Лихницкой, как будто нагло подмигивающей из декольте. Это был нокаут чистой воды. Она как будто специально пыталась показать себя такой…Другой....Из скромной следачки превратившись в роковую красотку. Дескать ребята – вы меня недооцениваете. И строгая форма следователя лишь камуфляж прикрывающий красивое женское тело.
С первых дней знакомства Корнилов понял, что Лихницкая ему симпатизирует. Но несмотря ни на что вел себя довольно прохладно по отношению к ней. Двойственные чувства кипели в его груди. С одной стороны она была красива и желанна. С другой все с тех же первых дней Михаил стал замечать что при общении с Верой он становится каким то…Умиротворенным что ли. Она была как родной человек, к которому можно прийти за советом. И даже какие то банальные фразы типа " не принимай близко к сердцу" или " Не думай об этом – все будет хорошо", звучали из ее уст так многообещающе, что даже мысленно понимая, что " все хорошо все равно не будет" – становилось как то легче. Ну и конечно одна из железобетонных причин....Корнилов на тот момент был женат, а у Лихницкой был молодой человек, как выяснилось потом, женатый. Таким кувырком дружба между Михаилом и Верой с каждым годом перерастала во что то большее, но не в сексуальном плане, а именно в каком то родственном. Потом спустя годы, когда супруга Корнилова пропадет без вести, а Лихницкая оборвет все отношения со своим ухажером, оба поймут – никого ближе, с кем можно не просто поговорить, а выговориться в принципе и нет. Кто из умных людей сказал " Близкий человек – это человек при котором можно мыслить в слух". Ну как тут поспоришь.
Корнилов смотрел на свое отражение в зеркале заднего вида и представлял лицо Веры, улыбающееся и безумно родное:
– Ты здесь ни причем....Просто…
– …Тебе нужно было собраться с мыслями – закончила фразу Лихницкая
Миша скромно улыбнулся, даже находясь далеко и не видев друг друга почти месяц, она чувствовала его.
– Вроде того
– Как ты?
Корнилов вздохнул, получилось как то по театральному. Он сам это понял и что бы не показаться нытиком коротко ответил:
– Все нормально. Как ты?
Лихницкая ухмыльнулась:
– В целом – нормально. А в принципе – кошмар.
Михаил прекрасно понимал, что сейчас Вера не будет откровенничать. По манере поведения было ясно – она на работе и сейчас не самое лучшее время для исповеди. Но значит самое лучшее время для…
– Но ты что хотел, ведь так? – Лихницкая опередила его.
Улыбнувшись и поняв что Веру не проведешь, Корнилов продолжил:
– Нужна твоя помощь.
Голос Веры стал строгим и решительным:
– Я слушаю.
– В нашей глухомани – начал Корнилов – сегодня обнаружили труп женщины лет шестидесяти.
– Поздравляю – съязвила Лихницкая
– Спасибо, причиной смерти судя по всему стал точный удар в печень. Документов и личных вещей при жертве не было. Дело в том, что труп нашли недалеко железнодорожной станции. Я конечно заряжу участковых, но мне кажется она из города приехала.
Может в этом и есть родство душ – понимать друг друга с полу слова и не задавать лишних вопросов. Лихницкая сразу все поняла:
– Ты хочешь что бы я подняла заявление о пропаже женщин этого возрастного диапазона?
– Да – без лишних слов ответил Миша
– Хорошо сделаю....Но ты сам должен понимать, если труп свежий, то заявление еще могло не поступить. Сначала родственники обзвонят друзей и знакомых. Лишь потом пойдут в полицию. Фотография есть?
– Скоро заберу у эксперта и сразу пришлю.
Лихницкая спокойно и без эмоций ответила:
– Хорошо.
Корнилов приложил трубку ко рту:
– Люблю тебя!
Вера убирая телефон в карман, нежно улыбнулась.
Корнилов подошел к старой обитой черным дерматином двери. На ней красовалась табличка " Участковый уполномоченный Васильков ". Поступив нагло, не стуча, Михаил открыл дверь. Молодой светловолосый парень в форме лейтенанта полиции, сидел за столом у окна и пил из граненого стакана чай. Увидев Корнилова паренек вскочил.
– Сиди, сиди – скомандовал Михаил и указал рукой что бы парень присел обратно на стул.
Начальник следствия прошел к столу и сел напротив участкового. Было видно что Васильков оторвался от обеда. На газете рядом с чаем лежал покусанный бутерброд.
– Перекусить решил? Понимаю, дело хорошее. Ну ты не отвлекайся продолжай.
Лейтенант хлопал глазами:
– Товарищ майор…Что то случилось?
Корнилов кивнул на бутерброд:
–Ты ешь, ешь – он достал несколько фотографий
– Да как то неловко…может чайку?
– Нет спасибо.
Участковый скромно, постоянно смотря на Корнилова все таки взял бутерброд и аккуратно откусил. Увидев это, Михаил улыбнулся:
– Приятного аппетита!
– Спасибо – кивнул Васильков
Корнилов разложил перед лейтенантом фотографии, как карты в пасьянсе и спросил:
– Узнаешь данную гражданку?
Васильков прихлебнул из стакана и внимательно уставился на снимки. Его лицо заметно поменялось и он подавился. Лейтенант начал сильно кашлять, то и дело выплевывая на стол крошки от непереваренного бутерброда.
– Что это? Товарищ майор!
Корнилов удивленно забрал фотографии и взглянул на них:
– Это женский труп, а что тебя так удивляет?
На секунду Васильков перестал кашлять. Он смотрел на следователя и думал " он серьезно или издевается?"
– Так ты узнаешь гражданку? – Корнилов снова сунул снимки лейтенанту.
Полностью прокашлявшись Васильков снова уставился на фото:
– Откуда это у вас?
Михаил ухмыльнулся:
– Это скорее у вас, гражданин Васильков. На полустанке близи леса нашли данный труп, а вы не сном не духом.
Участковый почувствовал себя неловко. Он стряхнул крошки которые вылетели в порыве его нелепого кашля и уселся за стол. Отставив чай и горе бутерброд, он пристально стал всматриваться в фото:
– Господи, это же…
– …Кто ее так? – Перебил его Корнилов – на этот вопрос мы должны ответить. Мы – это органы внутренних дел – он ткнул пальцем в Василькова – и мы – это органы следствия. Ну так что? Не узнал? Местная или нет?
Участковый скривил лицо:
– Так сразу и не скажешь. Надо обход делать по району....может кто и знает.
Корнилов выдохнул:
– Правильно мыслишь....Я надеюсь задание повторять не нужно.
Корнилов почти вышел из кабинета, но резко остановился и обернулся к лейтенанту:
– А напомни как тебя зовут?
– Коля – взволнованно ответил лейтенант
– Значит Николай?
– Так точно!
– Так вот Николай, поменяй свою табличку на двери. То непонятно как к тебе обращаться. Ни звания ни имени. Не хорошо – Корнилов покрутил головой.
Ничего не понимающий Васильков лишь крикнул:
– Есть, поменять табличку!
Когда следователь покинул кабинет, участковый посмотрел на покусанный бутерброд, но есть не стал. Аппетит каким то "странным образом" пропал.
Герман Матвеевич Зонберг был человеком очень спокойным. Местным операм и следователям не приходилось ни разу видеть эксперта в плохом или раздраженном расположении духа. В свои пятьдесят с хвостиком Герман Матвеевич весил около ста тридцати килограмм и по мнению все тех же окружающих никогда по этому поводу не парился. Да, огромный вес мешал ему на карачках ползать возле трупов, но и признаться трупов в этой местности было по пальцам сосчитать. Нет, конечно как говорится всякое бывало, автомобильные катастрофы, пьяная поножовщина – это неотъемлемая часть любого района, нашей огромной и необъятной Родины. Но здесь как то все проходило более и менее тихо. И вот когда был обнаружен труп возле железнодорожной станции, эксперт Зонберг решил применить все свои знания.
Герман Матвеевич стоял у окна и романтично смотрел в даль, при этом покусывая пирожок, который ему с самого утра не удалось съесть. И все из за этого следователя, который как фурия обработал Зонберга и потащил с собой. Говорили что он сослан из Питера. Но что, как и почему – никто толком не знал. Но одно было понятно....Характер у парня, мягко скажем не простой.
Зонберг даже не повернулся когда хлопнула дверь. Он спрятал остатки пирожка за своими большими щеками и взяв с подоконника чашку, смачно из нее прихлебнул. Чутье подсказывало ему одно – это снова он.
Корнилов стоял в дверях и смотрел на обильную фигуру эксперта, которая даже не шелохнулась, когда открылась дверь. Следователь ухмыльнулся:
– Это снова я!
Ответа не последовало. Эксперт стоял как вкопанный. Лишь щеки, которые было видно из за спины слегка шевелились. Корнилов подошел ближе:
– Герман Матвеевич?
Опять тишина. Михаил подошел и встал рядом с Зонбергом. Он уловил его взгляд. Тот мечтательно устремился куда то за пределы этого помещения. Наконец Герман Матвеевич сделал глубокий вдох и как будто опомнился:
– Осень.... – задумчиво сказал он, не отводя взгляда от окна
Корнилов посмотрел на эксперта, потом в окно:
– Очей очарование?
Зонберг оторвал свой взгляд от окна и небрежно посмотрел на Корнилова. Видимо подумал" будешь ты мне еще тут Пушкина читать".
Михаил округлил глаза:
– Унылая пора…
Зонберг не выдержал и перебил следователя:
– Вы за результатами по сегодняшнему трупу? – Не дожидаясь ответа Герман Матвеевич отошел в сторону.
Корнилов кивнул головой.
– Ну что я могу сказать…Убийство было совершено часа за два, до того как тело нашли. Один единственный, но определенно точный удар в печень сзади. Убийца схватил жертву за рот. Прижал к себе и нанес удар. По поводу удара – Зонберг подошел ближе к следователю и поставил чашку на подоконник – у ножа, которым был нанесен удар было весьма длинное и довольно узкое лезвие. Его длинна не менее двадцати сантиметров.
Корнилов задумался и спросил:
–Ну двадцать сантиметров – это в принципе не так и много.
– Это не так и много если ширина клинка соответствует, а здесь довольно узкое лезвие.
Михаил внимательно посмотрел на эксперта. В его глазах следователь увидел нечто хитрое, как будто эксперт что то не договаривает:
– Вы что то хотите еще добавить? Я вижу вас что то смущает…
Зонберг улыбнулся:
– Дело в том, что мне кажется орудием убийства мог послужить штык нож. Причем советского образца.
Корнилов нахмурился:
– Поясните!
Зонберг подошел почти в плотную:
– Понимаете, в принципе могло бы показаться, что это мог бы быть обычный кухонный нож. Бывают ножи и с более длинным лезвием. Но судя по внутренним ранам, которые были нанесены, нож был из довольно твердой стали. Все повреждения были нанесены ровно так, как вошло лезвие. Ни на миллиметр в сторону. Кухонный нож без сомнений могу вас заверить, ушел бы в сторону. Но и еще один момент – Зонберг стал говорить почти шепотом – у меня есть такой штык нож. Поэтому я сразу об этом и подумал.
Корнилов внимательно смотрел на пухлого эксперта:
– Значит штык нож? А больше ничего? Следов под ногтями или может что удалось обнаружить на одежде.
– Под ногтями ничего интересного. Могу сказать с увернностью эта женщина не успела пособирать грибы или ягоды. Следы пускай и скрытые я бы обнаружил. А вот на спине ее куртки, я нашел кое какие частицы, другого материала. Но об этом чуть позже. Нужно время.
Корнилов закивал головой. Похоже Герман Матвеевич знает свою работу довольно хорошо. И зря Михаил предполагал, что придется просить Питерских экспертов по старой дружбе, провести тайком экспертизу.
Корнилов протянул руку эксперту:
– Спасибо, вы не могли бы сразу мне позвонить как , что будет известно по этому неизвестному материалу?
Зонберг пожал руку и вежливо добавил:
– Непременно.
ГЛАВА 3
Полковник Захаров нервно поглядывал на часы. В его кабинете на втором этаже, уже сидели Кузьменко и молодой участковый Васильков. Последний чувствовал себя не ловко, потому как не понимал смысла своего присутствия на данном мероприятии. А о том что лейтенанту Василькову необходимо было там присутствовать, следователь Корнилов дал понять грубым тоном. Однако самого Михаила Леонидовича на совещании не было.