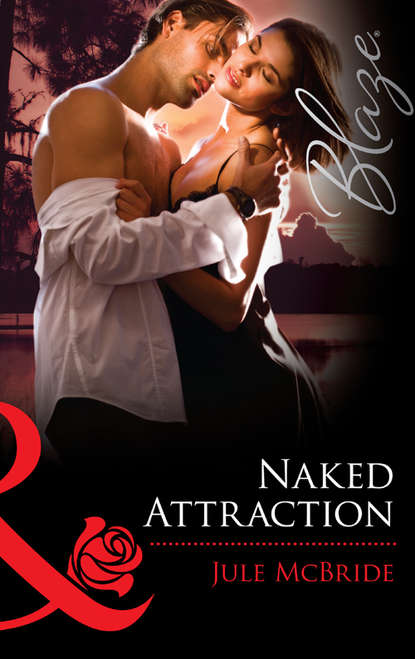Быть!
«Вы назвали меня гениальным актером. Но почему же тогда мне все так трудно?!» (Иннокентий Смоктуновский) Каких только суждений ни удостаивался Иннокентий Смоктуновский! Ярлыки закрепляли сыгранные им «странные персонажи» – князь Мышкин, Гамлет, Иудушка Головлев, Деточкин, чеховский Иванов… Он как бы срастался с ними. Сам, теперь уже без сомнения великий артист, говорил об этом так: «Бывают такие времена в работе и самочувствии актеров, когда знание огромных текстов наизусть – ничто по сравнению с правом на произнесение этого текста. Вот груз. Вот гранит, алмаз, глыба…» Светлой полосой своей жизни он считал время, освещенное героями Достоевского. С детства много раз перечитывая «Преступление и наказание», Смоктуновский начал сниматься в фильме по знаменитому роману, зная его чуть ли не наизусть и признаваясь: «Я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским человечества». В этой книге, написанной самим артистом, все оставлено так, как было задумано автором. В ней он предельно искренен, как и в своих ролях.