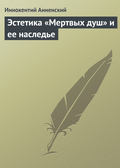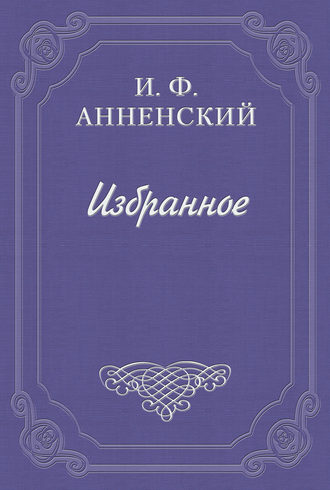
Иннокентий Анненский
Стихотворения Я. П. Полонского как педагогический материал
Затем, не следует думать, чтобы впечатление от художественного создания могло когда-нибудь сравниться с впечатлением от реальности. Во всяком случае, впечатление от поэтического олицетворения будет похоже на ощущение, которое производит декорация, картина, не более.
У Полонского есть прекрасные олицетворения: ночи (в стихотворении «Холодеющая ночь», о котором мы уже говорили), зимы («Зимняя невеста» – см. выше). Но еще лучше представляются мне олицетворения конкретных предметов: скалы, волны, деревьев.
Хмурые тучи, блуждая по небу в знойный вечер, спорят, и их спор разрешается ударом молнии. Скала отвечает на этот удар, сопровождаемый раскатом грома, протяжным жалобным стоном; и, повинуясь чувству жалости, они смиряются и ложатся у ее ног.
Вспомним также «Влюбленный месяц» прекрасное олицетворение волны в одном из лучших лирических произведений нашего поэта «На закат».
Поразительно художественно изображена Галлюцинация поэта в пьесе «Тишь и Мрак»:
Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.
И месяц холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков,
Стоит над долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.
Дальше картина выдерживается в том же тоне: месяц катится, как будто на нем везут тяжелый гроб; темные тучи висят печальным балдахином, а красные звезды горят, точно свечи повитые крепом; от них распространяется какой то фосфорический дымок, который, расплываясь в черной дали, одевает «Мертвый череп земли».
У греков страх, жалость, война, сон, смерть – все получало в верованиях поэзии человеческие формы. В современной поэзии можно усмотреть подобные же олицетворения: вспомним Красную Смерть Эдгара По, Судьбу в виде старухи у Гейне. У Полонского есть замечательное олицетворение Нищеты, Смерти и гораздо менее удачное – Голода. В последней, XVI главе поэмы «Куклы» являются две мрачные фигуры – Нищета и Смерть.
Нищета – жалкая старуха, которая обращается потом в грязный комочек и катится по дороге. Смерть обрисована страшными, но характерными красками.
У ямы, мелькая
Желтизной, тень как призрак, стояла —
Смерти страшная тень, – то сквозила,
То сквозной свой скелет прикрывала.
На челе ее венчик, как обруч,
Красовался, и кость шевелилась.
Едва ли в школе было бы удобно разбирать эту главу «Кукол». Но нельзя налагать безусловного veto на бьющие по нервам сцены. Я думаю, например, что юношам (не детям, конечно) полезно для характеристики средневекового миросозерцания читать баллады вроде биргеровских: они вводят в самый центр, в душу возникающего романтизма, и Шиллер, который, может быть, лучше объяснит, осветит средние века своим «Кубком» или «Перчаткой», никогда не даст до такой степени их почувствовать, как Биргер, Уланд, Саути. Надо только заботиться, чтобы это страшное читалось не для бессмысленного щекотания нервов, а сознательно, как характерное изображение известной ступени народного миросозерцания. Но пойдем далее.
Из сравнения может выясниться сходство, или, наоборот, различие. Различие, противоположность могут не менее сильно влиять на фантазию читателя, чем сходство. На контрастах основываются у поэтов часто сильнейшие эффекты. У нашего величайшего поэтического наставника, Пушкина, на системе контрастов построены порой чудные картины.
Внимательно прочитав, например, описание Полтавского боя, мы найдем, что это волнообразная линия из контрастов, из вечных противопоставлений покоя и движения, света и тьмы, мерности и стремительного натиска, торжества и уныния, победы и смерти. Контраст в поэзии может иметь множество различных оттенков и он может быть конкретный в отвлеченный, частный и полный; может давать в результате идею гармонии (как, напр., в «Торжестве победителей» Шиллера) и разлада (как часто у Лермонтова).
Вот образцы контрастов у нашего поэта в изображении сфинкса:
Когтисто-злой, как лев,
Как дева – трепетный и лживо-сладко-гласный.
Замечательное стихотворение «Корабль пошел на встречу темной ночи…» все построено на контрасте впечатлений поэта, когда он смотрит на небо и потом на волны: сначала ему кажется, что Плеяды зажигают ему вечные лампады и обещают покой бессмертия. А внизу, в пучине Наяды роют ему могилу на глубоком и темном дне и тоже обещают «забвения покой». Контраст увеличивается от этой одинаковой нотки в обещаниях наяд и плеяд.
Контраст может быть выражен и очень коротко:
Ледяное сердце будет
К сердцу пламенному льнуть.
Меж темных волн
И золотой предрассветною звездой.
Как живописец комбинирует в своих картинах краски, так и поэт образует из них словами красивые сочетания. Припомним пушкинское:
Грудь белая под желтым жемчугом