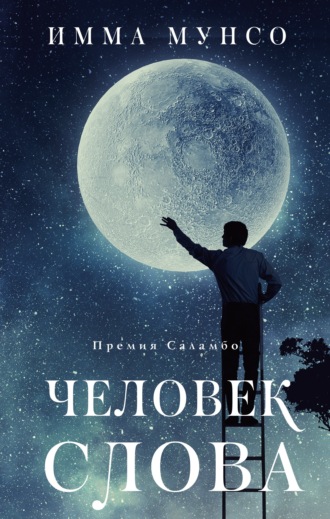
Имма Мунсо
Человек слова
IMMA MONSÓ
UN HOME DE PARAULA
Серия «Время женщин»
Перевод с каталанского Марины Абрамовой, Марины Кетлеровой и Ольги Мургиной
Оформление обложки Екатерины Елькиной
© Imma Monsó, 2006
© Абрамова М… перевод 2022
© Кетлерова М., перевод 2022
© Мургина О., перевод 2022
© Абрамова М., вступительная статья, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
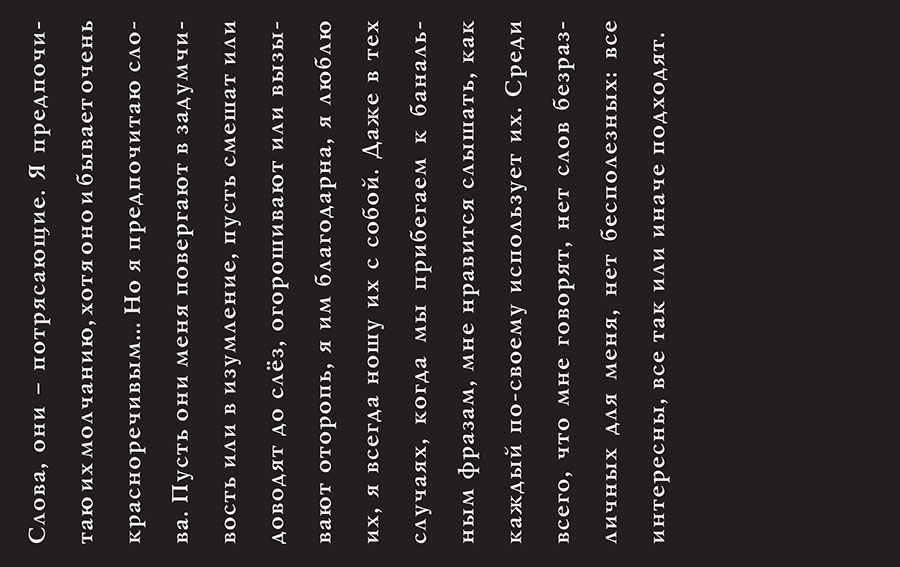
Слово переводчика
Имма Мунсо – известная каталонская писательница старшего поколения (род. в 1959 г.). Она пишет на каталанском языке, является автором семи романов и нескольких сборников новелл. За свои произведения награждена 11 литературными премиями, из которых четыре были присуждены вышедшему в 2006 г. роману «Человек слова» («Un home de paraula»). Бо́льшая часть её произведений переведена на испанский язык и тепло встречена публикой, некоторые из них переведены на французский, итальянский, немецкий, венгерский и нидерландский языки.
Роман «Человек слова» многие критики называют романом-исповедью, поскольку в нём от первого лица с предельной искренностью рассказывается о любви главной героини и её мужа, который в довольно молодом возрасте умирает от рака, и о её попытках пережить трагедию вместе с их приёмной дочерью. Эта история имеет автобиографические черты. Тема смерти близкого и неординарного человека, который оказал сильное влияние на жизнь героини, вообще характерна для творчества Иммы Мунсо.
Однако роман «Человек слова» не укладывается в рамки традиционного реализма, как можно было бы подумать, ориентируясь на трагическую ситуацию, подтолкнувшую автора к его созданию. Тема слова, обозначенная уже в заглавии, становится ключевой. Само слово «слово» необычайно многозначно в романе и выполняет большое количество функций. Так, помимо его психотерапевтической роли (что более чем понятно и оправданно в такого рода произведении), оно является материалом для конструирования разнообразных реальностей, в том числе – художественной. Это неудивительно, поскольку «Человек слова» – роман постмодернистский. При всём своём пристрастии к исповедальности и «дневниковости», Имма Мунсо никогда не забывает о читателе. Так, в самом начале она предупреждает, что делит главы на А – «счастливые» – про жизнь с ним, и Б – «тяжёлые» – про жизнь без него. Автор предлагает нам свою «игру в классики»: читать так, как захотим, можно подряд, можно только главы А или только главы Б – в зависимости от наших художественных вкусов и от того, любим ли мы произведения только с хорошим концом или только с плохим. Также и повествовательная техника в них будет различаться (что, правда, нам предлагается заметить уже самим): главы А, отнесённые к прошлому («когда он был ещё жив»), написаны от третьего лица, в них героиня (и автор) видит и показывает себя со стороны, тогда как в главах Б повествование ведётся от первого лица. Разумеется, последние будут носить более интроспективный характер. Объединяются первое и третье лицо повествователей только в заключительной главе («А, Б и остальные буквы алфавита»), которая, таким образом, предназначена для прочтения всем. Подобная игра с читателем и распределение по главам имеет и ещё одну функцию: при фрагментации временного и событийного ряда и нелинейном повествовании (одним из главных особенностей постмодернистской литературы) именно это помогает нам более осмысленно подключиться к соучастию в конструировании романной реальности.
Игровое начало реализуется и на иных уровнях. Один из ключевых эпизодов (который действительно даёт ключ к ещё одной возможности прочтения романа) содержится прямо во вводной главе: уже после смерти мужа героиня, пытаясь отвлечься от своего отчаяния, щёлкает пультом телевизора и случайно натыкается на фильм Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира». И как раз на тот эпизод, когда главный герой сходит с экрана в зал и заговаривает с девушкой, которая уже в пятый раз за день смотрит это кино. Таким образом задаётся глубинный модус прочтения произведения как сложной комбинации действительности и виртуальности, взаимодействия сознания и окружающего мира, слова и явления/предмета и т. д. У самой Иммы Мунсо материалом для этого служит не визуальное искусство (кинематограф), а опять-таки слово. Интересно, что во всё том же вступлении она рассказывает о привычке её семейства давать друг другу день ото дня новые имена. Вот почему это происходит: «…в неприязни к именам мы с Кометой (так она называет в романе своего мужа) совпадали. У меня вызывало сопротивление то, что моё имя раз и навсегда зафиксирует и отсортирует мою индивидуальность. Он, в свою очередь, тоже, казалось, избегал называть меня по имени, тем более – по паспорту; я не помню, чтобы Он хоть раз использовал одно и то же имя, когда звонил или оставлял записку. Как бы там ни было, мы никогда не пользовались именами настолько долго, чтобы они начинали, как им и предписано, вешать на нас ярлыки. Имена менялись, жили всего одно мгновение, иногда несколько дней, иногда возвращались, но уже в другом виде, со сколами и трещинами. Между собой мы разговаривали на странных языках, употребляли чудные имена. Но это никогда не было проблемой для нас, и только когда нужно было их закрепить, возникали сложности». Таким образом, уже в «реальной» жизни главные герои, постоянно меняя свои имена, выдумывая новый язык, наделяют её новой субстанциональностью. Человек слова в романе – не только героиня, но и её муж, в частности потому что и он пишет при жизни свою бесконечную книгу, близкую к завершению перед самой его смертью. Сочинение её соразмерно самой жизни. И неслучайно, что её жанр – тоже дневник-размышления. Правда, это книга тайная, и её герой – человек слова преимущестенно устного, по определению, эфемерного. В отличие от главной героини, писательницы, которая, наоборот, стремится сиюминутное зафиксировать, перенести прошлое в будущее. Характерно, что она часто выхватывает в сознании какую-то картинку из их жизни, словно кадр на фотографии, и затем описывает её. Героиня не перестаёт удивляться тому, что муж её не просто оказался живым воплощением её мечты, но и превзошёл все ожидания, переродив её во многом. С другой стороны, после его смерти окружающий мир теряет свою жизнь, свою реальность: так, когда Лот (так героиня именует в романе себя) приезжает впервые уже без него в их летний дом в горах, ей кажется, что деревня – не настоящая, а бутафорская, хотя дома и улицы внешне совершенно не изменились… Таким образом, грань между реальным и воображаемым размыта, они постоянно меняются местами, их соотношение сложно и неоднозначно.
Продолжая тему слова, можно сказать, что Имма Мунсо на протяжении всего романа исследует и демонстрирует, каким образом слова могут оказаться столь же реальными, как сама реальность. Каким образом они начинают жить своей жизнью и, наряду с окружающими предметами и событиями, побуждать героиню к интроспекции, к исследованию состояний своей психики и своего сознания (как, например, в главах «Что мы имеем в виду, когда говорим, что хотим покончить с собой», «Что говорят люди»). Они же могут помочь ей преодолеть трагедию, вернуться к осмысленности и даже радости бытия. Вот одно из важнейших рассуждений в романе: Моя подруга, наверное, права, говоря, что не считает меня способной к самоубийству. Я всё время подсознательно использую мощнейшее оружие, чтобы уйти от тоски по смерти: слово. Слово, как скульптор, придаёт форму идее, разминает её до тех пор, пока она не становится податливой массой, массой из размышлений о самоубийстве, послушной и мягкой, всё менее и менее серьёзной, всё более и более смешной. Слова срывают покров торжественности со зловещего намерения, слова забирают у тебя энергию, необходимую для того, чтобы перейти к делу. И наконец с моими планами по саморазрушению происходит то же, что и с моими планами путешествий: я говорю о них так подробно, рассматриваю их со стольких точек зрения, что в результате не хочу туда ехать, как будто я там уже побывала. И тут то же самое: если столько говорить о своём самоубийстве, то возникает такое ощущение, будто ты уже покончил с собой. Вот я и продолжаю рассуждать и рассуждать об этом».
Конечно, при чтении данного пассажа напрашивается параллель со смертью автора, коль скоро героиня – и повествовательница, и автор произведения. Однако нельзя не усмотреть и спора с этой концепцией: выжить для Лот возможно только благодаря письму. Если она и не покончит с собой, то только как человек, пишущий свою важнейшую историю, как неповторимая личность.
Очевидно, что роман «Человек слова» – это, в том числе, и слово о слове, текст о тексте, метапроза. С другой стороны (что взаимосвязано) – это текст, насыщенный цитатами из самых разных произведений (помимо всех прочих ещё и музыкальных), требующий интеллектуального чтения. Особенность, которая сказывается уже в названиях глав: введение обозначено латинским Introitus – средневековым термином риторики, обозначающим «начало речи с целью привлечения внимания». Весь текст предваряется цитатой из сонетов У. Шекспира. Глава А1 названа цитатой из уже упоминавшегося фильма Вуди Аллена («Сеньорита, я вижу, эта картина вам нравится?»), глава Б5 – «День дотянуть» – цитатой из «Равнины в огне» Хуана Рульфо… Многочисленные реминисценции конечно служат фундаментом для виртуальной реальности, но выстроенный на них универсум Иммы Мунсо уникален. Её игра – теперь уже и с авторами, а не только с читателями – превращает роман в более многослойное произведение. В предпоследней главе, вспоминая, как герой Ханса Хенни Янна Якоб Магнус сдирал кожу и мышцы с убитой им невесты в надежде отыскать внутри тела душу, словно снимал слой за слоем у луковицы, Имма Мунсо приходит к следующему образу-заключению: «Ткань слов – как луковица, которую никогда не закончишь чистить. Сколько бы раз ты ни брался, можешь продолжать и продолжать. И никогда не увидишь кровоточащую плоть. В ней – безграничное количество возможностей. Это бесконечная луковица. Вечная луковица. Больше всего похожая на отрезок жизни».
И смыслы романа-луковицы «Человек слова» можно раскрывать слой за слоем, читая его то как роман «бытовой», реалистический (уже упомянутую драматическую историю любви), то как образец психотерапевтических сеансов (примечательно, что та самая подруга героини, психиатр, в ответ на её просьбу дать какие-нибудь книги про то, как переживают утрату близких, приносит ей два пустых листка, озаглавленных «Проживание утраты близких. Методика определения патологической боли утраты», и говорит, что остальное должна заполнить она. Таким образом, «Человек слова» можно воспринимать и как эти самые заполненные листки. Можно читать его и как роман воспитания. И как роман философский. Как интеллектуальный. Как «роман сознания», восходящий, прежде всего, к М. Прусту и к В. Вулф (отсылки к ним есть в тексте). То есть как повествование о том, как мы думаем, что живём, и как живём на самом деле. Своеобразное обретение утраченного звучит финальной нотой в романе, в самом последнем абзаце: «Можно жить без памяти, но нельзя жить без забвения», – с этой фразы начинается книга Дюбюффе о забвении. Я нашла единственный способ уравновесить память и забвение: превратить присутствие Кометы во вторую кожу. С ним у меня постоянно так. «Где он?» – думаю я, не замечая, что ношу его на себе, как очки для чтения. Ищешь их – ведь без них как без рук – и вдруг понимаешь, что они на тебе. Вот – вот, именно так. Такое живое воспоминание, что, если подумать, оно уже почти неотличимо от забвения».
Возможно это становится благодаря Слову. Неслучайно оно фигурирует в заглавии романа – «Человек слова». Причём вынесенная в название синтагма также многозначна, и читатель лишь постепенно, одно за другим, обнаруживает её значения – от общеизвестного (быть человеком слова – это всегда сдерживать обещания, именно таким человеком и был Комета) до очень личного, понятного лишь героям романа (человек пишущий; человек, отлично владеющий устным словом; человек, способный зажечь и увлечь своими рассуждениями, лекциями; окружающие люди, говорящие банальности или, наоборот, продлевающие в своих рассказах жизнь героя; человек, рассказывающий свою историю любви и т. д.).
Необходимо добавить, что в постмодернистскую поэтику романа органично вписывается и характерная для произведений этого автора тонкая ирония, нередко переходящая в чёрный юмор (что неудивительно при основной тематике книги). Это ещё один способ дистанцироваться от ситуации и справиться с трагическими событиям в жизни героини. Так, подруга-врач не советует Лот совершать самоубийство, «засунув голову в духовку» (по примеру Сильвии Плат[1]), потому что это неэстетично, да к тому же духовка у неё электрическая. Друзья, которые хотят отправить Лот отдыхать, выбирают для неё санаторий с оздоровительными водными процедурами и на вопрос, могут ли её там утопить в ванной с эфирными маслами, отвечают, что да, но за отдельную плату, и рекомендуют «ванны кровяные»… Особенно примечательна чёрным юмором глава «Что говорят люди» – целый каталог наиболее распространённых фраз соболезнований героине и её остроумные комментарии по их поводу. В главе Б9, посвящённой поездке Лот с дочерью в Мексику, описывается её фантасмагорический сон, гротескно сочетающий в себе символы латиноамериканского Дня Мёртвых и реалии современных аэропортов и авиаперевозок. В последнем случае смех балансирует на грани с трагическим, но всё же чаще всего юмор позволяет автору избежать ненужной патетики.
Итак, мы видим, что, как и положено постмодернистскому произведению, «Человек слова» – роман многоуровневый: его можно читать как роман «бытовой», реалистический, как историю необыкновенной любви, как образец психотерапевтических сеансов, как роман философский, интеллектуальный, воспитательный, эстетский, требующий глубокого знания литературы, музыки и других видов искусств, как роман, экспериментирующий со словом. Слово, его «волшебная сила» занимает центральное место в поэтике произведения. И особенно Имму Мунсо занимает процесс «выхода» человека из мира воображаемого, виртуального в мир реальный, который, однако, воссоздан словесно, а потому, вероятно, более прочен и реален, чем сама реальность.
М. А. Абрамова
Человек слова
И, потеряв тебя, пойму тогда,
Что прочие невзгоды – ерунда[2].
Шекспир. Сонеты.
А, Б… А..? Б..?
Introitus[3]
Уже и не помню, как было до знакомства с Ним. Помню только, что я ходила туда-сюда с яйцами в поисках места, где могла бы сохранить их все: мне была ненавистна сама идея класть их по разным местам, разделять их. Всё в одной корзине – вот чего я хотела. Ещё знаю, что, когда, после непростого опыта воспитания чувств, познакомилась с Кометой, я наконец достигла этой главной цели. Главной Цели. Волнение, тепло, здравый смысл, нежность, уют… Заговорщический дух и азарт спорщика. Страсть и сострадание… Покой домашнего очага и волнующие приключения – всё в одном взгляде. Настоящая дружба и первобытный эрос – всё под одним кровом. Знойные звёздные ночи, чтение на диване, дымящаяся рядом трубка – всё на одной сцене. Летние грозы и тихий туман – всё на одном холсте. Мне не надо было никуда ходить, не надо. Зачем? Не было повода. Да и некуда. Ведь всё находилось там, в небольшом пространстве, всё под рукой.
В общем-то, я рассказываю про корзину с яйцами, потому что мои романтические фантазии всегда были связаны с домом. Во мне ещё жила атавизмом тоска по живой земле, и меня не изнежил космополитический смог большого города, тем более после шестнадцати лет, прожитых с Кометой. Был жив и образ девушки, которая несёт яйца в подоле и ищет корзину, чтобы их положить, очень незамысловатый. И очень мой. Я отлично помню, откуда он взялся. Мне было, наверно, лет десять, и каждое мамино возвращение домой таило в себе нечто особенное. Не то чтобы в её жизни происходило много важных событий. Но всему, что с ней происходило, она придавала большое значение. От этого мама становилась неутомимой рассказчицей; она торжественно появлялась в доме, произнося с порога какую-нибудь вступительную фразу, которая непроизвольно вызывала в моём воображении яркий образ. «Никогда не клади все яйца в одну корзину», – изрекла она однажды вечером, придя с работы. Судя по всему, утром мама говорила с директором своего банка, точнее, со своим директором банка, о том, как лучше хранить сбережения. И он посоветовал не хранить всё в одном месте. Это не было для неё ни ново, ни особо оригинально, но начальник так сказал эти незатейливые и понятные слова, что всё сразу стало ясно. Ведь, как известно, иногда то, что мы представляем себе смутно, внезапно проясняется, когда кто-то выразит это одной ёмкой фразой.
Та фраза совершенно убедила маму, и эту убеждённость она старалась передать мне. Но не тут-то было. Поскольку она обрушивала на меня поток безапелляционных суждений и была облечена неоспоримым авторитетом, я, из духа противоречия, мгновенно истолковывала их с точностью до наоборот. И у меня в памяти отпечатался образ, вызванный этими словами. Я увидела себя, лет девяти-десяти, сколько мне, наверно, тогда и было, гуляющей по дивному лугу, усеянному полевыми цветами, что-то напевая, я несла яйца в подоле и искала, куда бы положить их все. А вот слова «банк», «сбережения» и «разделять яйца» ни о чём мне не говорили. Сельский пейзаж и девочка, которая в нерешительности бредёт по лесам и полям с драгоценными яйцами в подоле, привлекали меня куда больше. Она представлялась мне молочницей-фантазёркой с кувшином на голове, но не той ловкой торговкой из сказки, мечтающей о приумножении доходов. Моей не было никакого дела до всего, что касается денег, нет-нет…
…Внутри каждого из яиц таилась целая вселенная, состоящая из одних страстей, из желаний, так или иначе связанных с любовью, да, с любовью. Состояться в любви – единственный ключ к счастью – в этом и заключался главный вызов. В то время для большинства моих сверстниц основным вызовом была карьера, они мечтали стать учёными и работать в НАСА, или стать прокурорами Верховного Суда, или ещё кем-нибудь в том же духе, а если кто и задавался целью выйти замуж, то не ради вечной любви, а чтобы основать предприятие «дом-дети», то бишь начать жить с мужчиной и тут же забыть о мужчине ради дома и потомства или ради физики и химии. Но я-то хотела пережить Абсолютную Любовь, любовь самодостаточную: трудную, насыщенную, сложную, любовь, кроме которой ничего не нужно. Потому что в ней – всё. В одной корзине: физика и химия, музыка и логика, быт и Бытие. И речи не могло быть о том, чтобы исхитряться и разделять мой любовный капитал: я должна была найти удовлетворение всех своих многочисленных и взыскательных потребностей в одном и том же человеке, и отдать всё ему одному. Я хотела найти всё в одном существе, в одном прибежище, в одном укрытии. Должно было быть только так, или вообще никак.
Корзину я нашла весной 1987 года, а осенью 2003-го всё вдребезги разбилось. Никто из нас не готов к внезапному взрыву всех яиц, если только не было обратного счёта. С другой стороны, не так уж часто их хранят в одном месте: масса людей осмотрительно следует советам директоров банков во всех сферах жизни; возможно, я и сама буду так поступать отныне. Вот скажем, можно быть без ума от поэта, каждый вечер пленяющего стихами толпу восторженных девиц, но вовсе необязательно выходить за него замуж. Можно пойти его послушать, а потом снова спать со своим парнем, которого интересуют только бухгалтерские счета и чёрная магия. А если ты запала на скрипача, то совсем не обязательно тащить его в постель, делать отцом своих детей и ставить к плите стряпать мармитако[4]. А если, например, тебя покорил какой-нибудь гениальный шеф-повар, то не надо вести с ним содержательные беседы об упадке культуры; не всегда тот, кого боготворишь как учителя, должен становиться твоим любовником, отцом, другом, защитником, критиком и товарищем.
К счастью, чтобы общество выжило, разумных людей не обязательно должен очаровывать, пленять, кормить, развлекать, баюкать, наставлять и постоянно сопровождать один единственный человек, который умеет всё. У них есть повара, чтобы готовить, скрипачи, чтобы ходить на их концерты, поэты, чтобы читать стихи, юмористы, чтобы смешить, любовники, чтобы заниматься сексом, психотерапевты, чтобы изливать им душу, и супруги, чтобы было с кем жить и проводить время. Они все хранят в разных местах. Ведь если бы люди держали все яйца в одной корзине, общество – в его нынешнем виде – функционировало бы очень плохо. Закрылись бы рестораны, перестали играть оркестры, замолкли поэты, потому что с такой корзиной каждый имел бы в доме всё, что ему необходимо; и тогда что? А?
Что тогда?
Поэтому Абсолютная Любовь всегда была и будет сокрушительной. И опасной. Потому что, если яйца распределить по разным корзинам, тебя может бросить любовник, может умереть твой спутник, отец или повар, ты можешь остаться без любимого дела, но всё же тебе остаётся, на что опереться. А вот если всё хранить в одном месте… Я знала, что тогда я подвергну все яйца большой опасности. Знала, что рискую. Но даже грозящие мне страдания так и не заставили меня отказаться от твёрдого намерения сложить, прошу прощения за такой повтор, все яйца вместе.
И оно того стоило.
И вот – несколько дней назад – взрыв. Теперь стало трудно понять, что будет дальше. Само собой, первое, что приходит на ум любому мастеру слова, когда у него на глазах рушится его дом, это вновь обрести его в словах. Для нас это самое надёжное средство заполнить пустоту. Писать – вот лучший способ узнать, что произойдёт. Пишешь и узнаёшь. Пишешь, и что-то происходит. Начинаешь историю и не знаешь, куда она заведёт. Пишешь именно для того, чтобы узнать, чем она закончится. Или (будем скромнее) чтобы знать, каков следующий шаг. И я знаю, каким будет мой следующий шаг: говорить о Нём, о жизни с Ним, о жизни без Него. Хотя, конечно, я не единственная, кто это делает. Комета оставил след глубокий и плодотворный. Его друг Д. вчера рассказывал мне о пьесе, на которую Он его вдохновил. Его друг З., бывший ученик, человек незаурядного таланта, присылает мне стихи, посвящённые Ему. Его друг Р. в следующей своей книге расскажет об их детской дружбе. Я расскажу о нём по-своему, предложу ещё один вариант. Свой собственный.
У Кометы был талант музы. И Ему вовсе не нужно было умирать, чтобы это стало очевидным. Я-то об этом всегда Ему говорила. Ведь Ему, понятное дело, все постоянно твердили про талант писателя, поэтому я, чтобы сказать нечто новое, говорила, что Он был не только писателем, но и музой. Он сердился и смеялся. Смеялся и писал. Смеялся и жил. Смеялся и был. Смеялся и пил. Смеялся и выходил из себя. Смеялся и запекал треску на противне. Смеялся и пел «Страсти по Иоанну». Аминь.
Вот так, постоянно меняясь, Он вдохновлял и нас. Конечно, есть такие люди, которые обладают своеобразным талантом литературного персонажа. Они будто ненароком просят тебя рассказать историю, их историю, а у них самих нет желания или времени делать этого, потому что они, к примеру, заняты другими делами. Скажем, читают стихи незнакомке, слушают друга, который делится своими проблемами, или чистят анчоусы, с такой самоотдачей, что им едва ли хватит сил описать всё это.
И тогда за дело берётся кто-то другой. Сейчас этим займусь я. В эти дни я и не должна заниматься ничем другим. Я пишу о невыносимой боли, настоящей боли, пишу о том, что нужно стереть. На самом деле, слова, что вы читаете, написаны уже поверх стёртых. Вы читаете о том, что уже стёрто. Потому что сама по себе боль ничего не привносит, она обедняет и оглушает. Любой мало-мальски чувствительный читатель легко может представить, какую боль причиняет смерть любимого человека, даже если он сам её не испытал. Лучшее, что можно сделать с этой оглушающей болью, если ты позволил ей прийти, – прогонять её, насколько сможешь. Стирать её до тех пор, пока что-то другое не проступит сильнее. Например, недоумение.
Меня всегда будет удивлять, что любовь не проходит. То, что она сопротивляется совместному быту, рутине, повторению, скуке, привычным жестам, кажется мне чем-то необычным. Так у нас с ним и было, ещё никогда со мной такого не случалось. Отсюда и недоумение. В этом и находится источник силы: недоумение – радостно и продуктивно, оно порождает загадки, которые нужно разгадать. Благодаря ему я пишу и стираю, выхватывая улыбки из тьмы, этим я занимаюсь понемногу каждый день, совсем по чуть-чуть: книга написана маленькими порциями, будто клавиши бьют током. Пишу не больше часа. Обжигает пальцы.
Чтобы писать, мне нужно навести хоть какой-то порядок. Я назову свои главы А и Б, потому что иначе сразу теряюсь. Мне нравится бороться со своей врождённой неорганизованностью, всё классифицируя и упорядочивая. Поэтому я всегда отвечаю с цифрами и процентами. Или вот письма, например, – их я всегда пишу по пунктам: пункт а, пункт б, пункт в. Знаю, что если хоть немного позволю себе расслабиться, то потеряю счёт времени. Как в машине, когда я никуда не тороплюсь и еду просто так. Обожаю находить цель случайно, по наитию. Наверное, именно поэтому мне так нравится искать, куда бы припарковаться. Это один из лучших моментов дня, особенно если мне нужно оставить машину на узких улицах Барселоны. Но именно теперь, когда Его нет и у меня появилось ещё больше времени, теперь, когда я чувствую, будто всё время в мире стало пустым, наверное, поиски парковки должны захватывать меня ещё больше. Это одно из тех занятий, что не оставляет в голове места для скуки, оно заставляет тебя сконцентрироваться на пешеходах, которые двигаются каждый по-своему: одни хотят поймать такси, высматривая его, заранее спускаясь с тротуара, другие, сняв пиджак, звенят ключами от машины. Это занятие приносит тебе и сиюминутную пользу, и конечное вознаграждение. Рано или поздно ты наконец находишь парковку и чувствуешь, будто достиг чего-то действительно важного и в то же время сложного. Тебе так просто удалось убить время – а что важнее этой задачи? Вот так я и буду его теперь убивать. Мне наверняка ещё больше понравится теряться в городе и на шоссе – всё равно где, главное – теряться, пешком или за рулём, как будто ещё не изобрели ни карт, ни навигаторов, в этом – вся прелесть. Поглядывать, где заходит солнце, тут или там, и двигаться «в правильном направлении», но без чётких ориентиров. Это приводит в отчаяние моих подруг, когда я везу их на машине. «А мы доедем?» – спрашивают они, заметив, что, направляясь от улицы Энрике Гранадоса до площади Франсеска Масия, я решила сделать крюк по Сан Жервази. «До сих пор доезжала», – отвечаю я в надежде, что этот неоспоримый факт наведёт их на размышления. Но боюсь, они всё же не вполне меня понимают.
Как бы то ни было, теперь мне наверняка должно ещё больше понравиться убивать время, разъезжая на машине, буду проводить в ней часы, но пока я не дошла до этого; всего несколько дней назад Он… как это там говорят – «умер»? И я не думаю теряться ни в городе, ни где-либо ещё. Я, наоборот, делаю всё, чтобы перемещаться как можно меньше, провожу весь день за компьютером; и если мне и нужно выйти, я стараюсь ходить одним и тем же маршрутом. Ни в коем случае не отклоняясь ни на миллиметр, потому что иначе – кто знает… Если я потеряюсь, кто его знает, что может произойти.
Так вот, мне нужно навести порядок в этой дорожной карте слов и не сбиваться с пути, потому что тогда – кто его знает. Элементарный порядок, скажем, главы А, главы Б. В главах А я буду рассказывать о том, как мы познакомились, о нас, о жизни с Ним. В главах Б – о том, как я его лишилась, о жизни без Него. Это также послужит мне нехитрым мнемоническим приёмом (я немного теряюсь в последнее время): А – любовь, А – радость, А – уютно устроиться рядом с Ним. Б – бесчеловечность, Б – жестокость, Б – пустота, Б – возродиться.
Легко запомнить.
Этот порядок, кроме того, будет удобен и для потенциального читателя: он позволяет читать не все главы подряд. Таким образом, человек впечатлительный сможет уберечь себя от безжалостной смерти, боли, от страданий и простых радостей – что, если приглядеться, в целом довольно жестоко; и напротив – тот, кому скучны счастливые любовные истории (счастливые истории всегда грешат некой благостной слащавостью), может пропустить главы А. В связи с этим возникает проблема имён. В главах А, рассказанных от третьего лица, придётся дать имена персонажам, ведь когда повествование ведётся от третьего лица, персонажей полагается как-то называть. И тут возникает загвоздка. Потому что у нас друг для друга имён не было.
Мы потеряли их, когда познакомились. Это первое, что мы сделали – стали обходится без имён. Лично я никогда толком не знала, что делать со своим. То, что меня всегда называют одинаково, независимо от времени суток, от настроения, отношения и расположения духа того, кто это имя произносит, и того, к кому оно обращено, всегда казалось мне странным. Более того, мне трудно понять то смирение, с которым многие принимают своё имя. Или их энтузиазм. Потому что есть люди, которые имена постоянно употребляют и даже ими злоупотребляют в том случае, когда они вовсе не нужны. Некоторые, например, обращаются к самим себе по имени, особенно когда себя ругают («И я сказал себе: “Жорди, тебе не стоило этого делать”»). Другие упорно называют своего единственного собеседника по имени, как будто его можно с кем-то перепутать («Мария-Роза, куда ты дела сигареты?»). И если им не ответили, то повторяют вопрос… вместе с именем!
В общем, в неприязни к именам мы с Кометой совпадали. У меня вызывало сопротивление то, что моё имя раз и навсегда зафиксирует и отсортирует мою индивидуальность. Он, в свою очередь, тоже, казалось, избегал называть меня по имени, тем более – по паспорту; я не помню, чтобы Он хоть раз использовал одно и то же имя, когда звонил или оставлял записку. Как бы там ни было, мы никогда не пользовались именами настолько долго, чтобы они начинали, как им и предписано, вешать на нас ярлыки. Имена менялись, жили всего одно мгновение, иногда несколько дней, иногда возвращались, но уже в другом виде, со сколами и трещинами. Между собой мы разговаривали на странных языках, употребляли чудные имена. Но это никогда не было проблемой для нас, и только когда нужно было их закрепить, возникали сложности.
Думаю, именно поэтому мы так долго выбирали имя для дочки, и дело не в том, что мы не могли с ним определиться – мы не могли решить, нужно ли дать ей одно-единственное имя раз и навсегда. Друзья говорили: «У ребёнка должно быть имя. Конкретное. Иначе он запутается». «У неё ещё будет много поводов запутаться, и гораздо более серьёзных!» – замечала я. Комета же проявлял большую рассудительность в вопросах, касающихся детей. Он однозначно был за то, чтобы давать имена детям, в этом Он не сомневался. Но вся эта заморочка с выбором имён ну совсем Его не вдохновляла. И вот из-за того, что Ему было неохота составлять списки имён, голосовать за самые красивые из них, а потом подсчитывать голоса, а я думала, что дочери не надо давать вообще никакого имени, поскольку оно бесполезно и никогда нам не пригодится, мы долго не могли ничего выбрать.


