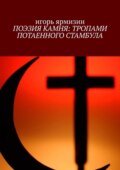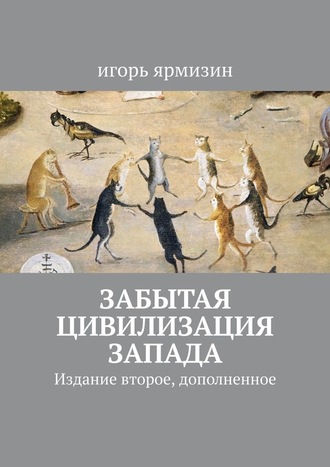
Игорь Ярмизин
Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное
Часть 3. После Карла: распад великой империи франков

Н. К. Рерих «Заморские гости». Часто «гости» приходили с оружием
В 814 году великий Император умирает. Он передает самую могущественную империю христианского Запада в руки своего сына – Людовика Благочестивого. Целиком. Неразделенную. Но всего через два года Людовик делит ее между своими тремя сыновьями. Объединению Европы – а империя франков включала территории современных Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Голландии и даже Балеарские острова – на этот раз не суждено было сбыться.
В дальнейшем, в результате Верденского раздела в 843 году, на месте великой империи возникли Западно- и Восточно-Франкское королевства, ныне известные как Франция и Германия. Было еще и странное образование, – срединное королевство, которое, впрочем, вскоре распалось. Войны за его территории, например, такие как Эльзас и Лотарингия, будут идти следующие тысячу лет, вплоть до 1945 года.
Империя Карла Великого уходит в небытие. В 877 г. со смертью Карла Лысого приходит конец и Каролингскому возрождению. Общество, государство, жизнь в целом погружаются в пучину варварства. Почти такого же, как после распада Римской империи. Наступают Темные века. «Днесь вы видите гнев Господень… Запустели города, монастыри сожжены или лежат в руинах, поля зарастают травой… Сильный повсюду теснит слабого, люди уподобились морским гадам и жадно пожирают друг друга». Так говорили епископы Реймской провинции, собравшиеся в 909 году на свой съезд в Трозли.
А вот что пишет современник о распаде государства Карла Великого: «…придя в упадок, эта великая держава утратила сразу и свой блеск, и наименование империи; вместо государя – маленькие правители, вместо государства – один только кусочек. Общее благо перестало существовать, всякий занимается своими собственными интересами: думают о чем угодно, одного только Бога забыли».
Издание законов прекратилось. В Германии сразу после Карла, во Франции продержалось еще лет 70, после чего тоже угасло. Светскому праву нигде не обучали. Адвокатов упразднили, и всякий, кто имел власть, был судьей. А поскольку большинство властьимущих (они же судьи) не умело читать, они были не в состоянии прочесть даже свой собственный приговор. Никто не знал, что там записал единственный грамотный из присутствующих, какой-нибудь диакон. Между тем, нередко возникала необходимость обращения к этим решениям через несколько лет (например, по вопросу межевания земель). Поэтому их письменное изложение было крайне важно. Увы… Более того, право, в большинстве случаев, возвращается к обычаю в его устной передаче, – колоссальный регресс. И даже само слово «Европа», «отцом» которой был назван Карл Великий, предали забвению.
Формирование нового мира: феодалы сменяют чиновников, к свободе стремятся все
«X век представляет ужасное соединение невежества, грубости и суеверия: науки буквально скрылись в монастыри, которые сделались их убежищем; монахи – только их хранители, но не истолкователи; нравственное состояние общества в таком же жалком и отчаянном положении; всеобщая грубость нравов дошла до высшей степени; приятное обращение, изящный вкус, все связи и сношения, украшающие жизнь, как будто покинули общество», – пишет один современный исследователь.
Подтверждений этим словам множество. О повсеместном упадке можно судить хотя бы по денежному обращению. Так, если Карл Великий ввел единую денежную систему с единым монетным двором, то уже сразу после его смерти «звонкую монету» начали чеканить графы округов, затем к тому же приступили отдельные города, а закончилось все настоящей финансовой вакханалией, когда «эмиссионным центром» мог стать кто угодно: отдельные монастыри, церкви и даже совсем мутные, непонятные конторы, существовавшие при немногочисленных рынках. Впрочем, особой необходимости в деньгах не было, в силу катастрофического упадка торговли. Свободная хозяйственная деятельность, как и денежное обращение, упали до самого низкого уровня, который когда-либо существовал. Дело дошло до того, что некий бравый джентльмен, укравший меч у самого графа Бургундского, так и не смог продать его, после чего вернул меч владельцу. Что произошло дальше с сим «джентльменом» история умалчивает.
В те годы настоящими, а не номинальными правителями на местах становились военачальники, сумевшие организовать сопротивление и как-то противостоять армиям вторжения. Гарантом безопасности становится не король, а его вассалы, которые, естественно, стремятся к независимости от сеньора. Вообще в Х-XI веках к свободе и независимости стремятся все: князья – от центральной власти, аббаты – от епископов, «еретики» – от церкви, горожане в коммунах – от территориальных сеньоров. Любой, кто владел крепостью, окруженной полями и лесами, создавал вокруг нее маленькое независимое государство.
Власть постепенно переходила от государства в частные руки; другими словами, страна все более и более распадалась на отдельные вотчины. Возглавили этот процесс самые могущественные люди того времени, – герцоги. Они теперь получали права на свои феоды не от короля, а по праву рождения. Власть стала собственностью, а ее источником – сами герцоги. Такое обособление произошло еще в начале Х века. А дальше распад пошел как цепная реакция: от герцогов отделились графы; от графов – бароны и т. д. вплоть до мельчайших суверенов. Каждый на своем клочке земли строил свое собственное маленькое государство. Страна, во главе которой по-прежнему стоял король, – помазанник Божий – в действительности распалась на ячейки, каждой из которых руководил абсолютно суверенный сеньор. Подобно королю, он являлся гарантом соблюдения Божьего мира и справедливости на своей территории. Законы для нее сочинял сам суверен, сидя в собственном административном центре – замке.
В это время (IX—X вв) шел процесс перехода от назначаемых королем руководителей территорий, управленцев, к наследованию этих территорий и становлению потомственной аристократии. Этому способствовало два обстоятельства. Во-первых, отсутствие дорог, регулярного транспортного сообщения, приведшее к фактическому разрыву коммуникаций и обособленности отдельных регионов. Европейские страны того времени стали напоминать архипелаги из сотен и тысяч средних, малых и мельчайших островков. А во-вторых, информационная изоляция этих островков, как от столицы, так и друг от друга. Увы, регулярное почтовое сообщение тогда осуществлялось всего по одной линии: между Венецией и Константинополем. Все. В самой Европе ничего похожего не было. В результате бароны, прелаты и даже короли вынуждены были передавать письма, указы и другие документы через нарочных. Лица же менее высокого ранга прибегали к услугам странников, паломников. А те, разумеется, никуда не торопились. К тому же никогда не было уверенности, что послание вообще дойдет. В дороге всякое могло случиться. Такое положение дел привело к тому, что действенной была только местная власть. И тут на авансцену выходили «управленцы». Они не имели возможности получить по каждому конкретному случаю указания из «центра», и были вынуждены брать всю ответственность на себя, действуя на свой страх и риск. При этом, разумеется, решения принимались с учетом собственного интереса. А этот интерес, он же стратегическая цель, заключался в закреплении территории за собой и основании независимой династии. Огромное количество самых знаменитых аристократических родов Европы начиналось именно в те незапамятные, Темные века и именно таким образом.
В результате сложилась ситуация, когда король – слаб, а феодалы обладают всем, кроме самого главного, – они не помазаны церковью на царство, а значит, их власть не была сакральной, «от Бога», они не могли быть посредниками между Богом и людьми. Установившийся порядок везде трещал по швам.
Атаки извне
Общий упадок усугублялся внешними обстоятельствами. Они были не просто плохими, а скорее, ужасными. Все южное средиземноморье, впрочем, как и восточное, и западное, было оккупировано арабами. Их флот господствовал по всей водной глади, беспрерывно нанося удары то в одном, то в другом месте. Были захвачены многие ключевые пункты: Сицилия, Сардиния, Балеарские острова и другие. Не прекращались попытки прорыва с территории Пиренейского полуострова вглубь континента. Европа в страхе отпряла от обустроенного средиземноморья, подавшись в центр и на север.
Но и там был тот же ужас и кровавый террор. Только на этот раз его обеспечивали викинги. Варяги, норманны. Их дружины огнем и мечом год за годом проходились по всем прибрежным городам. Юркие ладьи поднимались вверх по рекам. И негде было укрыться от них. Не раз и не два они подвергали разграблению Руан, Париж, Лондон, Йорк, Гамбург, Кельн, Тулузу и многие другие города. Целые области пришли в запустение. Дело дошло до того, что в качестве «отступного» норманнам пришлось выделить целую область. Она и поныне называется Нормандией. В отсутствие у франков и германцев флота противостоять викингам, казалось, было невозможно.
Своей жестокостью норманны внушали ужас. Пример тому – знаменитая оргия 1012 года, во время которой был забит костями съеденных быков епископ Кентерберийский. В саге упоминается один исландец, его еще называют «детолюбом», поскольку, вопреки традиции, он отказывался насаживать младенцев на копье. Невиданный в рядах суровых северных воинов слюнявый гуманизм так поразил его товарищей, что даже вошел в эпос.
Убийство епископа тоже не должно смущать, поскольку христианами викинги больше считались, чем были на самом деле. История сохранила для нас один любопытный документ, – письмо папы римского скандинавам. В нем он мягко отказывает в просьбе признать какого-то их товарища святым, замечая, что «какой из него святой? Он же попросту был убит в пьяной драке?». После описанной оргии прошло более полутора веков, но норманны по-прежнему были далеки от христианского духа.
«Вы должны возлюбить мир как средство для ведения новых войн. И короткий мир – больше долгого. Мой совет вам – не работа, а сражение. Мой совет вам – не мир, а война. Вы говорите – хорошо ли это освящать войну? Я говорю вам – хорошая война освящает все. Война и храбрость совершили больше великих дел, нежели любовь к ближнему. Что пользы в долгой жизни? Какой воин хочет, чтобы щадили его?», – эти слова, сказанные, правда, через тысячу лет, прекрасно характеризуют мировоззрение незваных варяжских гостей. И пощады от них ждать не приходилось.
А с востока – традиционной обители варваров – пришла не менее безжалостная, сокрушительная сила. На сей раз это были мадьяры, венгры. Они захватили Моравию и за короткое время предприняли 45 опустошительных набегов по всей Европе, разграбив Северную Италию, Саксонию, Баварию, Швабию, Галлию, дойдя аж до испанской Андалусии. Они перерезали такую важную транспортную артерию как Дунай, из-за чего товары из Византии и других стран Востока пришлось везти через Киев, что, правда, принесло процветание Киевской Руси. Большинство европейцев не без основания усматривали в венграх упомянутый в Апокалипсисе народ Гога и Магога, каким-то образом прорвавшихся из-за золотой стены на краю земли, и теперь несущих весть об Антихристе.
Итак, вторжения извне следовали одно за другим, или же все одновременно. Венгры, арабы, норманны год за годом, подобно разрушительному торнадо проходившие по Европе, сеяли смерть и разрушение. Вслед за ними приходили верные спутники – голод и эпидемии. Так опустошались огромные территории. Европа вымирала…
Неуклюжие королевские войска, тратившие огромное количество времени на сосредоточение (поскольку необходимо было дожидаться подхода воинских контингентов с отдаленных территорий), раз за разом показывали свою полную несостоятельность, вечно опаздывали и терпели поражения. Новая западная цивилизация, представляла собой в эту пору осаждаемую, а точнее, уже наполовину завоеванную крепость. Казалось, что шанс выжить у взятой в кольцо могущественными силами, раздробленной, да к тому же раздираемой внутренними противоречиями, Европы стремился к нулю. Она неминуемо должна была погибнуть.
Но как всегда в критические моменты европейской истории случалось почти невозможное. Появлялся тот, кто мог его совершить, невероятным образом старые враги становились союзниками, небольшие отряды стояли насмерть перед многократно превосходящими их силами. И побеждали! Так было при Фермопилах, так было при Марафоне, при Пуатье и еще много, много раз.
Глава 5. Христианская империя: вторая попытка

Императорская корона. Считается, что обруч внутри нее сделан из гвоздя, которым распинали Христа
Предыстория
Через 100 лет после смерти Карла Великого положение восточно-франкских земель осложнилось. Причина тому – новые вызовы, на которые по-прежнему не было достойного ответа. Главным кошмаром для франков стали уже упоминавшиеся венгры. Подобно гуннам, раньше они обитали где-то в районе Азовского моря, впервые обнаружив себя в 833 году. Но уже в 906 году им удалось захватить Моравию, организовав на ее территории нечто вроде операционной базы для последующих стремительных и безжалостных атак по всей Европе.
В том же 906 году венгры вторглись в Саксонию, на следующий год – в Баварию, потом дважды (в 909—910 годах) в Швабию. Противопоставить оказалось нечего. Сопротивление лишь усугубляло разгром. Так, в 907 году под Пресбургом (Братислава) было уничтожено баварское ополчение, собранное маркграфом Лиутпольдом Пресбургским, а в 910 году на Лехфельде под Аугсбургом наголову разбито восточнофранкское войско во главе с королем Людовиком Дитя, который после разгрома заболел, и вскоре умер в возрасте 18 лет.
Тем временем внутри восточнофранкского общества шла ожесточенная борьба. В кровавых междоусобицах были полностью истреблены многие влиятельные рода, особенно во Франконии и Лотарингии. В борьбе за первенство наибольшие потери понесли знатнейшие семейства. Выжили лишь самые сильные и хитрые. Благодаря этим качествам вскоре они составили новую элиту. По своему драматизму и разрушительности для высшего класса это взаимное уничтожение можно сравнить разве что с войной Алой и Белой розы, случившейся на территории Великобритании через пять столетий. К сожалению, в германских землях в Х веке не нашлось своего Шекспира, чтобы увековечить ту грандиозную бойню. Век был Темным, поэтому страсти и катастрофы той поры давно забыты.
Нельзя сказать, что серьезность положения не осознавалась. Внешняя угроза в сочетании с кризисом элиты, – что может быть хуже! Мудрый король Конрад мучился в поисках выхода даже лежа на смертном одре. Его последние слова были: «у нас есть все, – могущественное войско, крепости, оружие, – за исключением лишь того, от чего все в конечном счете и зависит: королевского блага. Счастью сопутствуют благороднейшие нравы». В 918 году король умер… Его приемником стал герцог Саксонии Генрих I Птицелов (он узнал о своем назначении, предаваясь любимому занятию, – ловле птиц, оттого и прозвище). Вместе с ним саксы, против которых столько десятилетий воевал Карл Великий, впервые получили власть во всем Восточнофранкском государстве, – это был важный шаг к появлению на мировой арене такой страны как Германия.
Впервые, пожалуй, германское единство было продемонстрировано в 933 году в битве при Риаде. За год до этого собрание в Эрфурте приняло решение прекратить выплату дани венграм, что и было сделано в исключительно вызывающей форме. Мадьяры, разумеется, вызов приняли и не замедлили явиться с большим войском. Но времена изменились, и теперь им противостояла объединенная армия всех германских племен.
Генрих I повел в бой воинов под знаменем святого Михаила, одержал победу, что произвело сильное впечатление на всех германцев. А когда на следующий год он разгромил датского конунга Кнуба, принудив его выплатить дань и принять крещение, и тем самым ликвидировал последние остатки норманнской угрозы, стало ясно, что на востоке Европы появилась новая мощная держава7.
Однако через пару лет Генрих I скончался, и по-настоящему заявить о себе на весь христианский мир новая держава смогла лишь спустя четверть века, уже при другом короле. Им стал Оттон I, коронованный в Ахене, в базилике Карла Великого.
Оттон I. Начало
И наступил день коронации. В воздухе витал дух Большого праздника.
Церемония состояла из нескольких частей. Сначала герцоги подняли нового правителя на руки и усадили на трон. По очереди они подходили к нему и приносили вассальные клятвы, присягая на верность. После этого последовала вторая, духовная часть церемонии. Оттон, одетый во франкское платье, вышел на середину церкви, где архиепископ Майнцский Хильдеберт представил публике «Богом избранного, некогда владыкою Генрихом назначенного и всеми князьями произведенного в короли Оттона» и призвал народ дать согласие на этот выбор, если он ему нравится. Народ выразил свое одобрение вскинутыми вверх руками и громкими приветственными возгласами. Тем временем короля подвели к алтарю, где лежали инсигнии -символы королевской власти: меч, плащ, скипетр и корона. Далее последовала их передача, освящение, помазание и, в завершении, коронация. Церемонию проводили два архиепископа – Майнцский и Кёльнский. Она включала в себя, в частности, повторное возведение на трон, на этот раз на мраморный трон Карла Великого в верхней галерее собора между колоннами. Духовная часть завершилась мессой.
И наконец, пришло время долгожданной третьей части, – коронационного пира. О его статусе можно судить хотя бы по тому, что техническими служащими выступали самые знатные люди империи, – герцоги. Лотарингский был камерарием (распорядителем пира), франконский – стольником (официантом), швабский – кравчим (начальником стольников), баварский – маршалом (следил за порядком и исполнением церемоний). Так прошел незабываемый день 7 августа 936 года.
Основание империи
Постепенно оправившись от разгрома, венгры опять попытались захватить Европу, и в 953 году пересекли границу. Их полчища огнем и мечом прошлись по Баварии, опустошив ее, дошли до Рейна. По словам хрониста, на этот раз варвары превзошли сами себя, устроив такую кровавую баню, что германцам грозило полное истребление.
К страшной резне, учиненной венграми, добавился кошмар гражданской вой ны. Швабия, Франкония, Бавария, Саксония сошлись друг с другом в братоубийственной схватке. Сражения шли даже в Лотарингии. Причиной стали претензии на трон со стороны Людольфа, старшего сына Оттона. Оскорбленный тем, что отец сделал своим наследником другого сына, он вместе с зятем Оттона Конрадом Лотарингским поднял открытый мятеж и призвал венгров на немецкую землю, чтобы вместе одолеть отца (!). Это была измена семье, родине, Богу. Князья, спешно созванные со всех концов германской земли, осудили Людольфа.
Венгры пришли вновь, и прошлогодний кошмар повторился с удвоенной силой. Оккупанты были многочисленны, как никогда раньше. Казалось, мадьярский дракон по-прежнему силен, и никто не в силах противостоять ему. Но жестокость вторжения образумила «горячие головы» и сплотила многих бывших оппозиционеров. Даже Людольф, осознав свое падение, в одиночку пришел к отцу и упал перед ним на колени, охваченный раскаянием. Прощение он получил, но «венгерская проблема» от этого отнюдь не уменьшилась. Важно было выиграть время…
Кто сдержит натиск? Истории было угодно, чтобы эта честь выпала Аугсбургу. Его оборону возглавил отважный епископ Удальрих. На требование нападавших сдать город по-хорошему, он ответил категорическим отказом, запер ворота и приготовился к битве. Начался штурм. Волна за волной. Но натиск непобедимых мадьяр раз за разом разбивался о стойкость защитников. Они не только обороняли стены, но и переходили в контратаки. Неизменно их возглавлял неустрашимый епископ.
Тем временем король спешно собирал войско. К оружию были призваны все немецкие племена, – саксы, швабы, баварцы, франки, богемцы. И грянул бой. Сражение состоялось в день св. Лаврентия, 10 августа 955 года, в долине Лехфельда, чуть южнее Аугсбурга. Как раз там, где 45 лет назад потерпел страшное поражение Людовик Дитя. На этот раз 10 тысячам германцев противостояло 50 тысяч венгров. Казалось бы, с неизбежностью история повторится. Ведь каждому немцу противостояло пять мадьяр. Но…
Битву начал сам король. Он мчался вперед, воздев к небесам победоносное священное копье! Согласно легенде, это было то самое знаменитое копье судьбы, кровью Христовой дарующее победу его обладателю. И все германцы знали, что сколь бы враг ни был силен, само провидение сегодня на их стороне. (Это священное копье Генрих I выкупил у короля Бургундии Родольфа II, отдав за него много золота, серебра, а также город Базель со всей округой).
Кровавая сеча стала великим уравнителем, заставив позабыть обо всех старых распрях, смертных обидах. Графы, герцоги, сам король сражались бок о бок с рядовыми общинниками. В битве особенно отличился Конрад Рыжий, – бывший герцог Лотарингский, разжалованный за измену. Он искупил свой грех, смыл его кровью. Ценой жизни… Накал ожесточения не уменьшился даже после окончания битвы, – все пленные были казнены. По обычаю того времени их жизнь закончилась либо в петле, либо на эшафоте, – деревья по всей округе были буквально увешаны телами недавних врагов. Правда, венгерскому полководцу Лехелю перед смертью Оттон, в качестве особой милости, разрешил сыграть на его любимом рожке.
Комментаторы единодушны в оценке: победа на Лехфельде затмила собой все прочие виктории, одержанные за последние столетия. Фактически она разрешила вопрос исторической важности: абсолютно дикие мадьяры, «враги людей и христианства», чья конница доходила до Кастилии, Бургундии и Южной Италии, были принуждены к миру, прекратили свои грабежи и осели на небольшом выделенном им участке земли, который сегодня всем нам известен как небольшая и тихая европейская страна Венгрия. На этом история противостояния не только венгров, но и варварских племен в целом и европейцев заканчивается. Оттон же одержал крупнейшую победу над язычниками, устранив самую страшную угрозу христианскому миру.
Здесь, на поле боя, вместо восточных франков и династии каролингов впервые на исторической сцене появляется немецкая нация, впоследствии одарившая мир невероятным созвездием гениев и героев. Боевое братство, сплоченность перед лицом смертельного врага превратили отдельные разрозненные племена, подчас с трудом понимавшие друг друга, в единый народ.
Правда, после поражения венгры еще какое-то время по инерции продолжали войну на границе с Баварией. Для ее безопасности Оттону даже пришлось создать две марки – пограничные области – одну в Альпах, вторую на севере на реке Энс, ее вскоре стали называть восточным округом – т. е. Ostarrichi, иными словами, Австрией.
Победа, явившаяся, по убеждению современников, величайшим триумфом Оттона, возвысила его и над предшественниками, и над другими королями. Согласно Видукинду Корвейскому, сама империя Оттона была обязана ей своим рождением: по его словам, во время торжеств войско провозгласило победоносного владыку «отцом отечества» и «императором». Автор называет Оттона освободителем Европы, подчеркивая уже сложившееся европейское единство. Конечно, прежние времена «солдатских императоров», когда армия сажала своих военачальников на главный трон Римской империи, давно канули в лету, и желание солдат нельзя было выполнить немедленно. Поэтому от Победы до основания Империи прошло целых 7 лет. Тем не менее, связь между этими двумя событиями очевидна.
Оттон на поле боя защитил не только Европу и ее народы, он защитил христианскую веру и христианскую церковь. А значит, и отношение к нему со стороны Святейшего престола резко изменилось. И если еще в 952 году первая попытка добиться императорской короны закончилась фиаско по причине противодействия со стороны папы, то через 10 лет все было иначе. Папа Иоанн XII сам в конце 960 года призвал Оттона к римскому походу и, соответственно, к принятию императорского титула. Конечно, у него были и собственные мотивы (в виде просьбы о помощи в борьбе с некоторыми враждебными феодалами, особенно с мятежным герцогом Беренгарием), тем не менее 2 февраля 962 года христианский мир принял коронацию Оттона в соборе св. Петра с воодушевлением, подтверждением чему служили одобрительные возгласы римлян, наблюдавших церемонию. В Европе появился новый император. И новое государство, – Священная римская империя. Получив императорскую корону, Оттон, как преемник Карла Великого, стал главой западного христианства.
О роли Священной Римской империи
Священная Римская империя стала настоящим лидером западного мира. Об уважение к ней и ее правителю говорит хотя бы тот факт, что на собрания, проводимые Оттоном (как, например, хофтаг в 973 году), помимо высшей знати со всех концов империи, прибывали многочисленные посланники из Рима и Византии, Руси, Венгрии, Болгарии, Дании, Богемии, Польши и даже Африки. Оттон Великий, по словам хрониста Видукинда, стал подлинным «королем народов».
Рим и Карл Великий – вот два идеологических истока нового государства. О нем уже много десятилетий мечтали христиане. Ведь именно имперские Рим и Аахен олицетворяли золотой век, то есть порядок и изобилие. Позже сын Оттона I Оттон II официально примет на себя титул Августа (формальное основание дала женитьба на византийской принцессе), а его внук Оттон III объявит «реновация империум Романорум», т.е. обновление, возрождение Римской империи и даже перенесет столицу в Рим, построив свой дворец на Авентинском холме. Впервые немец становится римским императором! Правда, в конечном счете, эксперимент закончился довольно печально, – в 1000 году римляне восстали, а вскоре монарх умер.
Однако Священная римская империя всю свою историю оставалась децентрализованной. Она объединяла несколько сотен самых разных территориально-государственных образований, а у ее императора даже близко не было той власти, какой обладали давние римские «коллеги». Достаточно сказать, что титул Оттона не был наследственным, а присваивался по итогам избрания коллегией курфюрстов, власть ограничивалась высшей аристократией Германии, а с конца XV века – рейхстагом, представлявшим интересы основных сословий империи. Кроме того, постоянно ощущалось противодействие со стороны Церкви. Иногда очень сильное. Дело доходило до открытых столкновений. Так в 1077 году в результате конфликта папа Григорий VII предал императора Генриха IV анафеме, после чего от него отвернулись все вассалы. В итоге Генрих (Император!!!) был вынужден зимой в одиночку отправиться из немецкого города Шпейер в папский замок Каноссу, расположенный в Северной Италии. Сотни километров пешком по горным альпийским тропкам и бездорожью, на пронизывающем ветру он шел за прощением. А потом еще трое суток стоял перед закрытыми воротами замка голодный, на коленях, в рубище, как простой паломник, пока его папа не принял и не простил. С тех пор выражение «отправиться в Каноссу» на языках многих народов мира означает униженно признать свое поражение, умоляя о пощаде8.
Обычно этот инцидент трактуется как борьба между церковной и светской властью, известная как борьба за инвеституру, т.е. наделение клириков властью, шире – источник этой власти. Кто должен вручать им инсигнии – папа или император? Нужно, однако, принять во внимание, что само разделение власти на духовную и светскую отчасти надуманно. Ведь император сам – духовное лицо и помазанник божий. Поэтому все конфликты между «властями» проходили исключительно в рамках церкви, которая, собственно, и создала христианский Запад и европейское средневековье.
Но, несмотря на всю кажущуюся внутреннюю слабость и раздробленность, Империя (получившая в середине XV века свое полное название – Священная Римская империя германской нации) явила собой чудеса выживаемости, просуществовав почти 850 лет вплоть до 1806 года, когда ее упразднит Наполеон Бонапарт. Поскольку эпоха империй уже закончилась, сегодня можно с уверенностью сказать, что 850 лет является для этих государственных образований рекордом, по крайней мере, в Европе.
Внутренняя аморфность, однако, не помешала Священной Римской империи, буквально с момента ее появления стать главной силой европейского Запада. Вместе с ней на рубеже 1000-го года постепенно завершается складывание облика средневековой христианской цивилизации, и она выходит как единое целое на мировую арену.