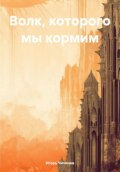Игорь Владимирович Чичинов
Гипербола
Я помолчал, прислушиваясь к себе. По моим ощущениям, у меня повысилось давление. Пришлось признаться:
– Знаете, я ведь тоже пишу. А Чехов – мой любимый автор. Мне очень хотелось бы пообщаться с ним, поддержать как-то. Хотя…
Старик тихо заметил:
– Да-да, я уже говорил, он не будет помнить об этой встрече.
Моя нерешительность оказалась недолгой:
– Нет, всё равно! Отправляйте!
И я отправился в 19 октября 1896 года, в Мелихово.
…Бородка и усы у Чехова были рыжеватыми и, как мне показалось, не совсем ухоженными. Знаменитого пенсе я не увидел. Передо мной за письменным столом сидел интеллигентный, очень уставший, на вид, человек со следами раннего старения на лице. Тёмно-карие глаза обрамляла частая сеточка морщин.
– Здравствуйте, Антон Павлович, – сказал я. – Простите, я к вам незваным гостем.
– Здравствуйте, – ответил он, вставая. – Вы кто?
Стало понятно, что я совсем не готов к этой встрече.
– Знаете, я… путешественник по времени. Я из будущего.
Писатель помолчал, пристально вглядываясь мне в глаза.
– Извините, милейший. Как вы здесь оказались и кто вас впустил?
Найти нужные слова оказалось крайне непросто.
– Антон Павлович, поверьте, для меня самого это настоящий шок! Честно говоря, я всё ещё не верю. Но… один человек… странный человек… пообещал, что я окажусь в прошлом. Ровно на один час. И я выбрал этот год, этот месяц и день. И захотел встретиться с вами.
Чехов показал мне рукой на диван – садитесь. Грустно посмотрел на меня.
– Какой у вас диагноз? Шизофрения? Признайтесь честно, я доктор – мне можно.
Я вдруг осознал, что из заказного мною одного часа минутки-секунды уже безвозвратно убегают.
– Антон Павлович, вы же не мистик, как Гоголь. Вы всегда были и остаётесь реалистом. Поверьте, я, в самом деле, из будущего. И здесь, у вас, совсем ненадолго! Давайте просто поговорим. Пожалуйста!
Чехов улыбнулся, печально и устало:
– Так вы и Николаю Васильевичу… визит нанесли?
Он сел в низкое широкое кресло напротив меня.
– Может быть, чаю? Я попрошу принести.
А время – я это просто кожей чувствовал – не просто шло, оно бежало; летело стремительно и безжалостно. Боже, подумалось, а я ещё ни о чём серьёзном даже не начал говорить с ним!
И я решился.
– Антон Павлович, хотите цитату? Из вашего письма к старшему брату, Александру. Написано в 1887 году. «Скажи, пожалюста, душя моя, когда я буду жить по-человечески, т. е. работать и не нуждаться? Теперь я и работаю, и нуждаюсь, и порчу свою репутацию необходимостью работать херовое».
Он выпрямился в своём кресле, плотно прижавшись к спинке, крепко сжал руками подлокотники. Я продолжал:
– «Пожалуйста» написано именно так, с двумя ошибками, душа – через «я». Антон Павлович, насколько знаю, вы позволяли себе подобные языковые вольности только в переписке со старшим братом. «Херовое», извините, тоже из того же письма. Помните его?
Чехов заметно побледнел. Он встал с кресла, нервно прошёлся по комнате.
– Откуда? Как вы узнали?
Ничего не оставалось делать, кроме как сказать правду:
– Ваши письма опубликованы, вот я и привожу цитату.
– Мои письма? Опубликованы? Кем? По какому праву?!
– Антон Павлович, вас… простите, после вашей смерти… признают классиком русской литературы, ваши произведения будут изучаться в учебных заведениях, много переиздаваться. Потому и письма будут опубликованы. В том числе, ваша переписка с Сувориным, с Билибиным, со многими другими.
На него было больно смотреть.
– Как же так… Но это же мои письма, моя личная жизнь! Кто имел право?.. Постойте, и даже сугубо личные послания – к жене тоже?..
– Увы… Помните, как вы называли в письмах Ольгу Леонардовну? «Славная моя актрисочка», «Дусик». А то писали и так – «Здравствуй, собака!»
Чехов порывисто встал, потом опять опустился в кресло, низко склонил голову, обхватил её руками, ссутулился и замер в этой позе.
В эту минуту я уже пожалел о своей авантюрной затее.
– Антон Павлович, как бы понятнее… В общем, это будет уже другое время, совсем другая Россия, другие законы, другая власть. Поверьте… подробности вам лучше не знать.
Он резко встал.
– Нет, уж, милейший, позвольте! Вы поймите: ведь это даже не перлюстрация! Это… это чёрт знает что! Читать чужие письма – это мерзко, подло, наконец! Тем более – публиковать!
«Ох, старик, хоть бы ты не соврал, – подумал я, вспоминая хозяина странной лавки. – Хоть бы он не помнил этого разговора…»
– Не знаю, Антон Павлович, станет ли вам от этого легче, но той же участи удостоились и иные ваши коллеги по перу, признанные классиками отечественной литературы. Их переписка тоже увидела свет.
Чехов опять сел за стол. Долго смотрел куда-то в угол комнаты.
– Скажите. Ну, раз вы оттуда… из будущего… Может быть, вам по силам как-то изменить это? Нельзя ли… отменить публикацию моей переписки?
Я вынужден был ответить:
– Увы, Антон Павлович. Никто не вправе изменить историю…
Чехов сник, сделался каким-то жалким, беззащитным.
– Понимаете, я почувствовал себя человеком, который долго жил в своём доме и только сейчас заметил глазок в двери, ведущей в спальню… Зачем вы здесь? Чтобы сказать мне всё это? Сделать мне больно?..
– Нет, что вы! Совсем наоборот!
Боже, дай мне сил и слов…
– Антон Павлович, я знаю, сейчас вам очень тяжело, буквально вчера вы присутствовали при полном провале вашей «Чайки». Но, поверьте, это было роковое стечение обстоятельств. Несколько позже вашу «Чайку» поставят в другом театре, и она будет иметь огромный успех. Её начнут ставить в разных странах, и там она тоже пойдёт на ура!
Вот тут он, наконец, надел своё пенсне. Долго смотрел на меня сквозь стёкла, потом тихо сказал:
– Знаете. Давайте так. Будем считать, что я… почти поверил вам… Оставим мою переписку. Хотя… Знай я о том, что ждёт меня и моё имя в будущем – поверьте, вообще никогда не взялся бы за перо!
Он встал и начал размеренно ходить вдоль письменного стола.
– Раз вы оттуда… раз всё знаете… скажите: что случилось там, на премьере? Вы ведь читали прессу?
Он нервно взял со стола газеты.
– Вот, извольте, «Биржевые ведомости»: «Это не чайка, просто дичь». «Сын отечества»: «Пьеса провалилась… так, как редко проваливались пьесы вообще». А каково читать «Петербургский листок»: «“Чайка” погибла. Её убило единогласное шиканье всей публики. Точно миллионы пчёл, ос, шмелей наполнили воздух зрительного зала. Так сильно, ядовито было шиканье». Скажите, за что они меня так?..
Я помолчал, собираясь с мыслями.
– Антон Павлович, вспомните: вы ведь вынашивали сюжет «Чайки» не один год. Вам хотелось освободиться от штампов и пойти против «условий сцены», верно? В этом всё и дело. Вас не поняли. Вы опередили своё время!
– Да, «Чайка» виделась мне как трагичнейшая комедия в русской комедиографии, – тихо ответил он.
– Вот-вот, обратите внимание: вы и сейчас назвали пьесу комедией! И публика ждала именно смешного! Не случайно комедийная актриса Елизавета Левкеева избрала «Чайку» для собственного бенефиса. Зрители ждали появления на сцене именно Левкеевой, однако роли для неё в спектакле не нашлось, и в тот же вечер бенефициантка играла в водевиле «Счастливый день». Всё так, ваши биографы ничего не напутали?
– Да-да…
– А кто первым поставил «Чайку»? Евтихий Карпов, верно? Судя по всему, режиссёр совершенно не понял, не осознал всю глубину пьесы. Как, впрочем, и большинство актёров. За исключением, разве что, Веры Комиссаржевской, которую вы так любили. Простите… любите.
– О да, Вера Фёдоровна – просто чудо! Вот уж кто всегда понимал меня как никто. Бедная, ведь она играла на премьере, едва сдерживая рыдания – перед ней, в зале, сидела шикающая, даже свистящая публика…
– Антон, Павлович, а правда, что Евтихия Карпова вы… недолюбливаете?
Чехов грустно улыбнулся.
– Признаюсь честно: долюбливать этого человека мне не за что. Во всяком случае, едва ли кто-то осмелится назвать наши с ним отношения дружескими.
Между тем – я всё острее ощущал это – оплаченный годом моей жизни час истекал.
– Антон Павлович, а как вы относитесь к Немировичу-Данченко? И к Станиславскому?
– О, это совсем иное! Это весьма и весьма талантливые люди!
Я улыбнулся.
– Так вот, знайте: как бы вы не отказывались, Немирович-Данченко уговорит вас, и вы разрешите ему поставить «Чайку» на сцене МХАТа. Над постановкой будет работать и Станиславский. Он же, кстати, сыграет Тригорина. В спектакле будут заняты ваша жена Ольга Леонардовна, Всеволод Мейерхольд, Мария Роксанова. И справедливость восторжествует – будет полный триумф, поверьте!
Чехов долго молчал, погружённый в свои мысли. Потом поднял на меня глаза.
– Господи, как бы мне хотелось верить… Как хочется увидеть это…
Я вскочил с дивана:
– Так ведь увидите, Антон Павлович, увидите! Это будет… настоящая феерия! Вспоминая об этом, Станиславский потом признается: «Наконец, мы почувствовали успех, и неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь». Вы только потерпите, Антон Павлович.
Он рассеянно вертел в руках своё пенсне.
– Долго?
– Два года. С небольшим.
Он задумался.
– Долго… Я ведь болен, вы, наверное, знаете. Два года – это сейчас для меня немалый срок.
– Да, Антон Павлович, о вашей болезни мне, к сожалению, известно…
Тут он подсел ко мне на диван близко-близко, вплотную, и крепко сжал мою руку.
– Скажите… Вы же можете сказать, вы знаете? Когда я умру?
У меня перед глазами мелькнули знакомые строки из Википедии, фотографический портрет писателя, умный, чуть ироничный взгляд. Я отнял у Чехова свою руку.
– Антон Павлович, вам ведь известно: время ухода человека из этого мира не нам определять. У каждого свой срок. Знаете, тот странный человек, что отправил меня сюда, к вам, сказал, что после этой встречи вы не будете помнить о ней. И всё же… позвольте, я не стану отвечать вам на ваш вопрос.
Он помолчал, вздохнул.
– Что ж, воля ваша.
Потом пристально взглянул мне в глаза.
– Однако… хотя бы диагноз. Всё-таки чахотка?..
Мне вспомнилось прочитанное в Интернете. В 2018 году английские учёные опубликовали результаты своих исследований. Они изучили химический состав проб с пятна крови на рубашке, в которой умер писатель. Были обнаружены протеины, способствовавшие образованию тромба. Он, как считают исследователи, привёл к закупорке сосудов, последующему кровоизлиянию в мозг и, в конечном итоге, стал причиной смерти. Если б не этот тромб, Чехов, наверное, прожил бы со своим туберкулёзом ещё не один год.
Пока я раздумывал, говорить ли об этом, он опять взял меня за руку.
– Знаете, Бог с ним, с диагнозом! В конце концов, какая разница, от чего умирать. Скажите лучше: вы, в самом деле, ничего не можете сделать с моими письмами? Никак нельзя… воспрепятствовать их опубликованию? Господи, как это скверно…
…И тут время вышло. Я вновь оказался в той же полутёмной лавочке. И напротив меня сидел тот же странный старик, хозяин ломбарда. Сидел и молча смотрел на меня.
Забыв попрощаться, я вышел.
Тихое, застенчивое бабье лето ласково обволакивало всё вокруг своей невзрачной красотой. Я медленно шёл по узкой улочке старинного купеческого города, не замечая ничего вокруг. Шёл и нёс с собой, внутри себя тёплое, одновременно и тревожно-радостное, и грустное, щемящее чувство – ощущение прикосновения чеховской руки.
2022 г.
Поживем ещё!
Сколько помню, пил Серый всегда и помногу. Но пил как-то тихо, неприметно, никому не мешая. Ближе к концу смены «скооперируется» в цехе с дружками-алконавтами, «дернет» красненького. По дороге домой пару пива в пивнушке примет. А уж дома «четвёрочкой» с удовольствием «догоняется». До вытрезвителя никогда не доходило, под забором Серый тоже не валялся, однако и трезвого его застать было невозможно.
С годами выработался у него этот привычный жизненный маршрут, с которого он, за редким исключением, никогда не сходил: завод – пивнушка – гастроном – дом – утром опять завод. Время от времени добавлялся ещё пункт приёма стеклопосуды. Сдав «пушнину», Серый, разумеется, заворачивал в тот же гастроном и «конвертировал» вырученную сумму в очередную порцию спиртного.
Росточка невеликого, сухонький, как подросток, сутуловатый, он ещё и заикается. Зато жена его, Серафима – женщина дородная, видная, кровь с молоком. Как Серому в молодости удалось окрутить такую, понять мудрено. Хотя давно замечено: есть в таких вот мелких, но жилистых мужиках что-то такое, за что сильно любят их бабы.
Мужнино питьё Серафиме, понятно, не в жилу. Хоть и работает Серый справно, и ведёт себя спокойно, по отношению к супруге уважительно – он вообще человек безвредный, но кому понравится, когда каждый день-то глаза у человека залиты. Это тоже понять надо.
– Хоть бы уж на старости за ум взялся, – негромко выговаривает Серафима мужу.
– А… а… а я что? П… п… пропиваю, что ли, все? Или м… м… мешаю кому жить?
– Да ведь сгоришь ты совсем с этим вином – постольку глотать-то!
– Н… н… не сгорел ведь п-пока…
– Только что «пока». Небось, недолго осталось, если так глотать.
– Н… не… не м-мешаю никому.
Двое их сыновей уже взрослые, в доме достаток, но это каждодневное пьянство кого хочешь достанет. Даже такую спокойную женщину, как Серафима.
И вот как-то удалось ей уговорить мужа закодироваться. На год.
Закодировали. День живет Серый трезвый, неделю. Терпимо вроде. Только не хватает чего-то. Словно с круга сбился человек. Ему бы после завода в гастроном сбегать – а зачем? Ужинать садятся, Серому бы стаканчик принять – а нету. И, что самое противное, не хочется.
Изумился тогда Серый («К… к… как люди т-так жить могут?») и заскучал. Да нет, не то слово – в тоску неуёмную впал, во как! Прямо не знает, куда деть себя. Глаза грустные, как у не доеной коровы, плечи поникли больше прежнего. Сядет, бывало, вечером на лавочку возле подъезда и смотрит куда-то в неведомое, курит, молчит подолгу, тягуче.
А через месяц – как-то случайно вышло – все стало на место. Теперь так: приходит трезвый человек с завода, умывается, берет авоську и шагает в гастроном. Покупает пару бутылок лимонада, за ужином чинно выпивает стакан-другой сладенького и… всё. По мере накопления стеклотары Серый, как и прежде, набивает старенький рюкзак и плетётся к пункту приёма «пушнины», на вырученные деньги опять берет лимонаду. Сдачу – жене. Единственно, в пивнушку ходить перестал: там лимонад не держат.
Сима прямо расцвела вся от такой жизни. Слышно, даже к тому доктору, что кодировал, ходила, какой-то презент ему отнесла.
Да и сам Серый посвежел с лица, округлился, даже слегка зарумянел щеками, что твоя девка на выданье. В компаниях он бывать не перестал. А компании его, известно, все те же: скинуться, гонца послать да «принять на душу». Серый друзей не бросал. Садился со всеми, как и прежде, клал на общий стол немудреную закусь, наливал в свой стакан лимонадику и чокался с друзьями. К незлым насмешкам приятелей он вскорости привык, да и надоело им всем подначивать его. Что удивительно, после таких застолий глаза у Серого начинали блестеть, словно и он тоже «приобщился к высокому искусству».
Проходит год. Захожу как-то в пивнушку – Серый сидит с кружкой.
– Ты что, Серый? А кодировка?
– В… в… вчера год исполнился. Теперь м… м… можно.
– Опять керосинить будешь?
– Не, я только п-п-по кружечке. П… п… по одной.
«По кружечке» Серый принимал недолго, потом перешел на две, потом стал садиться с друзьями за общий стол, но теперь уже без лимонада…
Еще через неделю Серафима сводила мужа к тому же доктору, и Серого снова закодировали. Только теперь он уже не тосковал: сразу схватил авоську – и в гастроном, за лимонадом. Продавщица Люська подначивает по-доброму:
– Что, Серенький, опять на сладенькое потянуло?
Серый улыбается выцветшими глазками и мелко кивает:
– К… к… опять! П-поживем ещё.
Дома его ждёт довольная Серафима.
1989 г.
Прости, дед…
Старшему лейтенанту Чичинову А. Л.,
погибшему в 1945-м под Познанью, посвящается.
…Наверное, я мог бы как-то «вырулить» из той ситуации. Но ведомый – совсем мальчишка, без боевого опыта – отстал от меня, пришлось «бодаться» с тремя «мессерами» в одиночку.
Очередь МЕ-109-го пришлась в мотор. Мой МиГ сначала задымил, потом движок заклинило, и самолёт начал падать.
Случалось, немцы грешили этим: расстреливали спускающегося с парашютом лётчика. В этот раз обошлось.
Вовремя сгруппировался, приземлился нормально. Начал соображать: где линия фронта, куда двигаться к своим?
И тут память швырнула меня куда-то далеко-далеко…
***
Я никогда не верил в чудеса. Сколько помнил себя, всегда старался объяснить «необъяснимое» с позиций законов физики, той же аэродинамики. Но тот мой первый самостоятельный вылет на истребителе много лет не давал мне покоя. Как раз своей «необъяснимостью».
Инструктор сразу выделил меня среди других курсантов. Чувство машины – это не всякому дано. За рулём автомобиля тоже каждый ведёт себя по-разному. Кто-то вызубрил теорию, потом начал ездить – а всё равно, один делает это «легко и небрежно», а другому так до конца жизни и не удаётся «срастись» со своим «конём на колёсах». То же самое и с самолётами.
Я сразу, с ознакомительного вылета, почувствовал машину. Понятно, до опыта и самостоятельных полётов было ещё далеко. Но какое-то «родство душ» с этой ревущей штуковиной я ощутил уже тогда.
У лётчиков-инструкторов есть такое негласное соревнование: чей курсант первым совершит самостоятельный полёт. Амбиции? Да, наверное. Но… авиация всегда стояла этаким особняком в рядах вооружённых сил. Летуны даже придумали для себя отмазку: «Когда Бог раздавал уставы, авиация была в воздухе».
Инструктор сделал ставку именно на меня. В плановой таблице мне давалось куда больше вылетов, чем другим курсантам. Иногда даже нарушались правила: больше трёх вылетов новичку за день не положено (требование врачей), но у меня бывало и по четыре, и даже по пять заправок.
В день, когда надо было вылетать самостоятельно, выяснилось, что у меня не хватает для этого одного парашютного прыжка. Командир звена аж подпрыгнул:
– Ты куда смотрел?! – окрысился он на инструктора. – Почему не контролировал? Ведь сегодня же и у Яшки из третьего звена первый самостоятельный! Нам что, вторыми быть?
Командир звена побежал к РП (руководителю полётов), быстро вернулся:
– Игорь, бегом к «Аннушке», я договорился, тебя сейчас быстренько сбросят, потом полетишь сам. Нам, главное, Яшку опередить.
Наверное, никогда, ни до, ни после этого случая я не получал такую дозу адреналина. Кстати, медики категорически запрещают лётчикам в один день и прыгать с парашютом, и летать. Но – авиация же…
Специально для меня (!) запустили АН-2, дали мне какой-то парашют (вообще-то, курсанту положено самому укладывать), быстренько сбросили меня с высоты 900 метров, после приземления ко мне тут же подъехал на УАЗике тот самый «кэз» (командир звена).
– Бросай парашют, ребята соберут!
Я сел в кабину самолёта. Загерметизировался. И пошёл в свой первый самостоятельный полёт…
***
Странное это было ощущение. Вроде бы только что был на дворе 2022-й год, я – давно уже расставшийся с авиацией, можно сказать, пожилой человек – и вдруг: Великая Отечественная, сбили, приземлился, надо искать своих…
Вот тогда-то и вспомнилось. Какая-то забавная штукенция, найденная мною на чердаке старого, под слом, дома. И там – подобие дисплея. С цифрами.
Когда я много раз смотрел на фотографию своего деда по отцу (ох, и красив был Чичинов А. Л.), мне всегда приходила в голову одна и та же мысль: «Эх, дед, как же тебя угораздило, до старлея дослужился, прошёл огонь и воду – 1945-й год, войне конец, а тебя убили…»
И мне – несмотря на то, что никогда не верил в чудеса – очень хотелось чуда. Этакую машину времени – чтобы попасть туда, в 1945-й, и как-то прикрыть, спасти деда от смерти.
И вот – эта странная «штукенция». С запылённым дисплеем. Я просто машинально набрал «апрель 1945». И нажал «Enter».
…И тут меня сбили.
***
Я попытался вспомнить полётную карту. Так, граница с Польшей – мы давно уже на этой территории. Я вылетел с аэродрома «подскока», здесь совсем рядом. Пока кружился с «мессерами», не до наземных ориентиров было. Где наши?
И тут – сдавленным голосом:
– Лётчик, ты где?
– Здесь я.
Трое ребят, пехотинцы. Улыбки до ушей:
– Хорошо ты упал – ближе к нашей линии. Боялись, что фрицы тебя захватят. Давай за нами.
***
А в том моём первом самостоятельном вылете опять же сыграли свою роль амбиции. «Борт» мне достался старенький, лобовое бронестекло пожелтело, взлёт был против солнца, колхозники жгли в это время солому, дым мешал наземной ориентировке. Ну, и, конечно, волнение, нервы – куда без этого.
В общем, я изначально неверно построил маршрут, на первом-втором развороте дал лишнего крена, начал заходить на посадку и понял – не вписываюсь. Чуть-чуть, но не попадаю на нормальную глиссаду.
Это уже потом, позже, когда с налётом часов появился опыт, я подобные ошибки в пилотировании исправлял легко. А в тот день просто даванул ручку управления резко влево и на себя, практически до упора. И прибавил оборотов двигателя до максимума. И до последнего надеялся, что «впишусь», что не придётся уходить на второй круг (ай, какой позор перед друзьями-курсантами).
Руководитель полётов увидел меня на четвёртом развороте – висящим этакой вороной, практически падающим с креном более 50 градусов – и заорал в голос:
– «Два-двадцать-девять», на второй круг!!!
И я ушёл на второй круг. Спокойно завершил полёт и нормально сел. А вечером получил свою долю подначек от друзей.
И ещё был разговор с лётчиком-инструктором, неофициальный разбор полётов.
– Игорь, что там у тебя на четвёртом развороте произошло?
Я рассказал всё, как было. Все параметры полёта. Инструктор – молодой мужчина, лет 30-ти – сделался белее снега.
– Что ж ты делаешь?.. У меня же двое детей. Если б ты гробанулся, меня посадили бы.
В общем, выяснилось: по всем законам аэродинамики, тот мой самостоятельный вылет просто обязан был закончиться катастрофой. После падения самолёта мои останки выкапывали бы метров с трёх из-под земли, чтобы родителям хоть что-то отправить для похорон.
В чудеса я так и не верил. Но этот день запомнил навсегда. И не находил ответа на вопрос: почему не погиб тогда?
***
– Ребята, мне бы сообщить начальству…
– Да ладно, летун, уже позвонили куда надо! Завтра приедут за тобой. Пока ты наш гость. Моли Бога, что так обошлось.
Странно. Моя психика продолжала «работать» в обычном ритме. Словно и не было этого необъяснимого, фантастического скачка во времени. Я смотрел на солдат – в гимнастёрках того времени, я пил с ними водку, сам смотрел на своё обмундирование, тоже военное. И… не удивлялся. Почти.
Мысль была только одна: «Неужели я так много думал о том, чтобы мне оказаться в этом 1945-м, чтобы попытаться как-то спасти деда?»
– Народ, послушайте, а никто из вас не знает такого старшего лейтенанта Чичинова?
– Как? Чичинов? Нет, у нас во взводе такого нет.
Тут подал голос солдатик, сидевший поодаль:
– А что это за фамилия? Вроде не русская.
– Да,– ответил я,– алтайская.
– А, так алтаец есть у нас один – в другом взводе. Вроде похожая фамилия. Он тебе кто – родственник?
Дыхание перехватило.
– Ребята, а как мне его увидеть?
– Так поздно же уже. Ночь на дворе. Давай, завтра попытаемся его найти.
…А на следующий день мой дед погиб. В 1945-м. Под Познанью.
2022 г.
Как Ромашка девочку вылечила
Почти сказка
В небольшом городе, далеко-далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, жила одна девочка. Она не могла ходить. В раннем детстве у неё заболели ножки, и с тех пор она ездила в специальной коляске. Вернее, она не сама ездила – когда надо было куда-то поехать, её в этой коляске катали мама и папа. Иногда бабушка.
Когда девочка была дома, она часто смотрела в окно. На улице всё время резвились дети. Они катались на качелях, весело прыгали через скакалку и играли в «догонялки». Девочке тоже очень хотелось поиграть с детьми. Но играть в «догонялки», сидя в коляске, сами понимаете, не очень-то удобно. Если уж совсем честно, то просто не возможно.