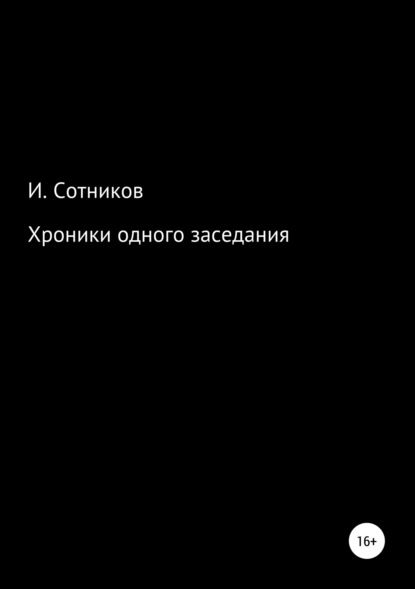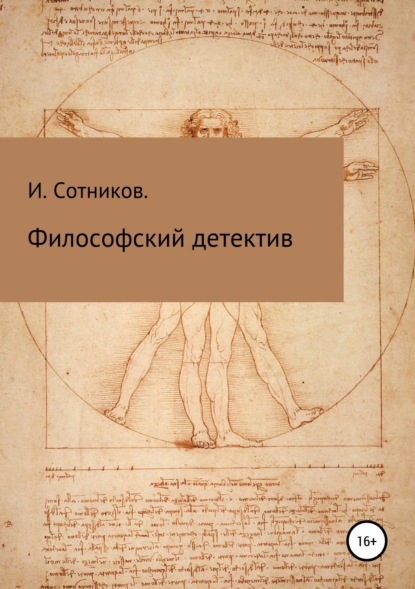Полная версия
Полная версияПолная версия:
Игорь Сотников Палиндром
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Кто не платит по своим счетам, тот всегда расплачивается.
Глава 1
Репетиция оркестра
Не может быть идти и речи об объективной точке зрения или о такой значимости мнения, когда существует субъективный взгляд на эту объективность, так и стремящегося сделать её объектом своего права. А что уж говорить о её качественной характеристике, независимости и её подчасти, неприкосновенности. Которая по своей сути есть эфемерность или умозримость, как кому больше видится, и которую в реальности нет никакой возможности достичь, даже если ты один из столпов общества, априори уже предполагающего иметь в себе такую характеристику независимости.
Ну, а сами столпы общества, это такие невероятные люди, что вот так сразу с ходу, и не объяснишь, что это значит и кто они вообще такие. И, конечно, они не какие-нибудь там столбы, как о них всегда думают не столпы, которые как упрутся в чём-то своём, то их и не сдвинешь, а они так сказать, если и не освещают всем нам путь вперёд, то уж точно указывают собой одно из направлений пути.
И понятно, что всех этих столпов вот так запросто на улице или в том же кино не встретишь, а они, как правило, пешком не ходят и пребывают в выбранные ими помещения для своего в них помещения (эти помещения, как только становятся выбранными, то сразу меняют свой статус, вплоть до резиденции) исключительно на своих люксовых автомобилях. Что же касается самих этим помещений или мест их пребываний, то с ними тоже не всё так просто. Ведь если вначале человек собой определяет избранность этого места, – вот здесь меня похороните, – то затем уже само место определяет собой человека, – здесь покоится с миром и никого не достаёт, такой-то человек.
Ну а в случае с этими столпами общества, то их выбор места приобретает чуть ли не символическое значение. И если на первых порах, именно самим выбором столпа определяется значимость места, то вскоре эти стены резиденции или того же дома, как качества этого места, впитав в себя столько значимых последствий нахождения в его стенах таких важных людей, как эти столпы, уже сами становятся настолько значимы, что одно только нахождение в этих стенах или под крышей этого дома даже самого никчёмного человека, что-то, хоть и не понятно что, да уже значит.
И вот даже если тебе суждено было стать одним столпов общества, то и в этом случае тебе чтобы добиться относительной неприкосновенности, когда-нибудь да придётся пойти на определённые кем-то другим, но только не тобой (тебя только спросили о твоих пожеланиях) жертвы и потеснить себя, хотя бы в том же ушном пространстве, куда будет скрытно от всех помещён микронаушник.
Впрочем, чтобы поместить себе в ухо микронаушник, необязательно быть сразу недосягаемым столпом общества, а можно быть фигурой и помельче, и не столь важной и авторитетной (в общем, такая правда жизни, на первых порах в основном используются чужие уши; и если с этим делом не выгорит, то тогда уж придётся греть свои). Хотя всё же столпом, но только в своей специализированной, общественно значимой области. Как, например, будучи спецагентом, где его специализация отвечает за свою специализированную область применения, а то, что этот спецагент не он, а она, то это объясняет всё остальное.
А Она, это ещё какой столп общества! И на нём, а вернее на ней (опять дискриминация, теперь по принципу правописания; агента разве мало – и даже (–а) окончание не исправляет ситуацию) крепится не только семья, но и целая идеологическая установка. А этого игнорировать, а значит дискредитировать по принципу равнодушия, никто не имеет права; да и не смеет.
Но вернёмся к микронаушнику, в своё время секретно и очень незаметно помещённому в ухо этому не самому простому спецагенту – чем он (понятно, что она, но пока не устранены эти дискриминационные правила правописания, придётся раз за разом оговариваться) краше, тем больше опасности он (а) в себе для потенциальных врагов несёт и представляет. И в данном случае, на её лице вся эта опасность в очень не простой степени для смотревших на неё людей присутствовала; и при этом без лишней краски на лице. Так вот, если микронаушник кому-то в ухо вставлен, то он там оказался уж точно не для того чтобы музыку слушать, а для этого есть свои, достаточно веские, и что уж скрывать, хотя и надо, касающиеся больших секретов причины – чем микронестее наушник, тем глобальней секрет.
Но все эти большие секреты, к которым так скрытно идут носители этих микронистых наушников, только часть того и при этом только невидимая, что в себе несёт это спецсредство в ухе спецагента. А вторая, не менее важная, чем эти секреты часть, характеризующая эти наушники уже с технической стороны, включает в себя то, что ты находишься постоянно на связи и под своеобразным контролем того, кто ведёт тебя под средством этой связи. А вот куда он тебя ведёт, а может и заведёт, то вроде бы всё ясно и маршрут следования был обговорен заранее, но на практике всё выглядит совсем не так, а что уж говорить о том, что в итоге получается.
– Как только минуешь пункт пропуска на воротах, – инструктировал спецагента перед выходом, само собой инструктор, раз он так внушающее категорично во всех смыслах выглядит (попробуй ему только что-нибудь сказать поперёк или против, – недопонимание можно, – мигом забудешь, как тебя и всех вокруг в этой белой палате звали) – а затем второй и третий на пути к зданию, вслед за этим, пятый, седьмой уже на входе, после чего первый поворот направо… или всё же налево… Вот чёрт! – неожиданно для всех, вдруг запутавшись в сторонах, задержался в своих тягостных мыслях инструктор.
И это был первый тревожный звоночек для Джейн (так звали спецагента – чтобы больше не путаться в его, тьфу, её именовании, пришлось пойти на беспрецедентные меры и частично раскрыть её имя), к которому надо бы было прислушаться – если инструктор уже на подготовительном этапе, так, в самых простых вещах путается, то кто знает, что он там ещё может напутать. Но Джейн всегда чётко следует букве устава той спецслужбы, к которой она приписана – сомневающимся здесь не место (если у тебя появились сомнения, и не дай бог в своём руководстве, то либо ты руководство, либо ты не в себе – это была уже расширенная версия девиза этой спецслужбы со стороны руководства) – и поэтому даже не смеет подумать, что инструктор там чего-то перепутал или забыл.
А он всего лишь её таким образом проверяет на сообразительность или может, на присущую всем агентам женского рода болтливость (а их болтливость, по своей сути есть их желание, как можно шире распространить своё влияние) – что поделать, если представители спецслужб до сих пор с опаской поглядывают на представительниц спецслужб. – А они уже не такие редкие исключения из правил, – так представители спецслужб, их, представительниц, называют.
И, конечно, Джейн, хоть и с трудом, но выдерживает эту проверку на свою прочность – она ни единым словом не выдала себя и самого инструктора, рассказав всем не то, что она о нём думает, а то, что записано о нём в штатных документах: непроходимый, но зато на редкость пробивной тупица, рекомендуется использовать в качестве затычки в каждой бочке, либо же на прорывах, в самых сложных и секретных операциях, где запланированный процент выживших даже не планируется. И всей этой её невозмутимости и крепости характера, надо непременно сказать, поспособствовала её целеустремлённость в достижении поставленной перед собой цели (что за цель, то это большой секрет), ради которой она и идёт на огромные для себя жертвы – редко заглядывает в зеркало, совсем не красится и модно не одевается, а значит, как вроде не выделяется – это как раз её и выделяет – и всячески игнорирует в свой адрес лестные предложения со стороны тех, кто как бы по своей природе уже движим уделять всяческое внимание женской красоте и в общем.
Но всё это категорично выглядящего инструктора не волнует. Да и он к тому же уже нашёл выход из этого положения. – Значит так, свернёшь в сторону западного крыла здания, – сказал инструктор, – а дальше тебя будет вести спецагент Слоун. – А вот и второй тревожный звоночек, который прозвучал так именительно. И вот здесь-то Джейн не сдержалась и, искривившись в язвительной ухмылке, таким образом выразила своё отношение к такому выбору своего ведущего со стороны руководства.
Она ведь отлично знала этого Слоуна. А так как она его знала не так, как бы он хотел того, то и отношения между ними складывались более чем противоречиво, если не сказать больше – в вечном соперничестве, где никто из них не утруждал себя придерживаться каких-либо правил. Но такая ситуация, с появлением такого соперника, не то чтобы не нова, а она изначально предопределена такого рода событием – зачислением в строго до этого дня мужской коллектив, представительницы прекрасного пола, которая по всем своим внешним параметрам отвечает заявленным характеристикам.
И как только такая представительница разбавляет собой этот столь суровый мужской коллектив, то в нём непременно появляется свой антагонист, у которого на неё имеются прямо противоположные ей взгляды, которые он и скрывать не собирается, и при каждом удобном случае демонстрирует их перед ней или перед всеми, как, в общем, получится. А всё это, так сказать, сказывается на качестве несения ими службы, где личное начинает мешать выполнению поставленных перед ними служебных задач. Что совершенно недопустимо, зная о том, какие важные задачи ставятся перед ними. И чего естественно не могут допустить руководители всех этих специальных служб.
А так бы они (главы спецслужб) и сами давно столько прекрасных представительниц женского пола ввели в состав вверенных им подразделений, что, пожалуй, пришлось бы штат их подразделений непомерно раздувать. Правда узнай о такой их самодеятельности их жёны, то они бы точно такого …безобразия (самое допустимое из тех слов, какими бы они наградили это всё бл**о) не потерпели – ведь они и сами, так сказать, бывшие подчинённые, у которых теперь уже в подчинении находятся сами их бывшие командиры, и они отлично знают, на что способны все эти подчинённые, смотрящие на тебя, командира, с придыханием и с широко открытыми глазами.
Но времена нынче больно требовательные к равноправию, и командирам и их командиршам, хошь, не хошь, а приходится следовать его требованиям и разбавлять свои чисто мужские подразделения представительницами прекрасного пола. Правда командирши командиров этих служб и здесь приложили свою руку, настоятельно рекомендуя брать на службу самых невзрачных и малопримечательных претенденток. – Их и маскировать легче. – Достаточно убедительно аргументировали свой выбор командирши. И даже становится непонятно, как они так просмотрели Джейн, которая со своими броскими внешними данными, при виде которых так и бросало в дрожь всю мужскую часть комиссии по зачислению в ряды спецслужбы, совсем не имела шансов быть зачисленной в состав этого спецподразделения, одной из специальной секретной службы.
Наверное, просмотрели. А может быть, командирши успокоились, когда увидели, кого зачисляют в штат спецслужбы – невыносимо на неё смотреть без другого рода содрогания, до чего же противную Скарлетт (назло врагу, так её прозвали), что ей для того чтобы замаскировать этот её вызов всему контрпродуктивному мужскому полу, уж точно никакая маскировочная краска не поможет. И, возможно, что как раз этот её устрашающий вид, так повлиял на командирш, что они, испугавшись за себя (может это какая-то зараза), всё побросали и, бросившись к зеркалам наводить на себя краску, таким образом, без предварительного просмотра и пропустили мимо себя эту Джейн.
Что же касается Джейн, то, как только на неё, а вернее, в неё, было помещёно это микроскопическое спецсредство, и надо было проверить качество связи, то Джейн в очередной раз убедилась, насколько она была права по поводу этого Слоуна. И этот Слоун, вместо того, чтобы нейтральным, мало заинтересованным голосом начать отсчёт: «Раз, раз, это проверка связи», – берёт и задерживает своё, и заодно дыхание Джейн, которая со смешной выразительностью лица стоит на месте и так внимательно ко всему вокруг прислушивается. А когда она начинает понимать, что тут дело не в самой связи, а в чём-то другом, то тут-то этот Слоун, на неё и обрушивает свой сарказм. – Что. Ждёшь, не дождёшься, и как я слышу, с придыханием желаешь услышать звук моего голоса?
Отчего покрасневшую Джейн всю нервно передёргивает, и она уже готова словесно взорваться, для чего она смотрит в сторону оперативного штаба операции, всё сплошь состоящую из представительных господ офицеров и среди них нет ни одной дамы. Но вид этих храбрецов, всегда таких смелых за чужими спинами, и с таким внимательным любопытством на неё смотрящих, и так и ждущих от неё чего-то подобного истерического, – они все заодно, и только этого от неё и добиваются, – удерживает Джейн от набежавших горлом эмоций, и она только согласно им кивает, мол, связь обнаружена.
Но вот почти что все подготовительные этапы пройдены, и сейчас Джейн, миновав все те, стоящие на её пути к цели заслоны в виде контрольно-пропускных пунктов, уже стоит лицом к лицу у последнего препятствия в виде грозных сотрудников службы безопасности, которые с неприкрытым недоверием взирали на каждого допущенного досюда человека. А что поделать, такая у них служба, никому, и иногда и себе нельзя верить, пока спецсредства, тот же металлодетектор, не убедят их в обратном.
И этот представший перед ними человек, с виду вроде самый простой турист, вполне возможно, что на самом деле и не таков, а он, как уже потом выясняется, имеющий скрытные намерения противник всего и вся, а особенно установленных порядков, в которые он так и стремится своей рукой внести радикальные изменения. И его только впусти на порог дома и там оставь без присмотра, так он на стене напишет нехорошее слово «Здесь был Леопольд», прихватит какой-нибудь сувенир на память, – да тот же окурок, который вице-президент бросил мимо урны, – ну и ещё много чего непотребного. А если же всё-таки внимательные взгляды за ним сотрудников безопасности удержат его от этих вандальских действий, то он всё равно на этом не успокоится и постарается оставить о себе душещипательное воспоминание, пустив зловонные газы.
И хотя Джейн совсем не была похожа на подобного рода субъектов, всё-таки, судя по той пристальной внимательности, которую к ней проявил сотрудник службы безопасности Стив, отчего его глаза даже проглядывались сквозь тёмные очки, то его не введёшь в заблуждение внешним безразличием к такого рода неприемлемому поведению. А этот Стив, после того как он женился на красавице Мери, такой милой и пушистой с виду, под личиной которой, как вскоре им выяснилось, скрывалась жуткая и драчливая стерва, доводящая его до белого каления, был научен своим горьким опытом, что нельзя доверять видимости и всегда нужно зрить в самую суть. С чем он и подступил к Джейн.
– Что у вас в сумочке? – жёстко спросил Стив, явно проверяя Джейн на стрессоустойчивость. О чём, то есть о такого рода проверках, Джейн, будучи прекрасно осведомленной насчёт работы внутренней кухни спецслужб, прекрасно знала – кроме общего визуального осмотра, также проводился выборочный. И он поручался самому проницательному и умудрённому опытом, крайне недовольному своей жизнью сотруднику, который и высматривал в людях все эти отклонения от общих правил, к которым, в общем-то, и он сам был склонен. И Стив как нельзя лучше подходил на эту роль.
Ну а в её случае, пока осталось невыясненным, что же привлекло в ней такое пристальное внимание со стороны Стива. И что касается её сумочки, то она уже прошла все предусмотренные виды проверок, – она проследовала через металлодетектор, была визуально ощупана и просвечена рентгеном, – и если бы там было что-то запрещённое, то это давно бы уже было выявлено. Но этому придирчивому проверяющему Стиву, всё равно этого недостаточно. – Хотя, возможно, он о чём-то догадался. – Взволновалась, но только про себя, Джейн, с улыбкой говоря в ответ: «Мне, кажется, ничего запрещённого. Но вам, я думаю, виднее». С чем она раскрывает сумочку и показывается её содержимое столь приметливому глазу Стива.
Стив внимательно, с явным недоверием вглядывается во внутреннее содержимое сумочки и вроде бы ничего запрещённого для проноса внутрь здания не видит. Что, конечно, его не может устроить – его напарники могут его заподозрить к особой пристрастности к миловидным красоткам (уже третья за сегодняшнее утро), а это попахивает непрофессионализмом – и поэтому он, переведя свой взгляд на Джейн, начинает, да так пристально, что трудно отвести от него свой взгляд без опаски быть заподозренным в чём-то предосудительном (отводят в сторону свой взгляд лишь те, кому есть что скрывать), уже в ней искать запрещённые к проносу внутрь здания этого дома вещи – понятно, что только умозрительного характера.
А эти запрещённые к проносу умозрительные вещи, между прочим, из-за того что их очень трудно распознать, несут в себе куда большую опасность, чем сами запрещённые к проносу вещи, служащие всего лишь инструментами проведения в жизнь этих страшных замыслов. Ведь за всеми подвергающими в ужас преступлениями, всегда стоит чей-то замысел. И если суметь на стадии приготовления – замышления – распознать то, что заваривается в этой голове (а туда можно заглянуть только через глаза), то можно будет предотвратить готовящееся преступление. Чем видимо сейчас и занимался Стив.
– Меня своей красотой не собьёшь с толку. И если ты что-то скрываешь, то я обязательно в тебе это высмотрю. – Так и говорил прожёвывающий жвачку взгляд Стив. Но Джейн умеет выдержать взгляд, тем более такой, только с виду независимый и хладнокровный. Тогда как много о чём говорящая дрожь в ногах Стива, через пол уже начинает передаваться Джейн. И эта дрожь возникла не на пустом месте, а от понимания того, что эта, записанная в пропуске, как мисс Селектор, как оказывается, видит его насквозь, и при этом в мельчайших подробностях его подноготной, как его подкаблучника, дома ставят не в пример, а в угол за его беспримерно наглое поведение – он посмел иметь своё мнение.
И Стив начинает понимать, что если и дальше так будет продолжаться, и если он ещё хоть чуть-чуть на неё посмотрит, то он вскоре точно не будет знать, как на себя в зеркало смотреть. И Стив, отведя свой взгляд от Джейн, решает на этом с ней закончить. И он, пропустив Джейн через себя (конечно только образно), даёт указание своему напарнику Стэну, больше обременённому мускулатурой, чем, что-либо другим, чтобы он обратил своё внимание на эту, чем-то неизвестным подозрительную даму. Ну а Стэн, тут же проявляет неповоротливость своего ума, прямиком обернувшись в сторону Джейн и, не совсем тихо спросив Стива:
– А в чём она подозревается?
– Тьфу, на тебя. – Досадно махнув рукой на Стэна, более чем туманно выразился Стив. Что было понято Стэном, как полностью полагаться на свой ум. И он положился, принявшись не украдкой везти наблюдение за этой девушкой, которая пройдя чуть дальше вперёд в холл, не пошла дальше вслед за всеми, а остановилась на распутье двух направлений пути, где один вёл влево, ну а другой, само собой направо.
И хотя Джейн была прекрасно подготовлена к этой операции, она досконально изучила схематическое расположение этого дома, известного всем своей белизной и громкой тишиной, – любой чих в нём, если он чихается в кабинете министра финансов, насморком отдаётся во всём мире, – до последнего шага и наименования комнат знала весь свой путь к нужному кабинету, она всё же не стала проявлять самодеятельность, и сейчас ждала на этот раз чётких и, исходя из сложившихся обстоятельств – группа журналистов с кем она прибыла, начала своё движение по направлению зала для конференций – скорых указаний от Слоуна.
Ну а Слоун, как, в общем-то, и ожидалось Джейн, взялся за это дело слишком ретиво и с трудом её ушам выносимо – он вовсю использовал это своё уж больно завидное положение. И даже складывалось такое впечатление, что он всю жизнь только к этому и шёл, а как дошёл, так и впал неуёмную глупость и в неуправляемость даже самим собой. Хотя его понять можно. Вполне вероятно, что ему дома и слова сказать не дают и вечно рот затыкают, – немедленно захлопни хлебало! – а тут чуть ли не прислушиваются к каждому его слову. Да что там прислушиваются, когда его слова служат руководствам к действию, и не просто спецагента Джейн, а самой соблазнительной и привлекательной сотрудницы в их спецслужбе (настырно-веснушчатая, до чего же противная Скарлетт, единственная, кто мог бы ей создать конкуренцию на женском поле, не идёт ни в какое сравнение с ней).
Ну и Слоун, начал зарываться, что понятно в одном – власть вскружила голову, – а не понятно в другом, почему это не было предусмотрено никем, и к нему не был никто приставлен (та же Скарлетт).
– Чё, встала? – сразу же начал измываться над Джейн этот подлый Слоун. Как будто не знает почему. Но ему этого мало и он в следующем, полном язвительности вопросе, прибегает к косвенным оскорблениям. – Чё, уставилась, как баран на новые ворота? – И, конечно, такое слышать в свой адрес, ни одна уважающая себя девушка не стерпит (какой она баран, а за овцу, ух как ответишь), и обязательно среагирует. Но так как обстоятельства нахождения Джейн здесь, в проходной гостиной этого дома, полного людей специального назначения, которые совсем не спят, а проявляют повышенное внимание ко всему окружающему, можно назвать более чем стеснёнными присутствием этих людей и правилами поведения допущенных сюда людей, то она только и смогла сделать, что стать нервно-пунцовой (в этом доме все области жизни классифицированы по своим специализациям, и здесь всё больше находятся, а местами и присутствуют, только специально допущенные сюда люди).
И если сидящему на своём краю, за пределами видимости Джейн и самого этого дома, а для себя в безопасности Слоун, мог только догадываться, к чему привели его слова, – надеюсь, что до слёз, – то находящийся по долгу своей службы на посту человек великанской наружности, в чьём ухе, судя по косвенным фактам, исходящей оттуда пружинки, тоже находился наушник, – а это так сказать, сближает, если поставленные перед вами цели не противоречат друг другу, – быстро приметил стоящую в растерянности Джейн и подошёл к ней поинтересоваться о причинах её задержки.
– С вами всё в порядке, мисс? – спросил Джейн сотрудник дружественных спецслужб, но только не в данном случае (Стэн проявил неповоротливость и подзадержался).
– Да вот, что-то в глаз попало. – Быстро находит выход из создавшегося положения Джейн, посмотрев в упор в глаза подошедшему сотруднику службы безопасности. Ну а эти глаза и с дальнего расстояния отлично себя зарекомендовали по части повышения сердечного ритма и пульса у людей склонных заглядывать в глаза незнакомок, а что уж говорить о том, что они с такого ближайшего расстояния не смогли не оказать своего завораживающего действия на этого сотрудника, непривычного к такого рода взглядам на себя. Теперь готового на всё (даже нарушить протокол или регламент – всё равно он не знает, что это такое), чтобы угодить этой прекрасной мисс.
– Провожать не надо. Дальше я сама. – Отпустила от себя Джейн этого сотрудника, готового, как говорилось выше, пойти на некоторые нарушения. После чего она, быстро скрывается за первым угловым поворотом, и пока вроде никого не видно, начинает возмущаться на действия Слоуна, которые ведут к провалу всей операции. – Ты что, сволочь, делаешь?!
Но Слоуну легко рассуждать, он находится где-то там далеко и в безопасности. И если раньше Джейн всегда выходила победительницей из споров, то сейчас Слоун, вовсю используя свой технический ресурс, умело одерживает верх в этом споре. – Он тебя чем-то от всех остальных отличил и вёл за тобой пристальное наблюдение. И другого способа, как спровоцировать тебя на красоту и как результат, отвадить этого обалдуя, не было. – Сказал Слоун, и Джейн даже осталась довольна, что о ней так было замечено. При этом она не стала задумываться о том, каким образом Слоун смог увидеть всё то, что происходило у парадного входа в этот дом.
Что, в общем, лишне. Ведь если ты так скрытно начинён спецтехникой, способной передавать звуковой сигнал на огромные расстояния, то уж видеть сквозь стены, не такая уж не решаемая задача. Правда, никогда не будет лишним забывать и о том, что если в одной ушной раковине появляется такое специальное средство, то это всегда ведёт к тому, что и в других ушах появляются такие же точно средства доставки звуков. И при этом это не предел. И кроме этого спецоборудования, стоящего на вооружения спецслужб, у этих спецслужб имеется масса и другого оборудования, способного не только вести приём сигналов, но и при случае их заглушать, распознавать и по своему желанию вмешиваться. Но такие знания или всего лишь догадки, не способствуют уравновешенности и спокойному дыханию. А оно ещё понадобится Джейн.