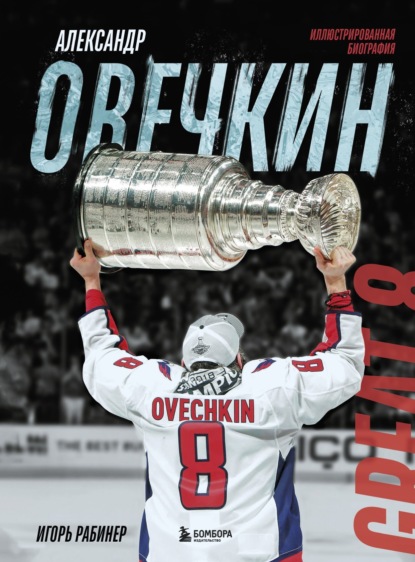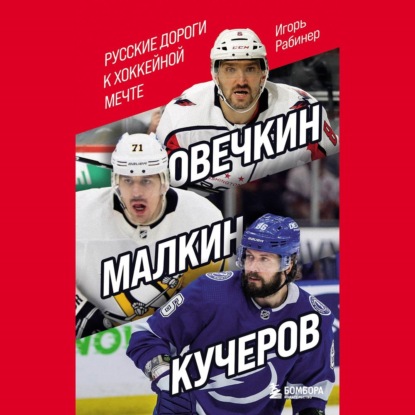Полная версия:
Игорь Яковлевич Рабинер Спартаковские исповеди. Классики и легенды
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Игорь Рабинер
Спартаковские исповеди: классики и легенды
Литературные редакторы А. Мурник, Я. Рабинер

© В коллаже на обложке использованы фотографии:
© Дмитрий Донской, Леонид Доренский, Владимир Федоренко, Валерий Шустов, Владимир Родионов, Игорь Уткин, Александр Вильф / РИА Новости
© Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
© Игорь Уткин, Владимир Родионов, Юрий Иванов, Леонид Доренский, В. Красинская, Дмитрий Донской / РИА Новости;
© Архив РИА Новости;
© Уткин Игорь, Ун Да-син Вячеслав / Фотохроника ТАСС
© Фотохроника ТАСС
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
Еще со времен первого главного редактора «Спорт-Экспресса» Владимира Кучмия в нашей редакции бытует поговорка: «Спартака» в «СЭ» много не бывает!» Красно-белые – команда настолько популярная, что новостей и материалов о ней читатель ждет каждый день и в любых количествах.
Но писать о «Спартаке» можно по-разному. Игорь Рабинер с первых лет жизни «СЭ» делает это не поверхностно, а с талантом, глубиной и… любовью, которой почти не скрывает. Репортаж о победном финале Кубка России 1994 года, первом для спартаковцев в новой стране, вышел в нашей газете за его подписью! Так постепенно наш обозреватель и превратился в бесценного автора, на глазах которого прошла вся история «Спартака» российских времен – тогда как историей советских он был увлечен с детства. Недаром его вымпелы с автографами спартаковских звезд 80-х годов красуются в музее «Спартака», которым руководит еще один бывший журналист нашего издания Алексей Матвеев!
В этом году «Спартаку» – сто лет, и я не сомневался, что признанный спартаковед Рабинер не промолчит, посвятит этой дате книгу. Оказалось – даже двухтомник. В нем история великого клуба рассказывается голосами тех, кто ее творил, – футболистов, тренеров, руководителей, комментаторов. Идея, на мой взгляд, замечательная. Еще и потому, что в исполнении автора каждый герой говорит не как все, а своим, ни на чей не похожим голосом. Для каждого болельщика красно-белых, убежден, это обязательное чтение.
МАКСИМ МАКСИМОВ,
главный редактор

Предисловие
И жизнь, и слезы, и «Спартак»
В 2022 году футбольному «Спартаку», команде, которой я поклоняюсь с шести лет, исполнилось сто.
Или не исполнилось.
Как ни старался, так и не смог по-настоящему увлечь себя дискуссией и с головой нырнуть в один из лагерей, на которые разделились поклонники красно-белых: какой год рождения моего любимого футбольного клуба правильный – 1922-й или 1935-й. И среди болельщиков не то что единства – явно преобладающей точки зрения нет. Запустил в своем телеграм-канале «РабиНерв» опрос на эту тему, и из более чем пяти тысяч участников 41 процент оказался за официальный ныне 22-й. А за 35-й (на стороне этой версии – авторитетнейшие Никита Симонян и Евгений Ловчев) проголосовали 59 процент. Не совсем пополам, но недалеко!
Для меня это не тот вопрос, в котором считаю принципиальным жестко и категорично вставать на чью-то сторону. Это не тема чести и совести, подразумевающая четкую позицию, – это тема тонких исторических трактовок. В конце концов, клуб – не человек: у того есть конкретный день рождения, зафиксированный в ЗАГСе. И то у некоторых футболистов паспорта переписаны; а многие годы ходила легенда – и она, по-моему, не опровергнута, – что сам основатель «Спартака» Николай Петрович Старостин на самом деле был 1898-го, а не 1902 года рождения.
Что уж тут говорить о командах со сложной и запутанной биографией. Их величие определяется не возрастом. Поэтому оставлю за каждым из вас право решать для себя, справедливо ли празднование «Спартаком» столетнего юбилея именно сегодня, в 2022-м.
Всех, кто считает, что «Спартак» родился 18 апреля 1922 года, от всей души поздравляю сейчас. Тех, кто убежден, что 19 апреля 1935-го – даст бог, поздравлю через тринадцать лет. И тоже от всей души. Потому что не собираюсь делить красно-белых на правоверных и еретиков. «Если разрезать тебя напополам, одна половина будет красная, а другая – белая», – сказал когда-то Николай Старостин Никите Симоняну.
Я не хочу резать что-либо красно-белое.
* * *Коллега Алексей Лебедев недавно напомнил историю, которую сегодня невозможно представить. Нам с ним не было и двадцати, мы уже что-то писали – и очень хотели поехать на легендарную спартаковскую базу в Тарасовке, проникнуться атмосферой, поговорить с людьми. На каком-то мероприятии нам удалось перехватить Николая Петровича Старостина, мы представились, изложили суть дела. Он спокойно ответил, чтобы подходили в такие-то день и время к метро «Сокольники» – оттуда команда отъезжает на базу. И нас возьмут с собой.
Мы, конечно, обалдели. Но в силу юношеского разгильдяйства опоздали минут на десять. Никого не было. Расстроились страшно – упустили счастливый случай! И вдруг начали появляться игроки – один, другой… А потом и сам Николай Петрович. Оказалось, отъезд – на час позже того времени, которое он нам сказал. И при этом Старостин ничего не перепутал. Зная, что у молодых ветер в голове, и учитывая возможность опоздания, специально сориентировал нас на час раньше! И, как выпускник царского финансового училища, рассчитал – если терпеливые, то дождутся.
Дождались. И поехали с командой в автобусе. И поговорили в Тарасовке с теми, с кем хотели. Никаких оград и секьюрити вокруг базы в ту пору не было. На тренировки приезжали болельщики. А сам Николай Петрович всегда брал последнее слово на установках, и у него всегда находилось что сказать. Или сделать. Одна прибитая газетой муха в день дерби с бело-голубыми со словами «У, “Динамо” проклятое!» стоила всех сказанных перед тем слов тренера Гуляева.
Вот таким был Николай Петрович, который никогда не строил стен между собой и людьми. Ездил на метро и, когда его узнавали, всегда интересовался у болельщиков, что те думают о команде и отдельных игроках. А потом передавал это футболистам. Чтобы знали. Чтобы не теряли связи с теми, для кого они играют.
Среди этих людей гораздо чаще нынешнего встречался «добрый зритель в девятом ряду», как в песне на стихи Игоря Шаферана, спартаковского болельщика, которую пел Аркадий Райкин. Теперь же эта доброта и способность прощать и сопереживать куда-то делись, и дай малейший повод (а иногда и его не нужно), зашкаливают негатив и ненависть. Впрочем, разве только вокруг «Спартака» и футбола? Разве это – не о всей нашей жизни?
Тот болельщик верил Старостину больше, чем самому себе. Только представьте, как бы нынешняя категоричная аудитория отреагировала на решения а) сделать главным тренером Никиту Симоняна, который только что еще выходил на поле в составе «Спартака» и б) поставить на этот пост Олега Романцева, высшее достижение которого – десятое место в первом дивизионе. Причем сразу после Константина Бескова с его двенадцатью годами во главе команды, двумя чемпионскими титулами и еще семью подряд медалями других достоинств. Что бы творилось, будь тогда интернет и соцсети.
Но и то, и другое решил Старостин, а в отношении созданного им клуба чутье его не подводило. В итоге Симонян c о Спартаком выиграл два чемпионата и три Кубка СССР, а Романцев – одно первенство Союза и восемь – России, один Кубок СССР/СНГ и три – России. И если Олег Иванович взял золото сразу, то Никита Павлович начал с шестого места. Сейчас при таких раскладах вероятности удержаться в «Спартаке» у него не было бы никакой. А тогда Старостин проявил терпение, и на третий год чемпионство пришло.
Когда я захожу в потрясающий музей «Спартака» (в котором, если вы болельщик красно-белых, обязаны побывать), то один из первых артефактов, который бросается в глаза, – надтреснутые очки Старостина. Через них он видел больше и отчетливее, чем кто-либо в истории клуба. Сказать, что с основателем «Спартаку» повезло, – значит не сказать ничего. И как же его не хватает сейчас!
Часто вспоминаю о Николае Петровиче, который был для меня богом, когда я рос, и чья книга «Звезды большого футбола» была у меня настольной. И кляну себя за то, что не успел сделать с ним большое интервью – об основании и истории «Спартака», о сталинских лагерях, о красно-белых людях. Даже в возрасте за девяносто он сохранял ясность ума и феноменальную память – вот и Александр Мостовой, и Андрей Тихонов рассказывают, как начальник команды читал футболистам в автобусе наизусть длиннющие поэмы. И как считал на деревянных счетах быстрее любого человека, втрое моложе него и вооруженного калькулятором.
Четыре года при жизни Старостина я работал со «Спартаком», имел доступ в раздевалку и в Тарасовку. Ну, в 1995-м Николай Петрович был уже слаб, но три-то предыдущих года куда я смотрел, о чем думал? О текущих событиях, которые мы с ним в небольших форматах и обсуждали, – когда, например, он высказал недовольство инициативой футболистов убрать с поста президента клуба своего ставленника Юрия Шляпина?
Досада на себя, на свое неумение видеть за деревьями лес после ухода Старостина сидит во мне до сих пор. И однажды – это было уже больше десяти лет назад – она побудила не повторять прежних ошибок и сделать книгу монологов великих спартаковцев разных поколений, «Спартаковские исповеди», расширенную и дополненную версию которой вы держите в руках. Я рад, что успел это сделать, – ведь скольких ее героев с нами уже нет!..
Дай бог здоровья остальным!
* * *Черенков был и остается моим любимым футболистом всех времен и народов, Маслаченко – любимым комментатором. Конечно, у них не обходилось без ошибок – а кто не ошибается? Главное – как ты на эту оплошность реагируешь. И заносишься ли при успехах.
Федя – тот вообще уходил в себя, замыкался, как только его начинали прилюдно хвалить. Ему становилось стыдно. Зато, когда Валерий Карпин, ноунейм, только что пришедший в «Спартак» из воронежского «Факела», после проигрыша одесскому «Черноморцу» и результативной ошибки сидел в раздевалке, обхватив голову руками, и плакал, Черенков подошел к нему и тихо, со своей всегдашней мягкой интонацией сказал: «Валера, не плачь. Ты еще обязательно принесешь пользу “Спартаку”!» Может, потому, что великий Черенков нашел нужные и своевременные слова, Карпин тогда не загнал себя и стал в итоге большим футболистом.
Только для себя самого Федор находить их не мог – и на время таких тяжелых периодов ложился в больницу. Но, несмотря на пропущенные из-за этого месяцы и годы, провел больше всех матчей за «Спартак». И любили его люди особенно нежно, трепетно, благодаря его футбольному гению и тому, что представляли, пусть и не детально, проявления недуга, с которым Федору приходилось постоянно бороться. И слезы во время прощального матча Черенкова в 1994 году против «Пармы», когда Тамара Гвердцители пела «Виват, король!», а он совершал круг почета на плечах Дмитрия Аленичева – наверняка самые светлые в жизни каждого, кто видел это на стадионе или по телевизору.
Только он мог сказать более двадцати лет спустя такую фразу о своем юбилейном голе, забитом «Днепру» с более чем спорного пенальти: «Много лет меня мучила совесть из-за сотого гола». И его не нужно было называть по фамилии – когда говорили «Федя», все и так понимали, о ком речь.
А Маслаченко, человек фантастических харизмы, вкуса и жизнелюбия?! Обладатель самой живой, незаштампованной речи из всех советских футбольных комментаторов. Его русский язык и его «фишечки» были продолжением его самого, визировавшего интервью так: «Проверено! Мин нет!»
Я ведь не случайно сказал об ошибках и реакции на них. Вот одна история, полностью ее знают немногие. В 1993 году «Спартак» разгромил ЦСКА, 6:0. Хет-трик сделал Игорь Ледяхов. Но Владимир Никитович, комментируя матч из кабины «Лужников», глядя на какой-то жутко маленький, черно-белый, замызганный экран, отчего-то принял Ледяхова за Андрея Гашкина. И весь матч восхищался тем, что творит новичок «Спартака». Но ближе к концу игры на бровке, чтобы выйти на замену, появился… Гашкин. Маслаченко, увидев это и все поняв, на минуту замолк. А потом сказал на всю страну: «Ошибаются не только вратари, но и комментаторы». И извинился.
Но это еще не конец истории. О том, что было дальше, мне много лет спустя рассказал сам Ледяхов, когда Владимира Никитовича уже не было в живых. Оказывается, после того матча Маслаченко пришел в раздевалку «Спартака», чтобы извиниться (!) перед полузащитником. Тот, едва с поля, долго не мог взять в толк, о чем речь. А когда понял, был просто потрясен поступком знаменитого человека, который вполне мог махнуть рукой на свой ляп и забыть его в следующую секунду, но посчитал себя обязанным пойти вниз и лично, в глаза, принести игроку извинения.
Потому что для тогдашних спартаковцев понятие совести и ее угрызений было не чем-то эфемерным, не просто словесной конструкцией. Фраза Андрея Старостина «Все потеряно, кроме чести» стала неотъемлемой частью красно-белого гена. Да, где-то к этому примешивался и элемент мифологии – допустим, в легендарной истории с просьбой капитана сборной Игоря Нетто к судье не засчитывать мяч Игоря Численко на ЧМ‑1962, поскольку он пролетел в боковую дырку в сетке, как выяснилось, было гораздо больше преувеличения, чем правды. Но мы-то, маленькие болельщики «Спартака», росли с абсолютным убеждением, что так и было, и так и надо, и цель не может оправдать средства! Разве это плохо?
Представляю, что случилось бы с братьями Старостиными и тем же Нетто, если бы они услышали, как десятилетия спустя президент клуба Андрей Червиченко в интервью называл «Спартак» «геморроем». Или если бы они увидели, как при его кратковременном правлении случились увольнение Олега Романцева после выигранного трофея (не случайно их, этих трофеев, вообще не будет следующие четырнадцать лет), омерзительный бромантановый скандал, взаимная непереносимость с болельщиками своего же клуба… Я ведь потому и назвал первую свою книгу о красно-белых «Как убивали “Спартак“», что в те несколько лет не только команда опустилась на низшее в своей российской истории десятое место, но, что куда важнее, были попраны главные принципы и идеи, на которых «Спартак» и его поклонники росли и жили.
Одним из этих главных принципов была демократия. Как ярко рассказывали те же Симонян или Исаев о тренировках, обсуждении состава и игровых эпизодов в звездном «Спартаке» 50-х между игроками во главе с капитаном Нетто, главным тренером Гуляевым и Старостиным! Футболисты свободно могли ляпнуть такое, за что из любой другой команды вылетели бы со свистом. А тут – рабочий процесс, не более. И все – ради дела, а не «я начальник – ты дурак».
Николай Петрович вообще создал систему, в которой не было места приказному стилю или взаимоотношениям, основанным на страхе. Какую-то несоветскую систему. Однажды мы с Евгением Ловчевым обсуждали, почему самые яркие футбольные эксперты старших поколений вышли именно из «Спартака» (помимо самого Евгения Серафимовича, вспомнили Юрия Севидова и Александра Бубнова). Вывод был однозначным: потому что если в большинстве других клубов к футболистам относились по-советски, то именно и только в старостинском «Спартаке» у игрока было право слова. И они за много лет научились не бояться того, что скажут вслух. По крайней мере, о футболе.
Потому-то, чувствуя все это на инстинктивном уровне, к «Спартаку» в те времена и тянулась интеллигенция, которой причастность к этой команде давала чувство хоть какой-то, но свободы. Это был клуб, в котором ценили Человека. Многие выдающиеся футболисты красно-белых играли в «Спартаке» по десять, двенадцать, а то и пятнадцать лет.
Сейчас о таком и подумать странно. Вот взять современный «Спартак». Тренеры с 2003 года (уже почти два десятилетия!) меняются почти каждый год, и не все дорабатывали даже один сезон. Генеральные директора – то же самое. Один раз за столько лет стали чемпионами – и уже через два сезона из костяка золотого состава в команде не осталось никого, кроме Зобнина. Новые руководители распродали всех, как на базаре.
То золото тоже ведь было достигнуто не благодаря, а вопреки. Единственный раз за тридцать чемпионатов России победителем стала команда, поменявшая тренера по ходу сезона (пусть и после первого тура). Массимо Каррера никого до «Спартака» сам не тренировал, не знал иностранных языков. Не играл, не работал и не жил за границей (за исключением ЧЕ-2016). В клуб словно специально наняли тренера, по всем объективным характеристикам не способного выиграть. И после ухода из «Спартака» он ничего не добился. А с ним – стал чемпионом. И это было так по-спартаковски!
Как и то, что оба последних выигранных Кубка России, в 2003-м и 2022-м, совпали с десятым местом, худшим в российской истории клуба.
Значит, чем хуже – тем лучше. А еще – чем лучше, тем хуже.
«Спартак» часто бил мимо ворот, в которых умещалась логика, но при этом выигрывал у нее всухую. Может, за такую иррациональность его и продолжают любить больше и неистовее всех. Она – единственное, что объединяет тот и этот «Спартак». Мой и… современный.
И столько прошло времени, сменилось поколений и людей, что я уже не рассчитываю на долгосрочное возвращение того «Спартака», на котором рос. А просто наблюдаю. Ну, и переживаю, конечно. Хоть я и журналист, но это чувство, зародившееся во мне, шестилетнем, до конца вывести из себя невозможно.
Да и нужно ли?
* * *После двух книг под общим названием «Как убивали “Спартак“» в конце нулевых годов я понял, что задолжал «Спартаку» позитива.
Нет, не владельцу, руководителям, игрокам, работникам офиса.
Я задолжал позитива… самому себе многолетней давности. Мальчишке, влюбленному в «Спартак», мечтающему прочитать и услышать о нем что-то доброе, вдохновляющее, познавательное.
Их ведь столько и сейчас, этих мальчишек! А также взрослых людей и людей в возрасте, которые обожают «Спартак» не меньше, но в поисках хорошего вынуждены отматывать пленку на годы и десятилетия назад.
Туда, где, к примеру, Федор Черенков заставлял нас вскакивать со своих мест и срывать голоса от восторга. Не знаю ни одного настоящего спартаковского болельщика, который рос в восьмидесятых и назовет лучшим футболистом мира кого-то другого, даже Диего Марадону. В противном случае это и не болельщик вовсе. А так, «любитель футбола». Для меня и всех моих единомышленников лучшим был Федя и только Федя.
Как-то раз мне довелось побывать в Концертном зале имени Чайковского и послушать музыку Сергея Рахманинова в исполнении знаменитого пианиста, преданнейшего спартаковского поклонника Дениса Мацуева.
В фойе встретил Черенкова с женой Ириной. И вспомнил слова Мацуева: «Люблю романтиков и творцов. На них все держится. Игра Черенкова, моего любимого футболиста, подобна музыке Шопена. Как у Фридерика каждая нота пропитана утонченным романтизмом, так у Федора – каждый пас».
Когда еще до выхода Мацуева на сцену мне удалось сообщить ему о приходе Черенкова, восторгу музыканта не было предела.
На следующий день пианист признался: «Ни на секунду своего выступления я не забывал, что в зале – Черенков. И это придавало моей игре особые эмоции». А услышав о том, что у спартаковца возникли сложности с местами в зале, воскликнул: «Что же вы мне сразу не сказали? Да Черенкова я бы хоть рядом с фортепиано посадил!»
Вот какую память должны оставлять о себе большие футболисты. Такие игроки заслуживают книг, сценариев, фильмов.
В середине нулевых я беседовал с голкипером «Челси» Петром Чехом, и он рассказал: «После Евро‑88 я повесил в своей комнате в Пльзене портрет Рината Дасаева. Он был одним из лучших вратарей мира, а еще мне запомнилось, что он был капитаном, хотя стражам ворот повязку дают редко. Родители до сих пор живут в той квартире на первом этаже пльзеньской многоэтажки. А я до сих пор помню то фото Дасаева в красном… нет, синем свитере, в котором он защищал ворота сборной СССР в финале чемпионата Европы».
Кто-то из старых журналистов в начале девяностых предварял свой очерк потрясающим подзаголовком-разъяснением: «Не о забитом и пропущенном, а о забытом и упущенном».
Такой должна быть и эта книга.
Идея ее первого издания созрела ближе к осени 2010-го.
Еще в начале того года я думал о другом – перемежать в книге главы о суровой реальности воспоминаниями о прошлом. Тогда и состоялась, как выяснилось, моя первая беседа для нее – с лучшим бомбардиром в истории «Спартака» Никитой Симоняном.
Сказать, что я был в восторге, – значит не сказать ничего. У меня возникло чувство прикосновения к вечности. И не какого-то святочного, стерильного, искусственно-пафосного. А очень живого, смеющегося и плачущего, дающего потрясающее ощущение того времени, когда Никита Палыч играл и тренировал. С анекдотами и острыми углами, неожиданными откровениями об исторических фигурах и конфликтами, проявлениями высочайшего уровня культуры и здоровым футбольным матерком. И все это было настолько важнее, глубже повседневности…
В начале 2000-х вышла в свет спартаковская энциклопедия, в создании которой я тоже поучаствовал. И раньше, и сейчас публиковались автобиографии знаменитых футболистов, в том числе и красно-белых.
А вот книги, составленной из монологов легенд «Спартака» разных поколений, еще не было. Этаких мини-автобиографий.
Впрочем, нет, не автобиографий. Исповедей.
Спартаковских исповедей.
Главная идея этой книги – чтобы вы, читатель, увидели всю (ну, или почти всю) историю «Спартака» глазами его выдающихся людей. Чтобы вы хоть немного побыли ими.
Какие-то события наверняка происходили несколько иначе, чем их описывают герои книги. Но я принципиально решил не подвергать эти воспоминания дотошной правке. Потому что тогда это были бы уже не исповеди.
То, что вы прочитаете, – не сухой, исторически объективный, выверенный до буквы очерк об истории «Спартака». А коллективный автопортрет команды, вдохновенно написанный ее настоящими героями. Моим делом было лишь переложить их удивительные рассказы на бумагу.
Много лет назад мне довелось побывать в Риме (тоже спартаковское, в прямом смысле слова, место, не правда ли?) у стен Колизея. Вокруг – десятки тысяч камней, древних раскопок, чудес археологии.
Мне безумно повезло с гидом. За часа три прогулки она оживила все эти камни, поведала о каждом из них массу увлекательных историй – восхищавших, изумлявших, возмущавших. Древняя цивилизация словно восстала из этих руин.
Надеюсь, что «Спартаковские исповеди» станут для кого-то из вас тем же, чем для меня – рассказ того гида. Только рассказчиками – откровенными, свободными, яркими – будут те, кто эту историю и делал. Эти люди не уходят от трудных тем. Избегают банальщины, общих мест. Порой выясняют отношения и выплескивают обиды – и это спустя десятилетия-то! Иногда бичуют и себя.
Ни один из полутора десятков разговоров, продолжавшихся от двух до пяти часов, меня не разочаровал. Надеюсь, не разочарует и вас.
Когда-то Николай Губенко снял фильм с Евгением Евстигнеевым, Натальей Гундаревой и другими замечательными актерами под названием «И жизнь, и слезы, и любовь». Болельщики красно-белых легко и естественно могли бы заменить любое из трех слов в этой фразе на «Спартак». Он ведь для них и есть – любовь, и слезы…
И жизнь.
Никита Симонян
«Василий Сталин сказал: спасибо за правду. Играй за свой “Спартак”»
Пусть ему в то время было не девяносто пять лет, как сейчас, а восемьдесят четыре, но, часами завороженно слушая Никиту Павловича, в это невозможно было поверить. Перед глазами живой легенды мирового футбола (именно так назвал Симоняна в разговоре со мной тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер) прошла почти вся история «Спартака», память его – феноменальна. Всем, у кого есть возможность и кому небезразличны красно-белые цвета, с ним надо говорить и говорить. Записывать и записывать. Не делать этого – преступление, в чем я лишний раз и убедился, на протяжении четырех часов наслаждаясь беседой с Никитой Павловичем – четырехкратным чемпионом СССР в качестве игрока «Спартака» и двукратным – в роли его главного тренера (еще один раз он выиграл первенство во главе ереванского «Арарата»).
Мы общались в спорткомплексе «Олимпийский», ныне снесенном, во время Кубка чемпионов СНГ 2010 года. За окном леденила кровь январская стужа, а в пресс-центре арены на проспекте Мира я с каждой минутой все больше погружался в совсем другую жизнь. С точки зрения души и человеческих отношений – несравнимо более теплую. И естественную. Такую, каким в симоняновские годы был сам «Спартак».
Никита Павлович и сейчас говорит громко, красиво, чеканя каждое слово. А уж тогда… Какой это был подарок пожилым сотрудникам пресс-центра Кубка Содружества – вы не представляете. Я краем глаза видел их лица. Они замерли, напрочь забыв о суете. Перед ними заново разворачивалась история их молодости, их футбола.