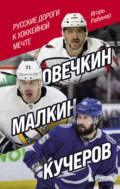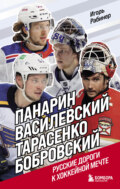Игорь Рабинер
Спартаковские исповеди. Классики и легенды
Никита Симонян
«Василий Сталин сказал: спасибо за правду. Играй за свой “Спартак”»
Пусть ему в то время было не девяносто пять лет, как сейчас, а восемьдесят четыре, но, часами завороженно слушая Никиту Павловича, в это невозможно было поверить. Перед глазами живой легенды мирового футбола (именно так назвал Симоняна в разговоре со мной тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер) прошла почти вся история «Спартака», память его – феноменальна. Всем, у кого есть возможность и кому небезразличны красно-белые цвета, с ним надо говорить и говорить. Записывать и записывать. Не делать этого – преступление, в чем я лишний раз и убедился, на протяжении четырех часов наслаждаясь беседой с Никитой Павловичем – четырехкратным чемпионом СССР в качестве игрока «Спартака» и двукратным – в роли его главного тренера (еще один раз он выиграл первенство во главе ереванского «Арарата»).
Мы общались в спорткомплексе «Олимпийский», ныне снесенном, во время Кубка чемпионов СНГ 2010 года. За окном леденила кровь январская стужа, а в пресс-центре арены на проспекте Мира я с каждой минутой все больше погружался в совсем другую жизнь. С точки зрения души и человеческих отношений – несравнимо более теплую. И естественную. Такую, каким в симоняновские годы был сам «Спартак».
Никита Павлович и сейчас говорит громко, красиво, чеканя каждое слово. А уж тогда… Какой это был подарок пожилым сотрудникам пресс-центра Кубка Содружества – вы не представляете. Я краем глаза видел их лица. Они замерли, напрочь забыв о суете. Перед ними заново разворачивалась история их молодости, их футбола.
* * *
– 26 декабря 2009 года на стадионе имени Игоря Нетто на Преображенке я участвовал во встрече ветеранов «Спартака» многих поколений. Такие встречи в последние годы вошли в добрую традицию. Клуб собирает чуть ли не до ста человек, поздравляет с наступающим Новым годом, накрывает стол, вручает подарки. И это здорово, потому что позволяет всем нам чувствовать себя одной семьей. От олимпийских чемпионов Мельбурна‑1956 – Парамонова, Исаева, Ильина и меня – до ребят, игравших в «Спартаке» в девяностых годах. Я одиннадцать лет отдал родному клубу как игрок, еще столько же – как старший тренер, и мне есть чем поделиться, что вспомнить. Многим другим – тоже. Убежден, что без идеалов и традиций настоящего клуба быть не может. И на таких вот предновогодних встречах мы острее ощущаем необходимость в преемственности поколений.
Сейчас в это трудно поверить, но судьба складывалась так, что я должен был стать торпедовцем. Переехав в 1946-м в Москву из Сухуми, играл за «Крылья Советов». Но в 1948-м эта команда заняла последнее место, и ее было решено распустить, а игроков по разнарядке распределить в другие клубы. Вот меня и направили в «Торпедо».
Но я хотел в «Спартак». Ведь туда из «Крыльев» перешли оба тренера – Абрам Дангулов и Владимир Горохов, и они позвали меня с собой. Сказали, что сделают из меня второго Боброва, в ЦДКА лучший бомбардир, но не всего чемпионата-1947, и чье имя гремело повсюду.
У Горохова, которого считаю своим вторым отцом, я три года проспал на сундуке в темном чулане. С жильем тогда, после войны, был полный караул, люди в основном жили в бараках. Вот Горохов меня и приютил. Но спать, кроме чулана и сундука, было негде: я подкладывал матрац – такая вот «кровать» и получалась. Бывало, что они с женой приглашали меня в свою комнату, но спустя неделю Владимир Иванович начинал ходить вокруг меня и сопеть.
– Понимаю, вам нужно супружеские обязанности выполнять, – кивал я. И шел на свой сундук.
Этому человеку принадлежала инициатива пригласить меня из Сухуми в «Крылья», когда я во время сборов сыграл два матча против их юношеской команды. Горохов стал для меня родным, и мне невозможно было представить, что придется играть против его команды.
И я подал заявление в «Спартак». Была и другая причина: в нападении «Торпедо» блистал Александр Пономарев, и я, еще неоперившийся, понимал, что конкуренции с ним не выдержу. Много лет спустя Пономарев говорил мне, что зря я не пошел в «Торпедо» – ставили бы нас вдвоем, и мы терзали бы всех. Но сомневаюсь. Потому что по характеру Пономарев был ярко выраженным лидером и, окажись я результативнее него, он воспринял бы это очень болезненно. Конкуренции не потерпел бы. Так что я все решил правильно.
Но официально я должен был оказаться в «Торпедо», и устроить переход в «Спартак» было непросто. Как-то рано утром за мной приехала машина. И отвезли меня не к кому-нибудь, а к директору будущего ЗИЛа – тогда он назывался ЗИС, Завод имени Сталина – Лихачеву, человеку влиятельнейшему. Если бы тот наш разговор сейчас показали по телевизору, было бы сплошное «пи-и» – мат шел через слово.
– Как ты до такого додумался – за этих тряпичников играть?! – бушевал Лихачев.
Я все это выслушал и сказал:
– Иван Алексеевич, все-таки я хочу в «Спартак».
– Ладно, иди играй за свой «Спартак», – резюмировал директор. – Но запомни, что тебе дороги в «Торпедо» никогда больше не будет, даже если у тебя на заднице вырастут пять звездочек.
Ну, это я смягчил, задница была на букву «ж».
Живя в Сухуми, я слушал радиорепортажи, заочно знал капитана «Спартака» Андрея Старостина, знаменитых вратарей – Акимова, Жмелькова. Николай Петрович мне потом говорил, что Жмельков – самый сильный вратарь в истории «Спартака», в тридцатых годах за один сезон он взял восемь пенальти! Сказать, что я прямо-таки болел за «Спартак» в то время, не могу. Главной причиной были тренеры.
* * *
Упорство, необходимое для отстаивания своего права играть за «Спартак», мне нужно было проявлять не только при переходе. В 1951-м, когда я уже играл и вовсю забивал за красно-белых, мы с командой находились в санатории имени Орджоникидзе в Кисловодске. Пошли в санаторный клуб. И вдруг слышу:
– Симонян, на выход!
Выхожу – а там стоит Сергей Капелькин, бывший игрок ЦДКА, и Михаил Степанян. Оба они были адъютантами Василия Сталина – сына вождя и патрона команды ВВС.
– Никита, есть разговор…
Повезли на госдачу, которая была невдалеке от санатория. И начали:
– Василий Иосифович приглашает тебя в команду. Можешь себе представить – вы с Бобровым будете сдвоенным центром, всех на части порвете!
– Из «Спартака» никуда не уйду, – отрезал я.
Попытались зайти и с другой стороны: мол, Василий Иосифович, как депутат Верховного Совета СССР, приглашает тебя на прием. На меня не подействовало и это. Хотя условия он для игроков создавал фантастические – квартиры, которые тогда были наперечет, и прочее.
Самым действенным оказался третий способ – накачали меня спиртным, причем, сволочи, прилично накачали, ха-ха. А потом говорят:
– Слушай, ну ты можешь себе представить: командующий послал военно-транспортный самолет, шестерых летчиков, нас, двух м…ков – и мы приедем, не выполнив задания. Что он с нами сделает?! Никита, знаешь что, давай поедем – а если ты хочешь отказаться, то сделай это у Василия Сталина.
В трезвом состоянии я бы от такой затеи отказался, а тут махнул рукой: ну ладно, поедем. Привезли меня в аэропорт Минвод, в самолете накрыли мехами, за время полета я отоспался.
В Москве нас встречал полковник Соколов, который потом повел себя по отношению к Василию как последний гад. Отвезли меня на Гоголевский бульвар, дом семь, где Сталин-младший жил. Каждый раз, когда проезжаю эти места, вспоминаю…
Посадили меня на диван – и тут выходит Василий Иосифович в пижаме. Мне показалось, что он был уже подшофе. Но, может, только показалось.
И начал с ходу:
– Я поклялся прахом своей матери, что ты будешь у меня в команде. Отвечай!
Может быть, в силу молодости и непонимания серьезности ситуации о последствиях я не подумал. И сказал, что хочу остаться в «Спартаке». Сталин неожиданно спокойно отреагировал:
– Да? Ну иди…
Я побежал вниз. А за мной – его адъютанты. Бегут – и говорят, что командующий просит меня вернуться.
А тогда первым секретарем московского областного комитета партии был Никита Хрущев, городского – Иван Румянцев. И Василий сказал:
– Слышал, ты боишься препятствий со стороны Хрущева и Румянцева? Если в этом дело, то не волнуйся, я с ними договорюсь, улажу.
– Да нет, Василий Иосифович, – отвечаю я. – Прекрасно понимаю, что, если дам согласие, через пять минут буду в вашей команде. Но, знаете, в «Спартаке» благодаря партнерам и тренерам я вроде бы состоялся как игрок. Разрешите мне остаться в «Спартаке».
Вот это его подкупило. Он тут же обратился к своим – а их там было человек шесть – семь:
– Вы слышали? Правда лучше всех неправд на свете! Спасибо, Никита, что ты сказал мне правду. Иди играй за свой «Спартак». И запомни, что в любое время, по любым вопросам ты можешь обратиться ко мне, и я всегда приму тебя с распростертыми объятиями.
Но и это еще не конец истории. Жил я тогда на Песчаной, и часов в девять-десять вечера раздался звонок в дверь. Я решил: опять за мной. Открываю – стоит солдатик. И протягивает мне, как сейчас помню, форму № 28 со звездочкой: «Вам билет на поезд в Кисловодск». Мало того, тут же позвонил Виктор Макаров, который в свое время был председателем российского совета «Спартака», но Сталин-младший переманил его в ВВС:
– Никита, командующий просил проводить тебя на вокзал и ждать, пока не исчезнет последний вагон. Ты ему понравился за правду, а время-то позднее, сам понимаешь…
– Да доберусь я, Виктор Иваныч, что вы!
– Ну, если командующий при встрече спросит тебя, скажи, что я тебя проводил.
Я уехал, и обошлось без всяких приключений. Возвращаюсь в Кисловодск. А меня уже все хватились, никто не может понять, что происходит.
– Где ты шлялся, б…?!
А я решил их разыграть. Подбоченился и говорю:
– Как вы смеете так разговаривать с офицером Советской армии?
– Каким еще офицером?
– Офицером и игроком команды ВВС.
– Не говори глупости.
– Не видите, что ли?
И показываю им эту самую форму № 28.
– Спартаковские болельщики тебе за это морду набьют, – с чувством ответили мне. – И правильно сделают.
Только тут я и объяснил, что это розыгрыш. И рассказал, как все было на самом деле.
Вскоре после смерти отца Василий Иосифович на восемь лет оказался в заключении, которое провел во Владимирском централе. И когда он уже освободился, я как-то ужинал в ресторане «Арагви» и на выходе встретил его.
– Ой, Никита, здравствуй! Как я рад тебя видеть!
Обнялись. Он предложил как-нибудь встретиться, сказал, что ему страшно хочется поговорить о футболе. Я ответил, что готов в любое время. Но вскоре он сбил на машине какую-то старушку, и его отправили на поселение в Казань, где он позднее и умер. А упомянутый мною полковник Соколов, сволочь, дал показания на суде, что, когда я вышел из особняка, в котором Сталин переманивал меня в ВВС, Василий якобы дал указание пристрелить меня где-то из-за угла.
Его похоронили в Казани, но потом перезахоронили на Троекуровском кладбище в Москве. И я каждый раз, когда туда приезжаю, приношу цветы на его могилу. Все-таки в то время он так отнесся ко мне. Не сломал жизнь.
* * *
О причинах многих переходов из одной команды в другую болельщики тогда и не догадывались. Вот, к примеру, случай с Сергеем Сальниковым. Как народ был возмущен, когда он в 1950 году ушел из «Спартака» в «Динамо»! Посчитали это предательством из предательств. Освистывали нещадно. Более того – его и партнеры в «Динамо» игнорировали, тот же Бесков. Мы это видели.
А на самом деле он перешел из благородных побуждений. Его отчим, к которому он с большим уважением относился, по какой-то причине был арестован. Для того, чтобы его вытащить из мест не столь отдаленных или по крайней мере как-то облегчить судьбу, Сальников в «Динамо» и перешел. Но после того, как отчим вышел из заключения, Сережа тут же вернулся в «Спартак».
За это с него сняли звание заслуженного мастера спорта. Но переход разрешили. Помню, играем мы в Донецке (тогда город еще назывался Сталино), и приходит телеграмма: «Лишился заслуженного, приобрел вас» – копия этой телеграммы есть в музее «Спартака». Болельщики спартаковские его быстро простили. Не так отнеслись, как зенитовские к Володе Быстрову, когда он вернулся в Санкт-Петербург…
У меня с переходами, как вы уже поняли, тоже историй хватало. Я ведь мог не только в «Торпедо», но и в тбилисском «Динамо» оказаться. В 1946-м, когда я в «Крылья Советов» перешел, из-за погодных условий игру первого тура чемпионата Союза, по удивительному совпадению, провели в родном Сухуми. Играли против «Динамо‑2», которое потом превратилось в минское «Динамо». Мы выиграли 1:0, я забил, но дело не в этом, а в том, что в день той игры без объяснения причин арестовали моего отца и произвели в доме обыск. Чуть погодя ему сказали:
– Пусть твой сын едет в тбилисское «Динамо» – и мы тебя отпустим.
Отец, гордый человек, ответил:
– Я ни в чем не виноват, а сын пусть играет там, где хочет играть.
У этой истории, к счастью, удачный конец: отца выпустили. О том разговоре он мне уже много позже рассказал. А в тот день я играл, уже зная о его аресте. И имел все основания опасаться за собственную судьбу. Был у меня один знакомый, работавший в комендатуре НКВД, и он сказал мне:
– Никита, у меня есть информация, что после игры тебя должны арестовать и отправить этапом в Тбилиси.
Ко всему прочему, в том матче я еще и травму получил, ходить без боли не мог. Но не поехал со стадиона вместе с командой, а втихую пошел вместе с Абрамом Христофоровичем Дангуловым пешком к сухумскому железнодорожному вокзалу. Сели в поезд и сошли не в Сочи, а на предыдущей станции: мало ли, прознают и встретят. Более того, ребята из «Крыльев», которым я все рассказал, после матча взяли меня в кольцо и вывели со стадиона так, чтобы никто не мог подобраться.
Но на следующий год мне в Тбилиси все-таки пришлось съездить. Тогда в Грузии и, в частности, в Абхазии начались репрессии против нацменьшинств – скажем, из Сухуми отправили два состава греков в Среднюю Азию. И когда председатель НКВД Абхазии Гагуа сказал, что меня «приглашают поговорить» в Тбилиси, родители сказали: сынок, поезжай, а то ведь и нас могут куда-нибудь выслать. Дядю моего, кстати, в итоге все-таки отправили в Среднюю Азию, он там и умер. А родителей не тронули.
Кстати, когда меня спрашивают о секретах долголетия, думаю, что это в первую очередь гены. Если бы мой отец не был очень тяжело ранен во время немецкой бомбежки Сухуми, после чего год неподвижно пролежал, то наверняка прожил бы намного дольше. Я не святой человек. Всегда привожу в пример классика, Андрея Петровича Старостина. Ему было под восемьдесят, и на вопрос: «Как здоровье?» он отвечал: «Грамм на сто пятьдесят»…
В Тбилиси меня встречал великий Борис Пайчадзе. Отвел к заместителю министра внутренних дел Грузии полковнику Гуджабидзе. Он начал:
– Слушай, за кого ты играешь? И грузин, и армян в Москве чурками называют, абреками. Надо играть за Грузию. Мы тебе все сделаем! Дом надо? Дом сделаем!
Я начал изворачиваться:
– Мне в Москву нужно съездить за паспортом.
– Какой паспорт?! Завтра у тебя будет новый паспорт. Захочешь – Симонишвили будешь!
Я вернулся в гостиницу и понял: нет, ни за что не останусь. Написал письмо глубоко мною уважаемому Борису Пайчадзе с извинениями – и уехал.
Все мы на своей шкуре испытали, что такое была та диктатура. Взять хотя бы расформирование в 1952 году «команды лейтенантов», после того как ее костяк в составе сборной СССР проиграл на Олимпиаде в Хельсинки. Я в ту команду, хоть и был лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов страны, не попал: в Леселидзе, где тренировались два состава национальной команды, побывал, но дальше дело не пошло.
Хоть мы, спартаковцы, и были конкурентами армейцев, но оказались в шоке от решения о расформировании. Не помню, чтобы хоть кто-то злорадствовал. Правда, если и обсуждали эту тему между собой, то негромко и осторожно – во всех командах имелись стукачи, система без этого обойтись не могла. Кто именно «стучал», конечно, не знали, но это всегда надо было иметь в виду.
Тем не менее я и тогда считал, и сейчас уверен, что роспуск армейской команды был настоящим преступлением перед отечественным футболом. Потребовалось немало лет, чтобы команда возродилась. А к нам в «Спартак» тогда из армейского клуба пришли Всеволод Бобров и Анатолий Башашкин – футбольные гиганты! Правда, играть со Всеволодом Михайловичем было непросто, поскольку он был настолько жаден к мячу, что, будучи открытым или закрытым, в любой ситуации просил отдать ему пас.
Но какой же это был мастер! До сих пор не могу забыть матч в Киеве, когда один из защитников киевлян грубо выкинул его на гаревую беговую дорожку, и Бобер разодрал себе лицо и плечо. Счет тогда был 0:0, но он разозлился и во втором тайме с двух моих передач забил два фантастических гола. И «Спартак» выиграл 2:0. Так что он, пусть и был великим армейцем, внес вклад в историю нашего клуба не только как тренер-чемпион хоккейного «Спартака», но и как форвард футбольного.
Наши болельщики приняли Боброва и Башашкина хорошо. Отношения между поклонниками «Спартака» и армейцев были доброжелательными или, по крайней мере, нормальными. Главным врагом и для одних, и для других были московские динамовцы. Многие спартаковские и армейские игроки тоже дружили – я, например, с Башашкиным (в пору, когда он играл за «команду лейтенантов»), Деминым, Николаевым. И в «Спартак» Бобров с Башашкиным шли с охотой, не из-под палки, потому что играть-то после роспуска их команды надо было. Хотя это тоже были переходы по разнарядке: их отправили к нам, других армейцев – в другие команды.
Те болельщики отличались от нынешних тем, что после игры поклонники команд-соперниц шли разливать на троих. Но где два человека из противоположных лагерей найдут третьего? Они кричали: «Так, кто Башашкин?» А дело было в том, что этот великий защитник играл под третьим номером. «Башашкин» всегда находился. Люди не дрались, не били друг другу морды, а мирно обсуждали исход игры.
* * *
Для меня дата рождения «Спартака» – 19 апреля 1935 года. До того были разные названия, разные клубы, в которых играли не только спартаковцы, но и торпедовцы, динамовцы, железнодорожники. Он назывался и «Пищевик», и «Красная Пресня», и «Трехгорка». Что же касается столетия клуба, то, извините меня, отношусь к этому не то чтобы негативно, но спокойно. Мой «Спартак» родился в 1935-м. Для братьев Старостиных, а мы долго проработали вместе, датой рождения клуба тоже была эта дата, и я с ними полностью согласен.
Вообще, Николай Петрович – мой кумир. Это человек, который создал «Спартак», он, по сути, и дал мне дорогу в тренерскую жизнь. На поминках его супруги, Антонины Андреевны, я сидел рядом с Андреем Петровичем и Александром Петровичем. И оба говорили о брате, что он великий человек и нельзя это забывать! Абсолютно с ними согласен, для меня он человек «Спартака» номер один.
При Абраме Дангулове «Спартак» после неудачных сороковых годов начал путь к возрождению, выиграв в 1950-м Кубок СССР. Причем по ходу турнира мы обыграли и еще не расформированную команду армейцев, и «Динамо». Благодаря тому Кубку я обзавелся первой своей отдельной квартирой.
До того, после трех лет дома у Горохова, я жил в 15-метровой комнате на улице Горького, ныне – Тверской, на десятом этаже. Малоприятная история. В той «трешке» жил бывший зам Сергея Кирова в Ленинградском обкоме партии Александр Угаров. Потом он был назначен на ту же должность второго секретаря в Москве, а затем его репрессировали. Сына тоже посадили, а комнаты раздали другим людям, в том числе мне. Я ничего об этом не знал – и хорошо. Трудно было бы жить в таком месте, зная его историю. Узнал гораздо позже.
А когда «Спартак» выиграл Кубок СССР в 1950 году, председатель Мосгорисполкома Яснов, наш болельщик, помог почти всей команде решить жилищные трудности. Я получил свою первую полноценную квартиру, «двушку» – на Новопесчаной улице.
При Дангулове и Горохове, тренерах, с которыми я перешел из «Крыльев Советов», мне дважды подряд удалось стать лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В 1950-м я установил тот самый рекорд – 34 гола за первенство, – который удалось побить только Олегу Протасову.
О том, насколько честными были многие из тех голов Олега в «Днепре», говорилось много. Но я к коллеге, несмотря ни на что, отношусь с уважением. Мы сотрудничали в период работы в сборной Лобановского. И ни разу я даже намеком на тот рекорд ему не указал. Но и он на откровенный разговор со своей стороны не шел. Только сам Протасов знает, можно ли получать удовлетворение от таких голов. Когда я видел, как в последнем туре забивались два мяча «Торпедо», – это был просто абсурд. Там вокруг вообще никого не было!
Когда ребята по поводу того рекорда все время над ним подтрунивали, он склонял голову и молча шел в раздевалку. Я ни разу не дал повода для того, чтобы он затаил на меня обиду. В порядке юмора приведу пример. В первом круге Олег забил то ли восемь, то ли девять голов, а во втором круге начал идти на побитие рекорда, забивая в каждом матче по два-три гола. И вот однажды в комнату, где были тренеры и администраторы сборной, вдруг зашел главный тренер «Днепра» Владимир Емец. Борис Кулачков, наш администратор, сказал ему:
– Владимир Александрович, как же так, всем же видно, что вы тащите и договариваетесь, чтобы Протасов побил рекорд Палыча. Но Палыч забивал честные голы.
Этот остроумный стервец сделал паузу и бросил в ответ такую фразу:
– А Стаханов?
Стало ясно, что рекорд будет побит. Но удовлетворен ли Протасов этим достижением – не знаю. Я бы все эти подготовленные мячи специально посылал подальше от ворот, но каждому свое. А то, что он отличный и выдающийся игрок, – без сомнений. Но пошел на это, его дело, такие ценности у людей.
А когда для прессы Олег говорит о том, что на него тогда играла вся команда, хочется спросить: «Скажи, пожалуйста, а всем остальным игрокам вашей команды специально сказали не открываться?» Ведь видно было – все пассивны, стоят на месте, и открывается только один Протасов, которого почему-то не преследуют защитники. Хотя опасность исходит от него одного. То, что разговоры на эту тему ведутся до сих пор, Олегу наверняка неприятно.
Впрочем, вернусь к тем временам, когда такое было невозможно. Тренер Дангулов был уникальным человеком. Со всеми игроками разговаривал на «вы». Матом он на моей памяти выругался только один раз, и единственный же раз за всю мою жизнь из раздевалки проигравшей команды раздавался гомерический хохот. У нас была серия неудач – проиграли в Риге, «горим» в Киеве 0:2. В перерыве он увидел фибровый чемодан Олега Тимакова, подошел к нему – и как двинет ногой этот чемодан, что тот под лавку улетел! И крикнул:
– Да вы, б…ди, наконец будете играть или нет?!
Эта фраза и такое поведение настолько не вязались с личностью Абрама Христофоровича, что мы все дружно… заржали. А потом приехали в Москву – и нас прорвало! Одним шесть забили, другим семь. То есть, выходит, помогла такая мера воздействия!
Бытует стереотип, что в советские времена все тренеры были сплошь диктаторами и на них наложил отпечаток стиль того времени. Не согласен. Взять, например, Бориса Аркадьева – не просто выдающегося тренера, но и образованнейшего, интеллигентнейшего человека. Тренер «Крыльев Советов» Александр Абрамов как-то поинтересовался у него:
– Борис Андреевич, а какие меры вы принимаете, узнав, что ваша команда после игры нарушила режим?
Тот ответил:
– Александр Кузьмич, а после игры меня эта банда не интересует!
Это был самый настоящий западный профессиональный подход. А потом Аркадьев еще и добавил:
– Берегите нервную систему. Как? Очень просто. Лично я после игры прихожу домой, наполняю ванну теплой водой, отключаю телефон и читаю в ванне книгу.
Так же и Гавриил Качалин. Демократ до мозга костей! Но именно он выиграл с советской сборной первый Кубок Европы, Олимпийские игры, а его тбилисское «Динамо» впервые стало чемпионом Союза. Потому что при всем воспитании у Гавриила Дмитриевича была достаточная требовательность к игрокам, к атмосфере в команде, к тренировочному процессу. Мы просто умирали на поле за Качалина, поскольку это был потрясающий человек. Поэтому не важно, кто тренер по стилю – либерал или диктатор. Главное, чтобы он выигрывал.
Константин Бесков по характеру был совсем другим. В середине восьмидесятых, когда он работал в «Спартаке», я спрашивал Николая Петровича Старостина:
– Как вам работается с Константином Ивановичем?
– Ну что тебе сказать? – вздыхал Старостин. – Можешь посчитать: год работы с Бесковым – за три, а я с ним работаю уже восемь лет.
Закоренелый трезвенник, Николай Петрович еще и пожаловался мне, что Бесков выпивает. Я в годы работы тренером не представлял себе, что можно до игры выпить даже пятьдесят граммов водки или коньяка. А Старостин говорил:
– Представляешь, Никита, раньше он выпивал до игры, потом стал выпивать после игры, а сейчас – и в перерыве!
Я смеялся:
– Да ладно, Николай Петрович, тут вы уж загнули.
– Нет-нет! Пока он делает указания на вторую половину, в массажной Миронов ему уже готовит. Команда уходит из раздевалки, он – хлобысь! – и пошел.
Но удар Костя, надо сказать, держал. Мог ведро выпить – и не опьянеть. Как и Лобановский. Тот вообще наутро вставал и – на пробежку. Со временем, правда, заменил ее ходьбой.
Притом что у Лобановского результаты были выше, определенные достоинства Бескова нельзя было не отметить. У него был очень хороший вкус на подбор игроков и способность добиться от них прогресса. Это было очень важно, как и комбинационный стиль игры, который он проповедовал. Константин Иванович бывал очень недоволен, если команда выигрывала, но не показывала зрелищного футбола. И все же за почти сорок пять лет работы выиграть всего два чемпионата и три Кубка – на мой взгляд, слишком мало.
Николай Петрович говорил, что в решающие минуты главных матчей Бесков трусил. А перед ними – перегибал с жесткостью. Мне рассказывали, что за день до финала Кубка СССР 1981 года против ростовского СКА команда собралась в холле базы в Тарасовке, игроки шутили, смеялись. Вошел Бесков, увидел все это – и «понес» на них:
– Вы что тут веселитесь? Пошли на собрание!
И на том собрании как начал их чихвостить часа на два – чуть ли не до половины первого ночи сидели. Все позитивное настроение, ожидание долгожданного финала ушло, возникла напряженность – и на следующий день «Спартак» проиграл.
А освободили Константина Ивановича из «Спартака» потому, что он сам хотел уволить Николая Петровича, а также Юрия Шляпина и директора базы в Тарасовке. Летом Бесков написал заявление об уходе – его не удовлетворили, но не разорвали, а положили под сукно. А потом, когда он хотел провести против них эту акцию, – вытащили. Так мне, по крайней мере, рассказывал сам Старостин.
Кстати, что касается Лобановского, с которым мы много лет проработали вместе в сборной СССР, то, невзирая на всю конкуренцию его киевского «Динамо» со «Спартаком», не слышал от него ни одного не то что оскорбительного, а даже обидного, ироничного слова в адрес красно-белых. Он был тренером с большой буквы и относился к конкурентам с большим уважением. Без любви – это конечно. Но без всякой личной неприязни.
Также миф – его неприязнь к Федору Черенкову, которого он якобы поэтому не брал на чемпионаты мира и Европы. Валерий Васильевич боялся за его здоровье. Учитывая те высокие нагрузки Лобановского, которые были равнозначны для всех. Щадящего режима не было ни у кого.
* * *
Меня всегда удивляло, что «Спартак» стали называть «мясом», а уж когда молодые игроки современного поколения стали демонстрировать футболки с надписью: «Кто мы? Мясо!» – удивило еще больше. При чем тут мясо? Вот ЦСКА «конями» давным-давно стали называть, спартаковские болельщики еще много десятилетий назад придумали четверостишие:
Вот раздался стук копыт,
Показалось дышло.
Это ваше ЦСКА
Из конюшни вышло!
А «мяса» в отношении «Спартака» не было. Несмотря ни на какую промкооперацию, помогавшую команде. Было слово «тряпичники», сформулированное, как я уже рассказывал, директором ЗИСа Иваном Лихачевым. А во времена братьев Старостиных спартаковцев называли – «бояре». Вроде как привилегированное общество – театры, бега… Это объяснялось богемным образом жизни, который многие спартаковцы вели.
Но я не хотел бы, чтобы «Спартак» опять стали называть «боярами». Дело прошлое. А недоброжелатели тогда называли нашу команду «тряпичниками», поскольку «Спартаку» помогали частные артели, за ним не стояло никаких силовых структур, министерств и больших заводов. Меня, например, «Спартак» на какое-то время прикрепил к артели «Восточные сладости». Так что, на мой взгляд, команда действительно – народная!
По части богемности особенно выделялся Андрей Петрович Старостин. У него жена была цыганка, Ольга Николаевна. И стиль его жизни я бы назвал цыганщиной. Преферанс, бега, театр… Старостины привлекли к «Спартаку» интеллигенцию и сами были интеллигентами до мозга костей.
Михаил Михайлович Яншин был его близким другом. Андрей Петрович с Николаем Петровичем антиподы были, и проявлялось это даже в том, что если один говорил: «Он здорово играет!», второй обязательно возражал: «Да он играть не умеет!» Спорили до хрипоты. Третий брат, Александр Петрович, тоже с ними всегда не соглашался.
Помню такой случай, когда я тренировал «Спартак». Играем в Москве со «Стоук Сити» – командой, за которую в свое время выступал сам Стэнли Мэтьюз. Первый тайм в воротах Маслаченко, на второй я поставил Лисицына[1]. После игры заходит в раздевалку Александр Петрович, весь красный. Пили они водочку, и, думаю, граммов семьсот в нем уже бултыхалось. И говорит:
– Да, здорово второй тайм сыграл Маслаченко!
– Играл-то Лисицын! – фыркает его брат Андрей.
– Да пошел ты!
– Но я же тебе говорю, что играл Лисицын!
– А я тебе еще раз говорю: пошел ты!
– Ну ладно, ты у Никиты спроси, он же тренер.
– Александр Петрович, второй тайм играл Лисицын, – подтверждаю я.
Тот делает паузу и резюмирует:
– Да? Все равно здорово сыграл!
Обсуждения эти, конечно, велись не при игроках, которые были в душе. Стояли в сторонке и спорили.
Мы, еще будучи игроками, знали, что Старостины родили «Спартак», и нам они казались чуть ли не инопланетянами – по степени уважения, которое мы к ним испытывали. Даже заочно, когда они еще были в заключении. А уж потом, когда Николай Петрович стал начальником команды, не было случая, чтобы он перед игрой не поднял наш дух. Андрей Петрович тоже часто появлялся в команде, Александр – меньше, а Петр – почти никогда.